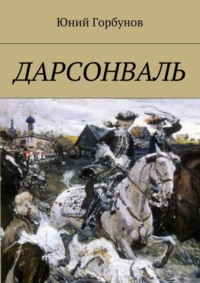Читать книгу: «Дарсонваль», страница 3
ДАРСОНВАЛЬ
Моему Нинуленышу
Когда в рекламном проспекте Анна Петровна прочитала о грязелечебнице Дарсонваля, на нее напахнуло чем-то далеким и неуловимым памятью. Повеяло будто бы знакомым, а откуда – не вспомнить, не угадать. Но она уже решила бесповоротно: раз ей все равно, где провести вдруг подаренные судьбой десять свободных дней, то пусть это будет грязелечебница Дарсонваля. Ее пояснице, то и дело о себе напоминающей, суксунские иловые грязи не помешают.
Собираясь, она вдруг вспомнила – что-то будто ее толкнуло – о папке с рисунками и этюдами молодой училищно-студенческой поры. Пошла в кладовку, взобралась на табурет и осторожно, чтобы не спугнуть многолетний слой пыли, достала ее с самой верхней полки, что под потолком. «Не ахти какая тяжесть, – решила, не развязывая тесемок. – Приеду на место – разберусь».
Автобус, что привез Анну Петровну к остановке «Грязелечебница», был на этот час последним. Он деловито высадил в освещенную желтыми деревьями осень, кроме нее, еще нескольких поздних пассажиров, которые тотчас канули в темноту, и, скрежеща железом, сомкнул двери.
От остановки к манящему огнями зданию грязелечебницы вела выложенная плиткой и слегка восходящая дорожка.
Ее комната была на двух отдыхающих, но вторая кровать оказалась свободной: грязелечебница в последнюю декаду сентября, похоже, сама отдыхала.
Не включая света, Анна Петровна подошла к большому окну и отодвинула штору.
Одинокий фонарь освещал задний двор семиэтажки, окаймленный решетчатым забором. Ничего примечательного: куча щебня, неровная горка ржавых труб, почти игрушечный экскаватор с понуро опущенным ковшом, такой же ненастоящий грузовичок… Но дальше, за оградой, чудесным контрастом восходили к небу сосны. Их сливочные стволы светились до самых верхушек кроны и были одинаково наклонены от опушки к чаще леса – как будто в изящном полупоклоне. Вот-вот приподнимут свои шикарные волконскаитовые шляпы на манер мушкетеров Д'Артаньяна.
Что-то заставило Анну Петровну смежить глаза, и перед ней тотчас возникла картинка…
Она включила свет, бросилась распаковывать чемодан, достала со дна его папку и принялась лихорадочно перебирать разноформатные листки ватмана и картона. Вот! На розовом покрывале кровати лежал стародавний, писаный маслом, этюд: освещенная солнцем опушка соснового леса. Молодые, еще неокрепшие сосны склонили кроны в полупоклоне..
Да не вчера ли это было?
…Она выдавила на палитру весь тюбик охры золотистой, а ее все было мало, и она велела Володьке принести другой из запаса. Нетерпеливо обьясняла, как найти ее чемоданчик в отрядной кладовке, как открыть замок «с секретом», достать завернутые в тряпицу краски.
«Дарсонва-аль! – вдруг осенило ее. Летний месяц в пионерлагере железнодорожников. Канувшее в лету мгновение юности!»
Слепым случаем оказалась Аня вожатой в пионерлагере, что привольно расположился на чистых полянах хвойно-лиственничного бора близ деревушки Дарсонваль, ни прежде, ни затем на ее пути не встречавшейся, не знаемой ранее и прочно забытой потом.
(Дарсонваль… Откуда забрело на Урал это французское имя? Может, по той же оказии, что и Фершампенуаз, Варна или Париж, угнездившиеся близ Магнитогорска?)
Аня мечтала тогда о художественном училище и витала в облаке непреходящего творческого возбуждения.
Рисовать она любила с детских пор, а в школе ее сильно взбодрила своим вниманием учительница Вера Владимировна, то и дело оказываясь у ее парты и направляя нетерпеливую, но такую чуткую к оттенкам ручонку. Писание пейзажных этюдов, натюрмортов с цветами, карандашные наброски встреченных на пути лиц стало у Ани страстью, которая, верилось ей, будет сопровождать ее всю жизнь.
Пройдена школа. Мама устроила ее ученицей наборщика в городскую типографию, но на уме у девушки были только этюдник, краски, пастели, карандаши, мелки… Когда из горкома комсомола пришла разнарядка на пионервожатую, директор типографии с легким сердцем «сбагрил» в лагерь почти бесполезную ученицу метранпажа.
Но и здесь, едва и наскоро отзанимавшись с детьми, она хватала этюдник с масляными и акварельными тюбиками, папку с листами ватмана и картона, находила укромный уголок и затевала очередной этюд.
В столовой, на каком-нибудь спортивном состязании или пионерском сборе она сидела в сторонке с доской, на которой был прикноплен лист, или просто с блокнотиком и набрасывала бесконечные профили лиц, фигуры, плечи, прически… Вечером, когда лагерь угомонится и сквозь сливочные сосны к двухэтажным корпусам пробьется далекий закат, она ловила акварельными мазками его отблески на стволах сосен, почти фиолетовой коре елей и щегольском наряде рябин.
Добровольным пажем был у нее Володька, тоже вожатый из старшего отряда – худой, нескладный и вечно как будто всему удивляющийся юноша. У него было никак не поддающееся Аниному карандашу лицо. Вернее, надо сказать, лицо-то было ей доступно, а вот глаза… большие, чуть навыкате, светло-голубые в крапинку. Они подолгу на нее смотрели, но уловить и передать бумаге их выражение она не умела. И это обстоятельство было вечным поводом ее брюзжания и капризов. Тем более, что поводов было предостаточно. Володька вечно где-то что-то оставлял, следуя за ее перебежками, и Аня, хватившись то мелков, то нужного тюбика, то штихеля, не церемонилась.
– Эй, ты, разиня в крапинку, где посеял мой капутмортуум?
Володька сначала долго смотрел на нее, словно бы получив на то разрешение, и вспоминал, что собой представляет этот капутмортуум, а потом срывался и убегал куда-то в чащу леса.
Все у Володьки и весь он были у нее в неподдающуюся ее карандашу крапинку.
Когда однажды Володька взял да и поцеловал ее в самый неподходящий для этого и несуразный момент, Аня сначала вздрогнула, а потом почему-то развеселилась:
– Ну ты, ухажер в крапинку, смотри, какую ультрамариновую медаль ты мне на блузку посадил.
Особенно Аня любила писать воду. Вода ее притягивала и не отпускала то прозрачностью, то неведомой глубиной, то невероятными переливами света в ее струях и бликах. Если Володькины глаза в крапинку были идеалом достижимым – стоило только захотеть и постараться, то вода… Она была неуловима кистью и так непостижима в своих цветовых выражениях, что поймать состояние удавалось только акварельному случаю, везению, импрессионистской удаче. Маслу вода была недоступна, и когда Ане удавалось-таки какое-то ее состояние передать, то она сама бросалась Володьке на шею, навстречу его несерьезным поцелуям.
Бог мой, сколько, оказывается, осталось у нее от того быстротечного лета в Дарсонвале! Картонки маслом, альбомные ватманские листы акварелей, обрывки бумаги с набросками. И что любопытно: много было потом и других, где-то писаных, не отмеченных памятью, датой, местом, событием, лицом. Даже как-то неловко держать в руках: видишь, что твое дитя, смутно что-то или кого-то напоминает, а кто это? где? как зовут? – забыто, пережито, кануло в небытие… А эти, из Дарсонваля, словно бы меченые все. Ветка рябины, упавшая на неровные доски забора – Дарсонваль (выбрались с Володькой в деревню); клен-подросток с нежным серо-фиолетовым, даже голубоватым стволом и большими листьями-ладонями – тоже Дарсонваль (каждое утро бегали умаваться к его роднику); угол дома с прижавшимся к нему крохотным ельчонком – тоже, конечно он, Дарсонваль, корпус ее пятого отряда; профиль лица, острого, вытянутого, слегка шаржированный – конечно, Дарсонваль, ее Володька в крапинку. Еще и еще – Дарсонваль, Дарсонваль, Дарсонваль, узнаваемый, милый, неповторимый. Уже все розовое покрывало кровати усеяли разноформатные этюды, а она находила в папке еще и еще. Масляно-акварельные плоды того промелькнувшего лета словно бы сами просились в руки.
Анна Петровна смотрела в окно на освещенный фонарем задний двор, на склонившиеся в полупоклоне сосны – сколько им было тогда, этим зеленокудрым молодцам? – и было странно хорошо, светло на душе, теплые очистительные слезы текли по ее щекам. Ведь был же, был и на ее улице праздник – с таким странным нездешним забытым названием!
«Ну, здравствуй, Дарсонваль!»
Утро, завтрак, новые знакомства, кабинет врача, потом процедурные кабинеты – все это превратило вчерашнее видение в сон. «А был ли мальчик, – вдруг мелькало в ней, – а может, мальчика-то и не было?».
Только после ужина выдались час-полтора свободного от процедур времени, и Анна Петровна вышла на свет уходящего дня, стараясь воскресить в памяти обрывки вчерашнего воспоминания.
От корпуса, его заднего двора уходила в негустой лесок асфальтовая дорожка. Матерые стволы сосен, берез и елей вздымали кроны высоко в ультрамариновое небо. Между стволами все было усеяно молодым древокустарником среднеуральского клена. Его трехпалые продолговатые листья горели охро-золотистым огнем. А среди этого «пожара» то тут, то там вспыхивали затейливые перчатки рябин – то ярко-красным кадмием, то кадмием оранжевым, то желтым. Зато травы́ «пожар» как будто не коснулся: она выстелилась зелено-коричневым ковром (на палитре надо мешать желтую с черной), по которому только прошла-наследила желтым, красным, оранжевым капризная красавица-осень. Все это было недвижно и ненастояще – как во сне.
Анна Петровна не находила взглядом ничего от прежнего Дарсонваля, как будто он был и остался только в ней самой и на ее этюдах, по-прежнему устилавших розовое покрывало незанятой кровати.
Справа от дорожки сквозь листву просматривались задворки и крыши селения. Пара-другая любопытных изб как бы раздвинула листву, но и они ничего не напомнили ей из прошлого. Их подновили, как могли, нынешние хозяева-дачники, но дорожка пробегала мимо. Зато между избами-аборигенами стояли бело-краснокирпичные особняки за такими же высокими бело-красными заборами. У ворот сторожились иномарки, за воротами гремели цепями псы, за много шагов чуя приближение чужака и начиная метаться в лае.
По узкой дорожке то и дело шмыгали машины красно-белых дачников, разгоняя по сторонам сухую сосновую хвою и заставляя редкого прохожего жаться к придорожным кустам.
Ничего было не узнать. Не было никаких следов ее Дарсонваля. И вдруг взгляд упал на деревце с почти фиолетовым стволом двухладонного обхвата с нездешними желто-красными листьями-ладошками. «Батюшки, клен! Да уж не ты ли это?» – картонка с тоненькой веткой деревца-подростка, помнится, лежит среди других на розовом покрывале.
Канадских кленов на территории лагеря росло всего несколько. Аня с Володькой знали их наперечет. Один – тот, что она рисовала однажды утром, когда на его широких ладонях плавали блики солнца, никак не давая ей поймать на палитре нужный цвет, – рос в двух шагах от родника. Был тогда послеобеденный «мертвый час». Своих пионеров они с Володькой оставили беситься в спальнях верхних этажей и ушли к роднику, где была прохлада. Сейчас солнце слева, значит, родник, если это тот самый клен-подросток, будет теперь у него за спиной.
Анна Петровна отвела рукой тяжелую желтокрасную ветку, шагнула в лес – и действительно, в двух шагах, как чудо, возник перед ней родник. Это был не тот обихоженный лагерный родничок со скамейкой, исписанной перочинными ножиками пацанов, и железным банным черпаком на цепочке. А была на месте родника колонка с краником. Краник был полузакрыт, и из трубы неслышно текла тонкая струйка, падала в деревянный желоб и убегала куда-то в чащу леса.
Анна Петровна подставила ладони. Вода была холодной и с привкусом, который тотчас вспомнился ей – пресно-солоноватый, к которому, чтобы напиться, надо было привыкнуть. Помнится, они с Володькой больше брызгались, чем пили эту «лечебную» воду.
Теперь уже ноги сами понесли ее к корпусу пятого отряда – туда, где он был в ее Дарсонвале. Надо было взбежать по утоптанной дорожке между молодыми елками на взгорок, пересечь площадку с волейбольной сеткой и скамейками по бокам, свернуть направо…
Площадки не было, густо и чащобно росли деревья, но она помнила направление. И невольно прислушивалась: не донесутся ли голоса расшалившейся ребятни? Но тишину и недвижность леса нарушало только чуть слышное падение листьев.
И вдруг среди зарослей она увидела синее облако. В лесу уже слегка смеркалось, и облако походило на недвижимый, словно замерший, дым костра. Бездумно, как сомнамбула, она пошла на этот костер, чувствуя себя единственной крупицей реальности в недвижном мире сна. А дым, не рассеиваясь, стал обретать очертания ее пятого корпуса. И правда, вспомнила она, все корпуса́ в их пионерлагере были окрашены светлым ультрамарином. Еще шаг-другой, и Анна Петровна не поверила глазам: перед ней стоял синий двухэтажный дом с верандой – корпус ее пятого отряда. Но теперь он был необитаем и страшен, смотрелся прибежищем бременских музыкантов. Высокие сосны и ели подступили к нему вплотную и дико обнимали стены своими темно-зелеными лапами – в двух шагах пройдешь и не заметишь этого прибежища лесных духов Некогда красивое здание цвета полуденного неба было полуразрушено и являло взору все свои раны и язвы, нанесенные ему временем и небрежением. Обвалился второй этаж веранды. Окна были незрячими, а из проема одного из них торчала обгорелая балка – наверное, шалили с огнем теперешние подростки. Опавшая кое-где штукатурка стен обнажила охристую дранку – как ребра некогда живого и здорового динозавра…
Анна Петровна стояла как вкопанная: так вот какими глазами смотрит на нее из прошлого ее далекий и солнечный Дарсонваль!
Она повернула голову вправо – там метрах в двадцати стоял корпус Володькиного первого отряда. Он и теперь стоял, едва различимый в чаще елей, таким же замершим синим облаком. Анна Петровна разглядела только крышу: по почерневшему ее шиферу, как большие ночные жабы, расселись кочки мха…
В стороне виделись теперь еще строения, за ними еще… Лес оживал видениями, но сумерки падали так стремительно, что Анна Петровна не посмела шагать дальше. Она вернулась к колонке-роднику, потом к повзрослевшему клену и вышагнула на асфальт.
Теперь лес за спиной клена виделся ей темной и страшной небылью. Кануло все и пропало. «Дарсонваль, Дарсонваль… Ты был иль ты приснился мне? И найду ли я теперь на розовом покрывале твои реальные следы?»
Последней в этот день процедурой была у Анны Петровны грязевая подушка на поясничную область. Прежде грязями ее никогда не пользовали. Молоденькая сестричка, улыбнувшись, назвала номер кабины.
– Раздевайтесь, я сейчас.
Анна Петровна сняла и повесила халат, проверила, хорошо ли собраны на верху головы волосы, достала из пакета полотенце и выжидательно присела на краешек кушетки: как быть с плавками, она не знала.
– Совсем, совсем, – услышала она за спиной по-доброму смеющийся голос. Сестра поставила на кушетку таз, двумя ладонями зачерпнула из него черной жирной массы и положила кучкой посреди кушетки на холщовую простыню. Потом еще и еще.
– Ложитесь спиной, – сказала и, подняв черные от грязи руки, деловито глядела, как Анна Петровна, внутренне ежась и прячась, неловко опускалась поясницей на эту грязь, тотчас горячо и влажно охватившую ее.
Она лежала, вытянувшись, на кушетке. Сестра неспешно завернула над ней полы свисающей холстины, накрыла, всюду подоткнув, красно-белым байковым одеялом и ушла.
Анна Петровна увидела высоко над собой конический купол зарешеченного и застекленного черного неба. Она закрыла глаза и оттуда, сверху разглядела себя маленькой красно-белой мумией или коконом бывшей гусеницы, и из черной высоты зазвучала на нее музыка, словно бы ее отпевали в каком-то пустом, высоком, зарешеченном сверху храме.
Уже было такое когда-то – однажды, дважды. Она была вот такая же беспомощная, вся в чьей-то посторонней власти. Но вот только сейчас пришло к ней ощущение, что едва ли и не всю свою жизнь прожила она словно бы добровольно спеленутой невидимой холстиной. Недолго, всего мгновение порхала по божьему свету бабочка…
После училища и института было замужество. Оно пришло событием безудержно-влекущим, не считающимся ни с чем в ее прошлом. Куда-то заброшены были папки, альбомы, краски и кисти, Они были рядом, так близко, что всегда можно было вернуться к ним. Но уже обуяла молодая, тоже безудержно влекущая, семья. Вечно занятый муж, каждодневная рутинная работа в школе учителем черчения, быстрое и довольно легкое рождение дочери, потом тяжелое, мучительное появление сына…
Ах да, вот где она пережила острое ощущение спеленутой беспомощности, которое и потом, оказывается, никогда-никогда навовсе не оставляло ее.
Этот её новый мир, обыденный и притягательный, как измена, был совсем не похож на то дарсонвальское лето. Оно порхало само по себе, сначала манящее и иллюзорно доступное, потом удалившееся, почти неразличимое; и наконец кануло навсегда.
Несколько раз Анна Петровна доставала этюдник, брала с собой на семейную прогулку, потом на дачу, выкраивала время, чувствуя за спиной то снисходительное терпение мужа, то бесцеремонное, но на цыпочках, любопытство детей. Но ужас, ужас! Какими беспомощными, закоснелыми были ее руки! Ее глаза, ее душа видели, хотели, чувствовали, а руки… Они были чужими ей, боялись и не узнавали красок. Скомкав очередной лист, разорвав надвое картонку с этюдом, Анна Петровна, извиняясь за минутное безделье, возвращалась восвояси.
Но были-таки минуты, когда руки словно просыпались. Это случалось на уроках в вузе, где Анна Петровна уже долгие годы вела рисунок. Они вдохновлялись неожиданно для нее самой, когда она оказывалась над чужим наброском, в котором вдруг что-то узнавалось ею. В беспомощном, еще не знающем оттенков и пропорций. Но было в этом карандашном уродце знакомое ей молодое желание постичь и освоить – в каждой линии, в каждом штрихе. И руки вспоминали это! Они брали карандаш или мелок и одним-двумя неуловимыми движениями что-то меняли в рисунке – и это было как озарение, как наитие. Она видела, что рисунок оживал. (Господи, да не было ли это возвращением к ней Дарсонваля!) Анна Петровна нехотя отдавала карандаш и, счастливая, как освободившаяся от куколки бабочка (да, да – как та девчонка из Дарсонваля!), шла-летела к другому рисунку. Редко какой урок обходился без такого вот подарка. Теперь она знала: подарка Дарсонваля!..
…Пришла сестричка и с деловитой улыбкой распеленала ее.
Потом она, счастливая, долго-долго стояла под прохладным ласкающим душем.
2004
ИЗЪЯН
Внукам Олегу, Антону, Федору,Даниилу и Филиппу
1
Толпа у сарая на покосной заимке Парфению опасной не казалась, но он таки остался в лощине, а на разведку послал Коляна.
– Поди, братан, порасспроси этих, чем там, в деревне, пахнет.
А сам, дожидаясь, курил в рукав. Он даже какое-то время и смотреть перестал в ту сторону. «Счас придет Колян, скажет, что к чему». Как вдруг услышал крики, и среди них один голос резанул:
– Господин охвицер, красного сымали!
Парфений затаил дыхание. Цигарка коснулась ваты на рукаве – запахло паленым. Парфений раздавил окурок пальцем в траве. Глядел во все глаза.
К толпе из сарая вышел офицер. «Ма-ать твою тереби! – ахнул Парфений. – Это как же я догадался Коляна послать, а не вместях!»
Сначала было тихо. Видно, офицер спрашивал Коляна и толпу: кто таков, откуда и зачем.
Потом опять загалдели и выделился голос:
– Да знаю я его! Колян это из Махаевки. Он с брательником давно у комиссаров ошивается.
Опять галдели. Офицер цыкнул на толпу. Слушал, наверно, Коляна. Что говорил Колян, Парфению не было слышно. А потом толпа взъярилась. Коляна повалили, стали пинать. Офицер руки-ноги не пачкал, смотрел, как зверели. Потом ушел в сарай. Сразу стихло. Коляна, заломив и связав руки, отволокли к стене. Угомонились. Смех послышался. Бытовая перебранка. Скоро костер запалили – смеркалось уже, и дождь бусил.
А у Парфения под фуфайкой колотилось. Ждал. Башка работала как часы. «Это же захаровские подкулачники, мать твою тереби! На их самих и напоролись».
Парфения с Коляном Кумачев послал разведать, что делается в Захаровке, правду ли говорят пришлые, что там буза, затеянная кулачьем. На трудный случай выдал гранату, погрозив при этом Парфению острым белым пальцем. На Парфения он полагался. Парень головастый и без дури.
Кумачев служил на станции путевым обходчиком. Держался особняком. Говорил доморощенными афоризмами. Короткие подстриженные усы и короткую же челку налево держал в холе. Когда на станции зародилась красноармейская дружина, как-то незаметно и сразу стал ее командиром. Новоприбывших на станцию и поставленных смазчиками Парфения с Коляном – деревенщину – взял под свое крыло. Самогона он не пил и друганам не велел. «Колокольню надо держать в сухости, чтоб звон чистый был», – витиевато наставлял с первого дня знакомства.
В минуты передышки, когда за стеной затевался карточный грай, а во дворе дружинники палили по длинногорлым бутылкам фирмы Поклевского-Козелл, имитируя учебные стрельбы, Кумачев подсаживался к братовьям и делился самосадом. «Хороший самосад, Парфуша, мужика ядреным делает и стоймя держит» (Парфения он сразу за старщо́го признал, хотя братовья были всего-то погодками, и обращался исключительно к нему). «А нам, друганы, надо против сволочи стоять. Нас хоть и много, пролетариев, но по ту сторону еще множе. Вот хоть Махаевку вашу взять. На вас двоих-пятерых сколько человечьего бою придется? Кулак, известно, в сторону не смотрит, за свое кровное напролом идет. А подкулачники? Вот ты, Парфуша, со штыком в Махаевку придешь да пару-тройку на него насадишь – они и твои, всё, вплоть до бабы, отдадут. А только хвост им покажи, за пустой клочок земли, за худую коровенку так вцепятся! Не-ет, Парфуша, кто гол, тот и стоит, как кол. Ваш-то батя, к примеру, как насчет бузы?»
На эти слова Кумачева братовья молчали: Колян потупившись, а Парфений… этот глядел на Кумачева светло и преданно. «Паровоз тогда готов идти в наше светлое завтра, когда никакая-всякая сволочь на его ходуны не липнет. Мы с вами, Парфуша, пролетарского паровоза чистильщики и бережители».
На покосе стемнело. У костра остался кто-то один. Остальные ушли в сарай – покрапывало с неба. Щели сарая светились от горевшей там керосинки.
Парфений ждал – сна ни в одном глазу. Наконец в сарае погасло. Костер шаял, то вспыхивал, то линял. Мужик возле огня лениво суетился, оправлялся, потом затих. Парфений вытащил нож из кожаных самошитых ножен, попробовал пальцем лезвие, вернул опять в ножны и пополз к костру.
Он помнил, как батяня овец кончал.
– Держи ноги, – скажет Парфению, – чтоб не брыкалась.
Голову зажмет коленями, шею с пульсирующей жилой обнажит, лохань подставит под кровищу и ножом по той жиле вж-ж-жик!
Парфений, помнится, спокоен был. Смотрел жадно. Только лоб влажным делался.
Полз он бесшумно, потому что только это сейчас и требовалось от него – ни мыслей в башке, ни дела другого.
Мужик у костра спал. Лицо его показалось Парфению знакомым. «Да мало ли…». Коляна тоже не слышно было у стены сарая. Парфений достал нож, деловито примерился. Потом резко накрыл пятерней рот мужика и, вздернув шею, полоснул ножом. Мужик даже не проснулся, не дернулся, обмяк, как пустой ватник, и хлынула кровь. Парфений возликовал внутри: более простого и легкого дела поискать! Может, зайти сейчас в сарай да всех и порешить как овец? Парфений хмыкнул: « Не дурак. Придет время».
Осторожно подошел к стене сарая. Колян зашевелился. Парфений задел его ногой: «Ну что? Идти смогешь?» – полоснул лезвием по веревкам. Колян что-то промычал, с трудом поднялся.
Добрались до лощины, залегли. Лицо у Коляна было разбито, губы и глаза распухли, говорить он мог с трудом, почти не разжимая губ.
– Уходить надо, – промычал он, кивая в сторону от сарая.
– А это на что? – сказал Парфений, достав гранату. – Далеко мы с тобой не уйдем. Счас выйдет кто до ветру и поднимет холуев.
Колян стал хватать его за руку и что-то начал говорить булькающим невнятным голосом. Сверлил Парфения живым незаплывшим глазом. Парфений отмахнулся – думал свое.
– Ты сиди тут и жди. Я сам слажу.
Не слыша больше Коляна, Парфений, нагнувшись, пошел к сараю. Мысль работала четко, как минное устройство, которому дано несколько минут. «Ты, Парфеша, одно пойми: нам с ними вместе жить заказано. У нас колокольни разные и звонят инако. Усек? Ихний звон нашему поперек идет. Его пресечь надоть».
Подойдя неслышно, он припер дверь лесиной от костра, достал гранату, зубами выдернул чеку и, бросив в темное окно, метнулся в сторону, упал. На мгновение тихо стало, потом шарахнуло, взметнуло и Парфения словно бы волной. Бежал в лощину, не чуя ног, не оглядываясь. Упал рядом с Коляном.
– Айда теперя!
Они бежали, как слепые, сквозь стену тьмы. Позади пылало, стонало и трещало. Колян припадал на зашибленную ногу, отставал, хрипел разбитым ртом. Парфений тащил его за ватник. Темень стеной стояла. Дождь бусил. Парфению казалось, уже спасительная опушка должна… А ее все не было. За спиной что-то слышалось – Парфений отстранился от всего: добраться бы до опушки.
Когда показались деревья, Колян совсем обмяк, и Парфений едва не волоком дотащил его до леса.
Колян упал мешком. Парфений минуту стоял над ним и думал. «С Коляном ему не дойти. Будет висеть на нем, как гиря. А Кумачев ждет».
Приняв решение, опустился рядом. Лица у Коляна словно бы и не было – сплошное розово-синее месиво. Один только глаз смотрел на него, и в нем стояли растерянность, мука.
– Парфеша, – заговорил Колян, не разлепляя разбитых губ. – а, Парфеша, ведь там и наши были… махаевские мужики… Федька Лычин, Прокоп, Иван Старчинский, крёстный твой. Ево Степанида теперя с пятерыми…
Парфений ничего не мог понять из его бурчания. Что-то булькало у Коляна в запекшемся рту, и глаз, почти выкатившийся, перился на него.
Вдруг мелькнуло в памяти – откуда что взялось: однова напоролись они с Коляном зимней санной дорогой на пару волков, и Колян, путаясь в длиннополом малахае, вдруг скатился с саней и побежал волкам навстречу, замахал рукавами и заорал благим матом. И ведь снялись тогда волки, отстали.
Парфений смотрел на брата, молчал и примеривался, как ловчее. Потом вдруг резко накрыл его глаз фуфайкой и, размахнувшись, что было силы воткнул нож в шею Коляна. Так, что лезвие в землю вошло. Выдернул. Вытер о ватник.
А если бы слышал Парфений те последние Коляновы слова, не стал бы неверно и ватник портить, а по глазам бы, по глазам…
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе