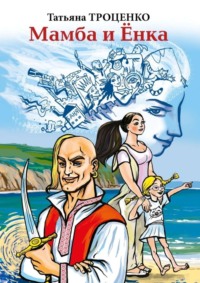Читать книгу: «Мамба и Ёнка», страница 4
***
Женщина бежала быстро, босиком, белыми нежными ногами, совсем не замечая острых впивающихся камешков. Она не замечала также и Ёнки, вылетев к морю совсем рядом, в двух шагах.
Вылетела, рыскнула дикими глазами вправо-влево и заметалась по краю моря, всплескивая руками, всхлипывая. Вдруг наклонялась, хватала что-то дрожащими пальцами и, чуть взглянув, бросала и опять металась.
Настороженная Мамба подтянулась к Ёнке. Ёнка встала. Мамба положила руку ей на плечо.
Женщина, по-прежнему не замечая их, сцепила пальцы замком, плотно прижала к губам и прихватила зубами. Взгляд ее был устремлен на белый корабль, в прекрасных голубых глазах стояли слезы. Подбородок трясся.
Ёнка вывернулась из-под Мамбиной руки и пошлепала по мокрому песку к незнакомке. Мамба, увязая глубже, последовала за ней. Ёнка – стеснительная и всегда говорившая: лучше ты, мама, скажи, – подошла к незнакомке почти вплотную и, протягивая стекляшку, кольцо, камушек и раковину, нисколько не смущаясь, сказала:
– Не плачьте, пожалуйста. Вот. Возьмите.
– Боже, – сказала незнакомка, когда смогла говорить. – Оно.
Она медленно расцепила пальцы и подала Ёнке руку ладонью вверх. Ёнка также медленно положила в руку кольцо. Ёнка знала толк в этих делах.
Потом незнакомка, уже смеясь, тащила их, упирающихся, наверх в лагерь. И, в конце концов, все-таки согласились, чтоб она угостила их завтраком.
Вскоре Мамба и Ёнка сидели с незнакомкой, накинувшей на себя белый струящийся халатик, в насквозь прозрачном зале кафе, прилепившемся к горе над самым морем. Стеклянные стены его были чуть притенены зеленоватыми, до пола занавесками, ничуть не скрывающими обзор, а только делающими изображение еще более волшебным, как купола изумрудного города.
– Дорогие мои, что вам заказать? Креветок? Хотите? Все, что хотите! Морские деликатесы? Фирменное у них очень вкусное, – голос гулко звучал в пустом еще зале.
– Мне сырники, – с ходу определилась Ёнка, одной рукой нашаривая среди лежащих под прозрачной столешницей журналов – с феями.
– Шашлык, если можно, – заказала приземленно-практичная Мамба. Мясом наесться можно надолго.
Незнакомка, впрочем, она уже представилась, но рассеянная Мамба тут же забыла имя, аристократично заказала кофе. И с доверчивостью случайного попутчика рассказывала:
– А я, представляете, вчера искупаться вечером решила. А утром только глаза открыла, чувствую, беда. Смотрю – нет кольца, – она подняла руку и посмотрела на безымянный палец. Кольцо отсвечивало немного жирным, дорогим глянцем. – Это ужас! Мне его подарил мой будущий муж.
– Ухум, – кивнула головой Ёнка. Все было правильно.
Мамба, выпятив нижнюю губу, тоже сочувственно покивала, подперши подбородок пятерней с блескучими перстнями.
– Он очень богат. Он приплыл сюда на своем корабле. И сегодня должен забрать меня в круиз. Мы договорились. Здесь встретиться. Он подплывает и меня забирает. А тут бы я сказала, что потеряла его кольцо. Нет, конечно, это не проблема. Деньги и все такое. Но подарок! Помолвка. Это ж так… – и закрутила головой, не подобрав слов. – Я вам так благодарна! Я вас просто прошу! Будьте нашими гостями!
Мамба всколыхнулась, Ёнка вскинулась удивленно:
– Как это?
– Я скажу мужу. Будущему мужу, – поправилась она. – Он не откажет мне. Поплывем на корабле. Там есть все. Месяц – другой. Будете на моей свадьбе. Я все улажу. Все проблемы. С работой, с чем там еще…
– Ох, ничего себе! – Ёнка аж встала, журнал с волшебницами упал у нее с колен. Перелистались, выворачиваясь, страницы.
Мамба постукивала себя пальцами по губам.
– Мама, а?! Давай, а?! – Ёнка схватила ее за руку и так дернула в экстазе, что крепко задумавшаяся Мамба потеряла равновесие и чуть не последовала за журналом.
Незнакомка, то есть почти знакомка, ждала ответа:
– Нужно решать быстро. Времени нет. Скоро он будет здесь.
Ёнка глянула в стеклянную стену, и ей показалось, что кораблик на горизонте приближается, растет с каждой секундой:
– Вот это он?
– Да, – знакомка поцеловала свою белую ладонь и отправила кораблику воздушный поцелуй. – Идет. Скоро. Скоро будет здесь.
Мамба повернулась к Ёнке. Взяла ее за горячие ладошки. Соединила свой густой черный взгляд с голубым дочкиным:
– Это не наша история, Ёнка. Понимаешь?
И Ёнка поняла:
– Да.
Они серьезно-серьезно посмотрели друг другу в глаза и безудержно залились смехом. Звонко-звонко на все кафе, вспугнув птичек под потолком, смеялась Ёнка. Низким грудным смехом, слегка поводя плечами и откидываясь, Мамба. Это звучало очень красиво. Правда. Я была там и слышала сама. И видела, как встала из-за стола белая женщина, как улыбнулась как-то немного грустно, и отходила к двери, все не сводя с них глаз. И, уже взявшись за ручку, бросила на них последний взор. Во всей ее фигуре было напряжение, как будто она ждала: вот сейчас они обернутся и позовут ее к себе. Но они не обернулись. Дверь открылась и закрылась.
***
А потом они купались, и купались, и еще купались. И смеялись, и смеялись, и еще смеялись. И перед Ёнкой вдруг встала волна и легонько толкнула ее в грудь, и Ёнка очутилась на берегу. И опять смеялись. Потом Ёнка совершала вылазки к машине, принося оттуда батоны и помидоры. И заботливая Мамба загоняла ее в тень. Потом бродили по колено в воде (но в тени скалы), за территорией пляжа. И собирали со дна все, что можно собрать, и всему восторгались. И устали восторгаться. И валялись там же в тени, и копались лениво в перламутровом песке. Мамба лежала, загребала песок к себе и удивлялась, что песок весь состоит из частиц ракушек, то побольше, то поменьше, то измолотых в пыль, но светящихся каждой частичкой. И море покрывала такая же взвесь перламутровой пудры и тоже светилась. А Ёнка строила запруды и дворцы, орудуя ракушкой побольше. И устали валяться. И играли в волейбол двое на двое с другими отдыхающими. А поскольку уже отдохнули, полезли купаться заново.
А вечером, когда окончательно перебрались за забор к «Жигулю» и пошли, огибая становища дикарей, к недалекой сопке наломать веток для костра, кто-то окликнул:
– Доча?!
Мамба обернулась. Ёнка, держащаяся за ее руку, обернулась тоже.
– Баушка?!
Возле ближайшей палатки, розовея непривычным морским загаром поверх въевшегося дачного, сидела старушка, которую подбрасывали давеча до остановки. Вокруг нее кипели внуки, пронзительно пищали и кидались мячиками. Чуть в стороне дымили мангалом взрослые.
– Ведь чуть не опоздала на поезд, – как продолжая прерванный разговор, сказала она. – Первый раз на море. Боря вывез, – уважительно кивнула в сторону мангала. Хотела поправить кончики платка у подбородка, но платка не было, а топорщилась на голове совсем новая, хрустящая панама. – Спасибо вам.
– Пожалуйста, бабушка, – и Мамба с Ёнкой зашагали дальше. Мамба была в своих шлепках, а Ёнка, хоть и морщась, но терпеливо, босиком:
– Мне надо окончательно почувствовать, что я на море.
– Ага, парочку заноз на долгую память, – беспечно согласилась Мамба.
***
У костра на прутиках жарили хлеб. Было темно. Как не было ни в городе, ни на даче, ни в том поле, где Мамба потеряла Ёнку. Это была совсем другая темнота. Она пахла морем и шептала морем. И была самой спокойной темнотой на свете. Так не было спокойно даже дома в постели. И Ёнка думала, привалившись к Мамбиному боку:
– Вот я ложусь дома спать. Я надеваю на себя пижаму. Желтую со слониками. Потом я закутываюсь в свое одеяло, Теплое, с маленькой дырочкой на боку, которую все не соберётся Мамба зашить. Потом надеваю всю нашу комнату. Наворачиваю на себя наш дом с антеннами и кошками на крыше. Темные улицы одну за одной накручиваю клубком. С машинами, с дорожной разметкой, с зебрами. И весь город с фонарями, и домами, и огоньками, так уютно. А потом небо черное, со звездочками и луной. Закукливаюсь. И сплю-уу…
А Мамба жевала хлеб, обнимала одной рукой приткнувшуюся спящую Ёнку, смотрела в огонь, слушала море, и, кажется, совсем ни о чем не думала. Времени не было, не было пространства. Был только костер и они двое. И бесконечный тихий, на пределе слышимости звук: прибой. Волна за волной. Волна за волной. Волна за волной.
***
И как гром среди ясного неба: неуместный пронзительный звук – мотор. Пилящий, режущий ухо. Приближался. Ёнка проснулась, блеснула искрами очочков на Мамбу. Мамба повернула чуткое ухо, мотнув подвешенным серебряным кольцом:
– Моторка. Лодка. Кто-то гоняет в темноте.
Звук шел прямо на них. И когда казалось, что моторка сейчас прямо запилит в огонь, звук оборвался, появился красный в свете костра нос. Плеск. Шелест разрезаемого влажного песка. Тишина. Потом знакомый откуда-то голос с надрывом патетически произнес, срываясь на дискант:
– Кирилыч, чтоб я с тобой еще! Куда-нибудь! Когда-нибудь! Да пошел ты! Да я лучше до дома пешком пойду!
– Вот и иди, – послышалось в ответ. – И рыбу свою забери.
Плюх, плюх. На границу прибоя с носа полетели котелок, перепутанные удочки, еще раз смачно плюхнуло: две большие связанные рыбины. Следом в круге света показались стоптанные шлепанцы, заболтали, не доставая до песка. Еще свесились. Стало видно белую, до колен футболку с перекосившимся лицом томной девицы. Потом плюхнуло последний раз. И, не удержавшись на ногах, шлепнулся и стал виден весь Силич.
– Счастливого пути, – проорал с катера невидимый Кирилыч. Красный нос попятился и исчез. Пилящий звук стал быстро удаляться.
– Соседи! – сказал обалдевший Силич, сидя в воде.
Костер стрельнул, язык пламени резко вырвался вверх и осветил круглые глаза отдохнувшего «Жигуля».
– Мой, – сказал Силич как-то уж совсем неэмоционально и развел руки. – Не понял.
Мамба хоть и думала, что объясняться придется, но именно в этот момент оказалась не готова совершенно, то есть никак.
– Э-э… – сказала она.
– О-о! – сказал Силич.
– А-а… – сказала Мамба.
– Эхе, – сказал Силич.
Некоторое время они так и объяснялись междометиями. Силич выкарабкался из воды. Обошел свой «Жигуль», потрогал его. Отсвечивая мокрым пятном пониже спины, наклонился, заглянул зачем-то в салон, прислонив лицо к самому стеклу. И обернулся к Мамбе.
– Не понял, – только и сказал снова он.
Мамба открыла рот и поняла, что сказать не может ничего.
Вскочила Ёнка и, закрыв собой Мамбу, заметно волнуясь, выдала одним духом:
– В-вы ж сами разрешили, дядя Силич. Н-нам покататься. В-вы сказали. Мы покатались. Мы записку вам написали. В гараже, вот. И мы б сейчас искупались еще ночью, мы договорились, и обратно б поехали.
Пока она говорила, Силич рванул на себя дверцу и залез на водительское место. И вцепился в руль, и даже немножко покрутил его как трехлетний пацаненок, и даже чуть побибикал. Лицо его разгладилось. Он улыбнулся.
– Здорово! Ну вы даете! Молодцы! – гаркнул он из машины.
И вылез, и потрепал Ёнку по плечу:
– Ну молодцы, соседи! Ну удружили! Ха, а Кирилычу – во! – он начал поднимать было руку, но, поглядев на Ёнку, опустил. Опустил в карман и вытащил оттуда леденец.
– Держи, детка.
Потом Мамба отдала ему талоны на бензин, и настроение Силича еще круче поползло вверх:
– А мы щас с вами уху сварганим. Такую, что вы не ели никогда. Пальчики оближете и ложки съедите. А потом я вас, эх – прокачу. С ветерком, а!..
Потом Ёнка сказала, что у них нет ложек, и Силич продемонстрировал им все чудеса своего «Жигуля», извлекая из багажника все новые и новые полезные вещи.
– У хорошего хозяина всегда все на месте, – говорил он, облачившись в сухие джинсы и накачивая насосом плавательный круг. Потом Мамба с Ёнкой еще купались в воде, такой теплой, что она практически не ощущалась кожей. Мамба крепко держала Ёнку поперек, невесомую и верткую, как малек. Мамба поворачивалась на месте, а Ёнка молотила руками со всей силы. Так она плавала. Потом ели уху, и Силич нахваливал их хлеб, а они не могли даже похвалить Силича, потому что рты были заполнены почти кипящей густой ухой. Вкусной просто неправдоподобно.
– М-м-м, – только и мотали они головами. Силич улыбался: – Вку-усно!
Потом Мамба помогала Силичу сворачивать стоянку, а Ёнка тихо, одна, в темноте прощалась с морем. И что они сказали друг другу, никто не знал. Потом Ёнка натолкала в багажник все камни, ракушки, какие она притащила к машине за день. Мамба, виновато посматривая на Силича, попыталась ее остановить, но Силич махнул рукой:
– Бери, дивчинка, бери. На память.
Потом они сели на заднее сиденье и смотрели, как Силич, уверенным жестом отогнув козырек над стеклом, извлек оттуда документы и привычно переложил их в нагрудный карман.
Потом они ехали, ехали и ехали. «Жигуль» сворачивал, поворачивал, скатывался, заезжал на горки уже известной ему дорогой. Мамба могла бы поклясться, что обратную дорогу сама она не нашла бы ни за что. Рассветало. Стал почти не виден свет фар. Растворился в сереньком воздухе. Силич поставил негромко свою кассету и подпевал вполголоса, потряхивая в такт стриженым затылком.
Ёнка с Мамбой держались за руки. И качали сцепленные ладони тихонько под музыку. Вдруг Мамба остановила на пол-движении руку и закаменела.
– Ма-ама, а мы еще поедем на море? – протяжно спросила разнеженная Ёнка.
– Да, – кивнула Мамба. – Я ключи от дома на берегу забыла.
Ёнка приподнялась с сиденья. И они обе одинаково жалостливо посмотрели в седоватый приплясывающий затылок впереди.
– Что, девчонки? – улыбаясь обернулся к ним Силич.

Низовский, или Попытка биографии
У биографов принято описывать первую встречу со знаменитостью. Но первую встречу с Арсением Низовским мне вспоминать не хочется. Может быть, когда-нибудь я отважусь поведать о том, что произошло, но не сейчас.
Поэтому, вопреки обычаю, начнем сразу со второй.
– Прости, прости, паря (характерное слово Низовского, вошедшее во все воспоминания. – Прим. автора)! – загудел басом Низовский с высоты своего роста. Невозможно было обижаться на него. – Ну сам виноват, брат-варнак. Ничё-о, до смерти заживет. Пойдем-ка мы с тобой в «Кадушку», замоем это дело.
Конечно, я не мог ему отказать.
И мы пошли. Вопреки моим ожиданиям «Кадушка» оказалась не богемным кафе, а баней, обычной мужской баней. Низовский завернулся в простыню, блестел бритой под шар головой, посверкивал хитрым глазом и наслаждался.
В бане было полупусто, и в этот ранний час никто не узнавал в огромном, с белыми, торчащими из-под простыни ногами человеке того самого, знаменитого Низовского. Без преувеличения мировую знаменитость. Банщик даже осмелился рыкнуть на него за неубранное на место полотенце.
– Да вы что! – взвился я, не выдержав проявленного неуважения. – Да это ж сам…
– Ша! – закрыл мне рот широкой грубоватой ладонью Низовский. – Конешн-а, уберу, отец, а чё-ом разговор.
Сказал, нарочно растягивая слова, как в фильме, который знают все. И аккуратно сложил полотенце пополам, еще пополам, еще… и, подмигнув мне, ловко продолжал складывать и складывать полотенце. Банщик выглядывал, вытягивая шею из-за его спины, и что-то будто узнавал. В глазах его заплескалась какая-то мысль.
– А! – заорал он так, что вздрогнули немногочисленные тонкие и толстые мужские фигуры. – Я узнал тебя! Ты ж Пашка! Пашка Буров! Точно?
– Точна-а, – наслаждаясь ситуацией, протянул Низовский.
– Пашка из Восставших! Как же ты выжил? – обрадованно вопил банщик, путая быль и явь. – Он же тебе два раза в сердце.
– Больно, – поморщился Низовский, прикладывая руку к груди.
И так он морщился и двигался, что стало видно по нему, что и впрямь он ранен был, и ранен серьезно, и было ему больно, и лечился он, и валялся по госпиталям, и вот восстал, выжил. Он весь неуловимо, прямо на моих глазах перетек, поменялся и стал Пашкой, Восставшим. Измученным, но не сломленным и не побежденным.
– Тебе ж нельзя париться, наверное, – прошептал банщик, из полного сочувствия тоже приложивший руку к впалой груди и так же, как и Пашка, поморщивший губы.
– Нельзя, отец, – и опустил левое плечо, еще крепче прижимая руку к сердцу.
– Садись, Паша. Паха, ты что ж не бережешь себя, – банщик подхватил его под правое, неимоверно тяжелое плечо, подставив свое щуплое, как у кузнечика, плечико.
Тут и я, поддавшись непонятно чему, заподхватывал его за необъятную спину, присаживая на плохо струганную лавку. Из всех проходов между белыми шкафчиками пробирались к Низовскому, скользя по мокрому полу, мужики. Замахали Низовскому в побелевшее лицо полами своих сырых простыней, обнажая мосластые коленки.
– Братки, спасибо, легче мне.
Синеокий мужичок с пегим хохолком на макушке, напрягаясь и приподнимая Низовского за голову, поил его из багрового китайского термоса.
– Чаё-ёк, – тянул Низовский, чуть улыбаясь. – Хар-рашо.
– Паша, ну как ты? – заглядывали в лицо, хлопали по плечам.
Низовский, кряхтя, сел, опустил руку, все как завороженные уставились на его могучую грудь. Уставился и я, одной половиной мозга осознавая, что на голой груди Низовского не может быть никаких отметин, а второй понимая, что увижу сейчас страшный корявый шрам, оставленный торопливым полевым хирургом в госпитальной палатке.
На груди висел прилипший банный березовый лист.
На улице Низовский еще немного похромал. Потом вдруг остановился, отпустил мое занемевшее плечо, выпрямился и захохотал, вспугивая стайки девушек.
– А, черт! Чего это я зашелся? Ахаха! Это банщик всё, хороняка, попутал, аха!.. Ты историю-то эту запиши, харрошая, брат, история.
***
Как настоящий биограф я должен был узнать многое из его жизни, копнуть вглубь. Скрепя сердце, чувствуя неприятную слабость в поджилках, я пошел за разрешением к Низовскому.
Он отдыхал от съемок в вагончике, цвыркал кипятущий, как он называл, чай из любимой кружки в застенчивый белый горошек. Щурился от пара и ложки, над которой каждый раз смеялся, но все же не вынимал из кружки. «Как можно узнать русского разведчика? А он всегда прищуривается за чаем, чтоб ложка в глаз не попадала».
– Говоришь, о моей жизни все узнать? – голосом Ивана Грозного вопросил Низовский. – Хочешь друзей моих кровных наизнанку вывернуть, всю подноготную вызнать?
Я поежился.
– Хочешь женщин моих любимых выспрашивать, в доверие им втираясь? Всё чтоб, всё рассказали, как любил Низовский, как бросал, какие слова темной ночью нашептывал?
Я склонил голову, царапая скатерть.
– Мать-старушку подкупить похвалой сыну и выведать-вызнать, как на горшке сидел, как титьку ел?
Я осознал всю степень своей мерзости и вскинул голову с заблестевшими глазами, чтоб увидел Низовский, что не такой уж я еще дрянь-человек, и наткнулся на пляшущие озорные огоньки в голубых его глазах.
– Валяй, борзописец! – и махнул лапищей. – Благословляю.
Вторую лапищу в этот момент нежно обрабатывала заботливая маникюрша.
И так царственно помавал он рукой, что я чуть не припал к ней губами, которые сами собой складывались в «благодарствуйте, батюшка».
Бр-р, от Низовского, как от наваждения, надо периодически встряхивать головой. Чтоб не забывать об этом, я поставил себе чернилами крестик во впадине между большим и указательным пальцем. И впоследствии так часто обновлял его, что чернила въелись татуировкой.
Начал я с первой учительницы.
***
Маленький провинциальный городок Берягин в далекой заснеженной Сибири. Город, давший нам Арсения Низовского (подробно см. книгу «Детство и юность Сени Низовского». – Прим. ред.). Звенящая детскими голосами школа, неожиданно большая для такого городка.
Я иду к первой учительнице Низовского, снег похрустывает под ногами. Так же он похрустывал, вероятно, когда задорный мальчуган Сеня, зажав в кулаке веревку от санок, в шапке набекрень бежал с друзьями на горку.
Софья Вениаминовна, седая и строгая, с высоко поднятой прической, словно сошла с экранов старых фильмов про первых учителей. Она уже не преподает, и в ее уютной квартирке на окраине города, как я и ожидал, на стенах всюду фотографии ее классов. Робкие первоклассники, притаившиеся за букетами, смелые рыцари с распахнутым в первый же день воротом белоснежной рубашки и рядом чуть утомленные школьной жизнью выпускники – третьеклашки. Похожие, как все школьные фотографии, до того, что невольно начинаешь искать среди школяров свое лицо и только потом спохватываешься. Есть и черно-белые фото с бритыми наголо черепушками и чубчиками мужской школы, и современные цветные, с синей формой и разномастными головенками.
Где-то здесь притаился и школьник Сеня. Может, вот этот задорный класс, все как один в военных пилотках, был его. И с ними, товарищами детских игр, он рос, и рос с ним его талант.
А может, вот эти косички дергал юный Низовский, будущий любимец всех женщин страны. Нет, не узнать его, глаза разбегаются.
– Софья Вениаминовна, – спросил я вошедшую с кухни учительницу, в одной руке чайник, в другой невиданной красоты пирог. – Покажите, пожалуйста, где здесь Арсений.
На миг мне показалось, что учительница вздрогнула, будто чего-то испугалась, но тут же показалось, что показалось.
– Дмитрий, милый мой мальчик, помогите мне, пожалуйста, пирог невероятно тяжелый.
– Да-да, конечно, пожалуйста, давайте-давайте.
Я отнес пирог на стол, где уже стояли в вазочках конфеты и искрилось варенье.
– Давайте будем пить чай и разговаривать. Неспешная беседа, что еще нужно нам, одиноким пожилым женщинам.
Мы налили по кружечке ароматного чая и приступили к беседе.
Горбатые певучие половицы, красные как пасхальное яйцо, белая крахмальная скатерть, низкий абажур. Тикают ходики, потрескивают батареи отопления. Мы сидим три часа над сказочной красоты пирогом, и седая и строгая Софья Вениаминовна рассказывает мне иронично про свой первый «Первый А», патетически про свой последний «Четвертый Б», с затаенной любовью про задорный «Третий Г». Про Арсения Низовского еще не сказано ни слова.
– Софья Вениаминовна, расскажите все же, пожалуйста, об Арсении, – попросил я, нажав кнопку миниатюрного диктофона.
Седая учительница испуганным лошадиным глазом покосилась на сверкающую штучку, устремила взгляд за окно и отчеканила:
– Арсений Иннокентьевич Низовский родился в 1955 году, в простой рабочей семье. Отец был сталеваром на знаменитом Берягинском металлургическом комбинате, мать – крановщица мебельной фабрики… Арсений Иннокентьевич…
– Ну Софья Вениаминовна… – обиженно затрубил я и выключил диктофон. – Ну зачем же вы мне это рассказываете? Это и я могу вам рассказать, слово в слово. Это напечатано на тридцать пятой странице «Энциклопедии современного искусства», третий абзац сверху.
– Да-а? – не слишком умело удивилась учительница. – Именно третий?
– Давайте попробуем еще раз, не так формально и… – я махнул рукой и щелкнул хромированной клавишей.
Снова лошадиный глаз, прямая спина, чеканная речь:
– Арсений Низовский в 17 лет покинул Берягин с рюкзаком, полным сибирских деликатесов, и…
– И через четыре дня стоял на Казанском вокзале нашей столицы уже без рюкзака, – закончил я. – «Актеры российского кино», двадцать восьмая страница, внизу.
– Надо же, – смущенно закивала, заприставляла руку ко рту учительница. – Въелось, видно, в память так.
– Ну конечно, въелось, – пришел я на помощь, дружески и сочувственно подстраиваясь и кивая. – Пирог у вас, Софья Вениаминовна, знатнейший.
– А, пирог, пирог – да, – сразу рука перестала прикрывать рот, пошла хлебосольным жестом в сторону, поплыли морщинки у глаз. – Угощайтесь, Димочка. Мальчики любят сладкое.
– И Сеееня, – улыбаюсь, протягиваю слова и руку с пирогом, привязывая одно к другому. – Тоже любил сладкое? Да?
Ну же, ну!
– Да?
Морщинки закаменели, хлебосольная рука деревянно стукнула по краю стола. Щелью рта:
– Арсений Низовский учился в средней школе №15 города Берягина с…
– С 1962 по 1971! – заорал я. – Да что ж это такое, любезная Софья Вениаминовна? Знаю я это, знаю, и знают все читатели и почитатели, и весь прогрессивный мир. Ну давайте же начнем уже! Арсений Низовский явился в первый класс… ну… совсем… ну?!.
– Крошкой? – полуспросила у меня Софья Вениаминовна.
– Да-да, Софья Вениаминовна, отлично, Софья Вениаминовна. Ну давайте продолжим. С трогательной тоненькой… ну?..
– Шейкой, – выдохнула Софья Вениаминовна.
– Ну хорошо, хорошо, Софья Вениаминовна, и непокорным светлым… ну? Что?..
– Чубом?
– Ну, ага, ага. В загорелой, поцарапанной? Ну?..
– Руке, – обрадовалась узнаванию Софья Вениаминовна.
– Во! Точно! Сеня держал букет растрепанных? Ну?..
– Георгинов! – выкрикнула Софья Вениаминовна первой ученицей и зарделась.
– Молодец! – похвалил я. – Дальше!
Через два часа утомленные, потные, навалившись грудью на стол, мы вяло жевали, не замечая вкус пирога, и слушали запись.
– Не пойдет, ни к черту не пойдет, Софья Вениаминовна, простите. Это напоминает, знаете что?
– Журнал «Веселые картинки», – привычно угадала она.
– Да. Где в печатный текст картинки вставлены для неграмотных.
– А вы знаете, Дима, – устало сказала Софья Вениаминовна, даже не косясь на диктофон. – Не помню я этого вашего Низовского. Вот совсем не помню, ни вот такой вот фитюлечки, – показала она сложенный в перстах недоеденный кусочек, посмотрела на него внимательно и съела. – Хоть ешьте меня, хоть режьте.
Я обомлел, хотел потянуться выключить диктофон и не смог, меня словно парализовало.
– Да, Дмитрий, не падайте в обморок. Я тоже сначала переживала, как вся эта волна покатилась: Низовский то, Низовский се, Низовский наше все. Думала, склероз пришел, поминай как звали. Вот так думаю, однажды утром в зеркало посмотрюсь и спрошу, кто эта милая старушка. А потом думаю, э, нет, шалишь, брат-варнак, Федю Ложечкина отлично помню, рассказать? Вот такой парень! Марину Лисичкину. Кавалерист-девица наша, весь второй «Г» от нее рыдал. Шестьдесят девятый почти весь выпуск помню. И вообще к старости наоборот все прежнее четче видится. Могу некоторые уроки по минутам пересказать. – Она зажмурилась, улыбнулась, помолодела и, вероятно, видела сейчас эти памятные уроки. – Максимку Райснера помню отлично. Любочку Великан. Поповых троих помню, не братья. Семеновых, те братья. Ивановых всех. Гримбергов парочку. Соловейко Ниночку…
Она открыла глаза, посмотрела на меня, улыбка затухла, явственно затухла как свечка. Но сказала решительно, не мямля как прежде. – Низовского совсем не помню. И на снимках не найду. Простите, Дима, – добавила она, смягчая резкость голоса.
– Пожалуйста, – сказал я совсем уж автоматически. И чужой рукой бахнув по клавишам, выключил диктофон.
Потом Софья Вениаминовна закутывала меня в коридоре в шарф, утешительно приговаривая что-то, а я испуганно смотрел на диктофон, ни разу меня не подводивший до этого и вдруг превратившийся в ядовитого и хищного зверька, и никак не мог заставить себя спрятать его за пазуху.
– Вы, Димочка, не расстраивайтесь, – щебетала сбросившая с себя груз учительница и все поправляла на мне шарф.
«Стереть или не стереть», – думал в этот момент я.
– Вы сходите к Полине Сергеевне.
«Стереть», – подумал я.
– Она вела десятый в семьдесят первом. Десятый тогда один был.
«Не сотру», – и зачесалось правое ухо.
– Она точно вам про Арсения расскажет, вспомнит, обязательно вспомнит.
– Адрес? – спросил я, окончательно решив стереть, и спрятал диктофон во внутренний карман.
– Вот, Димочка, и хорошо, и правильно, – и подоткнула клетчатый шарф под отвороты дубленки. Ребячья мозаика ехидно смотрела на меня со стен. – Если хотите, приходите в любое время, расскажу вам про Федю Ложечкина. Правда, хороший парень!
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+3
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе