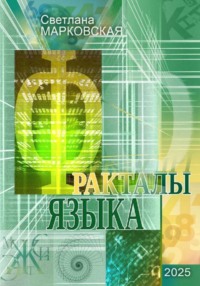Читать книгу: «Фракталы языка»
Фракталы языка
Введение
Традиционная лингвистика рассматривает язык как набор правил и норм, регулирующих употребление слов и грамматических форм. Начавшись с описания отдельных языков и их сравнения, лингвистика пришла к созданию общей типологии языков, которая, впрочем, не претендует на полноту и точность. Дальнейшие исследования показали, что особенности лексики и грамматики позволяют объединить языки урало-алтайской, афразийской и индоевропейской семей. Так родилась ностратическая теория, которая рассматривает как единый континуум большую часть евразийских языков. Н. Хомский [17] предположил, что способность к языкам является для человека врожденной, именно поэтому дети так легко овладевают речью. Отсюда следует, что существует некая глубинная универсальная грамматика, в русле которой происходит развитие любого языка. Эта грамматика неразрывно связана с мышлением человека как способом отражения явлений окружающей действительности. Формы языка задаются способом мышления человека, именно в этом причина параллелизма лексических форм, или сходства языков вопреки различиям (Д. Лакофф, Р. Лангекер) [16].
Вопросам палеолингвистики посвятили свои исследования такие выдающиеся ученые, как В.М. Иллич-Свитыч, Н.Я. Марр, В.А. Дыбо, А.Б. Долгопольский, В.Н. Топоров, Н.Д. Андреев. Они рассматривали родство ИЕ-языков с урало-алтайскими, кавказскими, палеозиатскими, дравидскими и афразийскими группами языков. Иллич-Свитыч предполагал, что все языки Евразии восходят к единому праязыку, который он назвал ностратическим [15]. Н.Я. Марр, наоборот, допускал, что исходных языков было несколько, и что современные языки являются результатом скрещивания или же расщепления исходных простых наречий [18]. Н.Д. Андреев разработал концепцию бореального языка, легшего в основу праидоевропейского [17].
Казахский писатель и лингвист О. Сулейменов рассматривает лексику ЕА языков как единое пространство, в котором отдельные словоформы могут претерпевать трансформации, сохраняя при этом связь с праисточником. Это позволяет обнаружить многочисленные связи между тюркскими и славянскими языками. О. Сулейменов не спешит говорить о заимствованиях в ту или иную сторону, но видит закономерности в искажениях корней в рамках того или иного языка. Так, славянское стремление к открытому слогу противоречит тюркской тенденции закрывать слог. Тенденция эта очень заметна в современном английском языке, который постепенно превращается в изолирующий. Сулейменов обратил внимание на закономерные чередования l-r, l-n, на умлаут, который роднит германские и семитские языки [20].
Возможно, водораздел между древними языками проходил на уровне фонетики: часть языков имела структуру CVC (как сино-тибетские, алтайские), другая часть – CV (как субстратные «банановые», современные индонезийские, отчасти японский). В фонетике второй группы преобладали гласные и переднеязычные согласные, в первой группе – заднеязычные и аффрикаты. В таком случае современные языки можно считать продуктом скрещивания языков двух типов. Процесс взаимной адаптации языков шел через фонетические мутации, которые мы и будем рассматривать [23].
Наша идея в том, что многие слова, чей облик кажется нам «данным от природы», на самом деле являются мутациями. «Выпрямляя» слова вдоль силовых линий фонетических процессов, моджно выйти на словообразовательный корень. Назовем такие слова формантами. Как лучи снежинок или веточки кораллов, от них расходятся во все стороны производные, построенные по одному и тому же образцу: так проявляется в языке фрактальность. В математике фрактал – это фигура, обладающая самоподобием. В лингвистике дериваты от разных корней в разных языках строятся по одному и тому же алгоритму. Это удивительно! Собственно, на этих двух идеях: мутабельность звуков речи и фрактальность человеческого мышления – построено наше исследование. Посвящено оно поиску правил приведения лексики к «общему знаменателю» в виде универсальных формантов. Факт существования таких формантов еще не говорит о родстве, например литовского и эвенкийского языков, но указывает, по меньшей мере, на существование какого-то общего языка, из которого разноязычные племена обильно черпали. Такую же роль играл для европейских языков латинский.
1.Типология звуков речи
Звуки, с помощью которых организована наша речь, образуются с помощью губ (/b/, /p/, /m/, /v/, /f/), прикосновением языка к зубам (/t/, /d/, /n/, /ð/, /θ/), к альвеолам, т.е. выступу за передними зубами (/s/, /z/, /ʒ/, / ʃ/, /ts/, /dz/, /dʒ/, /r/, /l/); прикосновением средней части языка к небу (/j/), прикосновением задней части языка к небу (/k/, /g/, /h/). Давайте экспериментировать. Что будет, если, произнося звук /d/, последовательно сдвигать кончик языка назад по небу? Сначала /d/ будет звучать мягко, как /d,/, затем как /dʒ,/, этот мягкий звук хорошо изестен в английском и тюркских языках, но чужд русскому. Если сдвиг продолжить, звук получит глубокий носовой оттенок и будет походить уже на /k/. Собственно говоря, для этого звука у нас нет символа. Смычный /d/ имеет щелевую пару /ð/. Если, произнося звук /d/ у альвеол, не касаться их полностью, получится звук / ʒ/. Для щелевых звуков, которые получаются при дальнейшем сдвиге назад, в евразийских языках обозначений нет.
Проделаем те же манипуляции с звуком /t/: при сдвиге к альвеолам он будет звучать как английское /t/, затем как /ts/, /tʃ /, при дальнейшем сдвиге – скорее как глубокое /k/. Щелевой парой для /t/ является / θ /. При сдвиге к альвеолам – /s/, при дальнейшем сдвиге – / ʃ/. Таким образом, проведя кончиком языка по небу как по грифу гитары, можно получить много разнообразных звуков. Гораздо больше, чем есть букв в латинском или кириллическом алфавите. Возможно, фонетическое сходство между лексемами из разных языков можно объяснить в ряде случаев разной артикуляцией одних и тех же звуков.
Но продолжим музыкальную аналогию. Пусть слово – это аккорд. Зажав струны на одном ладу – мы получим одно звучание, на другом – тот же аккорд в другой тональности.
Понаблюдаем за тем, как образуется звук /l/: почти весь язык прижат к небу, кончик у десен, губы не сомкнуты, звук выходит где-то между языком и небом. А теперь сдвинем кончик языка назад. При этом звук палатализуется. Если сдвинуть язык еще дальше, получится звук, для которого обозначения у нас нет, а в индонезийских языках, например, есть (ретрофлексный /l/). При дальнейшем сдвиге звук продолжит звучать, но его качество сильно изменится. Теперь, произнося звук /l/, оставим щель между кончиком языка и альвеолами. Получится /r/. Чем жестче кончик языка при этом, тем раскатистее звучит /r/. Кончик языка при этом вибрирует, касаясь альвеол. Поэтому звук /r/ нельзя назвать ни смычным, ни щелевым.
Если, произнося звук /r/, сдвинуть кончик языка назад, получится английское /r/ (для него нет отдельного символа), или что-то вроде слитного /rj/. Такой звук есть в польском, где слово добро звучит как [dobje]. Таким образом, мы видим, что звук на основе /l/ тоже образует серию: l – r – rj – j.
Прижимая к небу среднюю часть языка, можно получить палатальные /n,/, /g,/, /k,/, /h,/, /j/ (йот). С помощью задней части языка можно получить звуки /g/, /k/, /h/, / ŋ / и еще несколько звуков, для которых у нас нет символов. Еще дальше в гортани образуются увулярные варианты этих звуков, а также увулярный /R/, который в транскрипции обозначается тем же символом, хотя является совсем другим звуком! Таким образом, набор звуков, получаемых в задней части рта, достаточно велик, но в европейских языках мало используется. Разная артикуляция одних и тех же звуков звуков могла закрепиться потом и на письме, дав начало целому семейству дериватов. При этом иногда бывает сложно сказать, какой вариант «истинный». И наоборот: запись разных звуков одним и тем же символом могла привести к сближению исходно разных слов. Мы обнаружили множество таких пар, а иногда и целые серии изоглосс в языках Евразии.
По уровню звонкости мы делим переднеязычные звуки не на пары, а на две серии понижающейся звучности: губные: /m/, /mb/, /b/, /v/, /p/, /pf/, /f/; и зубные /n/, /nd/, /d/, /ð/, /dz/, /z/, /t/, /θ/, /s/.
Если соотношение тон-шум выразить алгебраически, можно сказать, что последовательность звуков в серии губных и зубных согласных напоминают разложение бинома Ньютона (а+в)n, где а – тон, в – шум. При этом переменные а и в входят в разложение как anb0+an-1b1+an-2b2….+a0bn, т.е. количество звука постепенно падает, а шума – наоборот, возрастает. Т.е. по критериям звонкости и смычности звуки первначальной речи обладали своего рода диффузностью, дающей почти непрерывный спектр значений вместо дискретных характеристик, принятых в современных грамматиках. С этой точки зрения звуки /l/, /r/, /R/, /j/, /w/ можно считать аппроксимантами: уровень шума в них минимален, в отличие от щелевых, в то же время нет смыкания, как в смычных. Эта граничность позволяет аппроксимантам заменять друг друга (например, во всех языках встречается мена r – l, l – j), а также заменять другие звуки, как мы увидим далее.
Самая банальная причины замены одного звука другим – удобство произнесения. Например, удобнее, когда соседние согласные образуются в одном месте (ассимиляция). Иногда оснований для замены нет, а закономерность налицо.
Вполне вероятно, что в древности каждая из приведенных серий воспринималась как непрерывный континуум, и отдельные ступени не имели смыслоразличительного значения. Фиксация различий произошла позже, отчего в языках и осталось так много схожих по звучанию и значению слов.
Судя по нашим наблюдениям, трансформации обычно идут от переднеязычных к альвеолярным и заднеязычным звукам. Такого же мнения придерживался академик Н.Я. Марр [18]. Возможно, это связано с тем, что взаимодействовали в языковом плане племена с различно устроенным артикуляционным аппаратом, т.е. относящиеся к разным расовым типам. Переход звуков в обратном направлении, от заднеязычных к среднеязычным (k-tʃ, g-j и прочие палатализации по славянскому типу) является более поздним процессом.
Важными характеристиками согласных являются их палатализация (мягкость) и лабиализация (огубленность). В русском языке эти качества целиком определяются последующей гласной: так, буквы «е», «и» маркируют палатализацию звука, буквы «о», «у» – его лабиализацию. В других языках, например, кавказских, лабиализация может обозначаться отдельными символами.
Гласные принято делить по месту образования на звуки переднего ряда (е, и), среднего ряда (э, ы, а), заднего ряда (о, у). Во многих языках важной характеристикой гласных является их долгота. В тоновых языках добавляется такая характеристика, как тон. Во всех классических языках ИЕ гласные образовывали дифтонги, которые в русском языке практически не сохранились. Из-за своей пластичности гласные не могут служить опорой в поиске словообразовательных гнезд. Так, один и тот же корень лежит в основании таких слов как поток, течь, атака, тикать (бежать, укр.).
Используемые далее символы транскрипции: [ð] – dh, [θ] – th, [dʒ] – dj, [tʃ] – tch, [ʒ] – j, [ʃ] – sh. Вся иноязычная лексика представлена преимущественно в латинской или славянской транскрипции.
Вывод: звуков речи гораздо больше, чем букв в современных алфавитах. Это создает проблему при письменной фиксации (разные звуки оказываются обозначены одной букво) и при обратной конвертации в устную речь. Накапливаясь, такие неточности могли давать целый веер изоглосс, происходящих из одного источника и по-разному записанных. И сегодня такое часто бывает при переводе имен и фамилий с иностранных языков. Например, сложно догадаться, что Булымер – это Владимир, а Мышдаулы – Мстислав (тюркская озвучка).
Звуки одного ряда представляли собой в каком-то смысле континуум до того, как начали фиксироваться на письме. Выбор между звуками одного ряда не играл смыслоразличительной роли. Поэтому, в частности, чередования парных согласных получили такое широкое распространение.
2. Материалы и методы исследования
На что мы опирались в исследовании? На тот неоспоримый факт, что в языках происходили и происходял регулярные замены одного звука другим при определенных условиях. В русском языке эта тема исследована многими известными учеными, начиная с Н.В. Крушевского [14]. Историческими чередованиями принято называть искажения, возникающие в языке с определенного момента. Сначала это проявляется только в устной речи, потом закрепляется на бумаге. Анализируя эти чередования, можно восстановить облик слов до искажения. В данном случае нас интересуют мутации согласных. Чаще всего такие чередования связаны с палатализацией: мутация происходила, только если перед согласной стоял гласный переднего ряда. То есть сначала мутировали гласные, за ними – согласные. В русском языке это чередования д-з (водить – возить), д-ж (род – рожать), г-ж (могу – можешь), к-ч (око – очи), к-ц (лик – лицо), г-з (княгиня – князь), с-ш (лес – леший), х-ш (кроха – крошить), ротацизм (марать – мазать), мл > мн (земля – земной), ст > ск (блестеть – блеск), пл > п (куплю – купить), м-н (семь – сентябрь).
Свои регулярные чередования есть в молдавском языке: д-г (одеяло – огял), т-ц (бат – баць, спряжение глагола бить), к-ч (фак – фачь, спряжение глагола с значением делать), в-ж (виу – жиу, живой), г-ж (унг – унжь, спряжение глагола с значением мазать), д-з (вэд – везь, в спряжении глагола с значением видеть), н > й (пун – пуй, спряжение глаглола с значением класть), т > ц (перете – перець, стена, образование формы множ. числа), с > ш (урс – уршь, медведь, образование формы множ. числа). Как и в русском языке, мутации согласных связаны с сужением находящихся рядом гласных – их переходом от среднего ряда к переднему.
В европейских языках регулярно чередуются парные по звонкости: head (голова) – hat (шляпа); bed (кровать, анг.) – пат (то же, молд.).
Отметим также мену t-s: revolution (революция, анг.) – revolusion (то же, фран.); ротацизм: were – was, are – is; мену l – n: hold (держать, анг.) – hand (рука, анг.).
В финно-угорских языках наблюдается мена т-с: тол – сал (огонь, мар.),
g-k (gatil – katil, убийца в азербайджанском и башкирском), s-h (siz – hiz, местоимение вы в азербайджанском и башкирском языках).
Те чередования, которые не зафиксированы на письме, называются гомохроническими. Они отражают дистанцию между устной и письменной речью. В русском языке это сингармонизм парных согласных (выравнивание по звонкости в соседних слогах), их оглушение в слабой позиции, сингармонизм безударных гласных, мена в-г (его – ево), ч-ш (что – што), ассимиляция вида дребезжать – дребежжать, появление немых согласных в местах их стечения: сердце – серце, добавление согласной: нравится – ндравится, пиджак – пинджак.
В молдавском языке таких чередований тоже достаточно: м-н: минтэ – нинтэ (мята), б-г: бине – гине (хорошо), п-к: пятрэ – кятрэ (камень), ф-ш: фир – шир (прядь, нить), в-ж: виу – жиу (живой), д-г (Федя – Фегя). Обратим внимание, что все эти чередования связаны с передвижением от переднеязычных к заднеязычным звукам, что совершенно нехарактерно для русского языка. В молдавском языке парные согласные не оглушаются, как и в германских языках, о > а не переходит, но заметна тенденция к сужению гласных: е > и, дифтонгизация: боль – боалэ, овен – оае; сингармонизм (лингурь – люнгурь, ложки, мн.ч.).
В полинезийских языках самоа и тонга в устной речи регулярно происходит замена согласных t > k, n > g, r > l: tupe – kupe (деньги), nofo – gofo (сидеть).
Письменный и устный английский чрезвычайно далеко расходятся. Важно, что в письменной форме английского зачастую законсервированы древние корни праязыка, уже непонятные говорящим. Также отметим мутации t > ʃ, t > tʃ, g > dʒ и исчезновение /r/, /s/ в некоторых позициях, особенно на конце слов. Английский язык изобилует диффузоидами, которые заменяют аналогичные звуки полного смыкания: brоther (брат) – birader (то же, тур., происходит, вероятно, от понятия «единокровный» – сравним с числительным бир – один).
Ближе всего дистанция между устной и письменной речью в случае тюркских языков, в то же время, в этих языках уже произошли и закрепились некоторые мутации, которые отдаляют их от фонетики ИЕ языков. Это в первую очередь появление аффрикат: /s/ переходит в /tʃ/ в большинстве тюркских языков: агас (дерево, башк.) – агач (дерево, азерб.), ос (конец, башк.) – уч (конец, азерб.).
Еще одним источником изучения мутаций послужила русская диалектная речь. Так, в рязанских говорах не происходит мена д > ж: ходить – ходю. Заметна тенденция к яканью, которая так ярко проявляется в белорусском языке: тебе – тябе. Палатализация согласно в позиции перед гласной переднего ряда затрагивает и последующий слог, как в финно-угорских языках: ходят – ходють. Некоторые диалектные слова соотносятся с лексикой других евразийских (далее – ЕА) языков. Так, рязанскому векша (белка) соответствует чувашское пекша (то же).
Но самым главным источником является сопоставление слов с одинаковым значением и родственными корнями в разных языках. Например, пара изоглосс свободный – слобод (молд.) указывает на мену в/л, хотя и не дает информации о направлении мутации. В паре бир (один, тюрк.) – первый очевидна тенденция к озвончению, характеризующая тюркские языки, поскольку еще в древнегреческом языке слово известно в глухом варианте.
В ходе исследования нам удалось обнаружить целые ряды изоглосс, отличающихся лишь одной из вышеперечисленных мутаций.
Вывод: исторические и гомохронические чередоваиня в языках Евразии могут служить ориентиром при поиске изоглосс, в которых некогда реализовались те же самые мутации. Между мутациями, наблюдаемыми в языках Евразии, нет принципиальных различий, можно отсметить лишь разность в относительной частоте той или иной мутации. Наиболее распространенными являются чередования между парными по звонкости согласными, а также между соответственными смычными и щелевыми.
3. Конфликт фонетических систем
В развитии любого языка огромную роль играет его фиксация на письме, либо в транслируемых изустно обрядово-мифологических формах. Письменная фиксация (устная – меньше) позволяет отсечь звуки языка от множества звуков, используемых в реальности его носителями. Звучащее слово имеет множество вариантов, письменное – один. Вслед за О. Сулейменовым мы считаем, что именно письменный язык является носителем как языковой традиции, так и отклонений от нее.
Речь отражает человеческий дух так же, как поэзия, сновидения, мифы. Конечно, физика и математика – гораздо более точный оттиск человеческой мысли. Как в снах за нагромождением образов, врывающихся из дня в ночь, проступают глубокие идеи и чувства сновидца, так в речи за функциональностью стоит архетипическая структура [16].
Основополагающей идеей наших исследований является предположение о наличии двух исходных типов языка, названных далее м-языками и к-языками. В первых среди звуков преобладают гласные и переднеязычные согласные, во вторых – заднеязычные согласные, роль гласных меньше. Взаимодействие двух типов языков и породило то многообразие их, которое мы имеем ныне. Это взаимодействие выразилось не только в заимствованиях, но, главным образом, в фонетической ассимиляции заимствованных слов. Это происходило примерно так, как сегодня с американским английским, на котором говорят мигранты из разных стран, искажая его, упрощая и приводя к некому общему для разных говоров знаменателю. Возможно, двигателем языковых изменений являются именно миграции, заставляющие массы людей переходить на новый язык. Например, известное из египетских хроник «нашествие народов моря» было не столько военной операцией, сколько неконтролируемой миграцией.
Мы полагаем, современные языки Евразии являются результатом интерференции как минимум двух исходных языков с разной структурой. Интерференция не есть нивелирующее смешение, но распределение признаков по определенному закону. Предполагаемые особенности двух взаимодействующих языковых систем:
В первой системе:
Формообразующая роль гласных и полугласных, открытый слог типа V, CV, как следствие, обилие дифтонгов; отсутствие оппозиции глухих и звонких согласных.
Во второй системе:
Закрытый слог типа CVC. Преобладающая роль согласных; неразличение звуков р-л; преобладание заднеязычных согласных над переднеязычными.
Наблюдение за функционированием языков Евразии показывает, что их можно распределить на группы и по другому признаку: насколько далеко расходится письменный знак и устная речь. На одном из полюсов можно поместить английский как язык, в котором это расхождение максимально. На другом – тюркские, где расхождений практически нет. На этом основании можно сделать выводы о древности письменности и о скорости фонетических процессов в языке. Чем больше расхождение, тем вероятнее, что письменность складывалась в условиях преобладания другого языка. Ведь когда-то буквы, которыми записываются английские слова, передавали точь-в-точь его звучание. Что заставило саков, готов (а это и наши предки тоже) так сильно изменить свою речь? Наплыв мигрантов? Большое число заимствованных слов, для которых приходилось вводить специальные обозначения? Так, в случае, если в язык заимствовалось слово, имеющее звучание, не передаваемое инструментарием родного языка, вводилась комбинация письменных знаков. По этой причине возникли английские сочетания ght, ck, ch, th, а также, вероятно, сочетания bh, ph, gh в санскрите. В дальнейшем такое написание могло, в отсутствии образца правильного произнесения, привести к искажению звучания данной лексемы. Так, английское wheel (колесо) соответствует молдавскому билэ (диск). Видимо, исходным был звук, средний в серии аллофонов m-b-p, для которого в алфавите не было отдельной буквы. То же касается серии n-d-t-ts, которые тоже могли восприниматься как аллофоны. Не было специальных знаков для щелевых аппроксимантов смычных согласных /d/, /t/, /b/, /p/. Греческая бета звучала средне между /b/ и /v/. И поэтому один и тот же корень дал начало словам материя (природа), vita (жизнь) и ботаника. Неразличение звуков b-v может указывать, в частности, на общее происхождение некоторых имен богов, например, таких, как азиатский Баал и славянский Велес. Общее значение слова – господин, властитель (сравним с финно-угорским термином велет, или князь, тюркским вилайят – административная область, русским власть).
В каком-то смысле история Евразии – это история борьбы двух принципиально разных языковых систем. Первая требовала открытого слога и опиралась на сонорные и переднеязычные согласные, вторая, наоборот, стремилась к закрытому слогу и предпочитала заднеязычные согласные. Палатализации, которых в древнерусском насчитывается целых три, были вызваны, по сути, сужением ротовой полости при говорении. Палатализации переводят звуки в среднюю область рта. Шипящие – это итоговый продукт многих фонетических реакций. Борьба двух принципов отражена даже в русской грамматике: когда мы учим первоклассников слогоделению, объясняем, что слог закрыть может только полугласная (сонорная). А при переносе делим на слоги совсем иначе: по слогам ро-дня, но при переносе род-ня. В устном молдавском заметна тенденция к закрытию слога: вместо литературного копил (ребенок) произносится копкил. Такого же рода пример можно привести из русского языка: вместо пиджак – простонародное пинджак. Здесь дж – один звук, звонкая пара /ч/.
Человеческая гортань способна издавать множество разнообразных звуков. Почему для речи были отобраны именно те, что есть в алфавитах? Легко представить язык, не использующий заднеязычные, гортанные звуки. Наоборот – без зубных и губных – сложно. В пример можно привести разве что бурятское горловое пение.
Столкновение двух фонетических систем, с слогом вида V, CV – и CVC вызвало так называемое падение редуцированных гласных, которые в безударном положении переставали звучать или нивелировались. Именно противоборством двух фонетических систем вызвано функционирование – а затем прекращение действия закона открытого слога в древнерусском языке [18]. С другой стороны, то же противоборство вызвало вставку сонорной туда, где ее в исходной форме, вероятно, не было. Так, русскому ряд соответствует молдавское рынд, слову пята – пинтень (шпоры), слову мяч – минже, слову зубр – зимбру. Это явление встречается не только в молдавском: сравним Сибирь – и Симбирск.
Английский язык, как и русский, являет собой пример противоборствующих тенденций: с одной стороны, перестали читаться гласные на конце слов (закрытие слога), с другой – сонорные в конечном слоге не читаются, порождая дифтонги. Например, в словах where, here, morning.
В тюркских, сино-кавказских, финно-угорских языках преобладает структура слога CVC [21]. Роль гласных в них мала (сингармонизм приводит к нейтрализации гласных). Индоевропейские языки, несмотря на пересборку слогов, вызванную падением редуцированных, сохраняют важную роль гласных. Флективность и есть по большей части использование гласной или их комбинации в качестве морфемы (аффикса). Поскольку гласных звуков меньше, и они перестали различаться по долготе и тону, неудивительно, что значения морфем накладываются друг на друга. Этот факт позволяет сгруппировать на другом полюсе языки ИЕ, полинезийские, японский, а также абазинский и черкесский (кавказские языки). Два последних распространены в России. Гласные в них сильно преобладают над согласными, около 90% слов начинаются с гласной. Примеры из абазинского: ауаа (люди, народ), уааи (прийти), алоа (пламя), еуу (доска), аоы (вино).
Геологи полагают, что между Индией и Австралией, на месте многочисленных островов Индонезии, располагался некогда материк. Возможно, именно там – родина «банановых» языков с преобладанием гласных. Языки современной Индонезии имеют много общего: в них нет шипящих звуков и йота. В языке самоа нет звука /r/, а в языке тонга /d/ произносится с загнутым вверх кончиком языка, так что звучит он как нечто среднее между /r/, /l/ и /d/. Парные согласные озвончаются перед гласной, как и в русском языке. Слог простой и кончается на гласную. Английское имя Джон на языке самоа прозвучит как Сионе. Возможно, некогда на этом исчезнувшем континенте была развитая цивилизация, у которой имелись колонии в Средиземноморье и Индии. Эти люди принесли в Евразию свой язык и мифологию. После катастрофы, которая случилась примерно 12 тысяч лет до н.э., языки стали искажаться. Ведь для правильной артикуляции нужна хорошо развитая гортань, учебники и учителя. У самоа и сейчас есть два языка: на одном, более древнем, говорит аристократия и правительство, на другом простой народ. Есть сходство в лексике индонезийских и евразийских языков: так, сравним английское mountain (гора) и полинезийское maunga (гора), русское материк и motu (остров, самоа), мат (смерть короля в шахматах) и mate (умереть, самоа), английское tell (сказать), башкирское теле (язык) и полинезийское tala (сказать).
У маори существуют мифы о белолицых опасных духах, которые живут в лесах. А значит, сами маори – не исконные жители островов. Верховное божество маори – Тангароа, буквально "большой человек" (танга роа). У шумеров и алтайских народов верховное божество носит имя Тангра или Тенгри. На башкирском dhangiri означает «синий, небесный цвет». Возможно, это слово – наследие древней цивилизации, которую переняли шумеры, а от них тюрки. Возможно, этимологически связаны самоанский Тама (солнце, божество), булгарский Тамья (первобог), критский Talas (великан, солнце), азиатский Таммуз или Думузи, шумерский Шамаш (солнце) и русские дериваты сам, самый, самец, а также английское sun (солнце). Вот такой цикл фонетических мутаций прошел этот древний корень.
Вывод: в каком-то смысле все многообразие языков Евразии, как живых, так и мертвых, можно представить как результат интерференции двух языковых систем, различающихся фонетически. В первой группе преобладали гласные и переднеязычные согласные, слог был открытым, во второй были шире представлены заднеязычные согласные, слог состоял из двух согласных и гласной. Конечно, реальность, как водится, гораздо сложней, ведь на развитие языков влияют многие факторы. Самый главный из них – это миграции, вынуждающие большие массы людей переходить на другой язык.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе