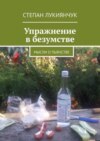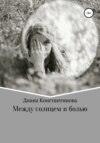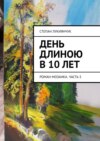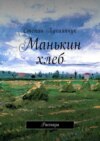Читать книгу: «Упражнение в безумстве. Мысли о пьянстве», страница 2
«И я там был, мёд, пиво пил…»
Занимательно и интересно будет разобраться со следующим вопросом: чем угощались наши предки во время застолий, и какой крепости был употребляемый напиток? Отличный знаток нравов и обычаев народа, русский историк и этнограф, профессор Костомаров (1817—1885), категорически не согласный с мнением о повальном пьянстве русских и, отвергая его, доказывал, что в Древней Руси пили очень мало и лишь на избранные праздники. Славяне пили медовуху и пиво, бражничали брагой, «квасили» квасом. К единому мнению о крепости употребляемых напитков исследователи не пришли, но большинство соглашается с тем, что градус пития составлял всего от 2 до 10% [2,47]; [3,38]. Естественно, напитки с низким содержанием алкоголя, употребляемые к тому же в небольших количествах во время застолий, обильно закусываемые различной снедью, вряд ли могли подорвать здоровье людей. Опьянение от них несильно и действует самое непродолжительное время.
В X веке с момента Крещения Руси, очевидно, наряду с усвоением новой религии оживилась торговля, увеличился товарооборот, крепли культурные связи между византийцами и русичами. В Киевской Руси стало известно привозное из Византии вино, которое, в частности, использовали при священнодействии в качестве одного из необходимых составляющих церковного таинства причащения. Могло ли византийское вино послужить причиной усиления на Руси пьянства и привести к пресловутой алкоголизации населения, которая стала к настоящему моменту одной из визитных карточек, сопутствующих России при её интеграции в мировую поликультуру, наряду с такими яркими брендами, характеризующими нас, как Сибирь, валенки, матрешка? Конечно же, навряд ли! Употреблять вино большими количествами было бы довольно обременительным удовольствием для кошелька не только простого обывателя, но и зажиточного городского жителя тех времён. В основном вино приобретала городская знать и богатые мужи, которые, тем не менее, предпочитали в силу понятных причин напитки местного производства. В книге Похлёбкина «История водки» утверждается, что минимум до XII века вино на Руси «употребляли только разбавленное водой, так же, как его пили в Греции и Византии. 11-типроцентное вино разбавляли водой в соотношении 1:3 или 2:5 [8]. Греки пили разбавленное вино, так как оно лучше утоляло жажду, и человек не пьянел» [3,37]. В Древней Греции, вообще, пить неразбавленное вино считалось недостойным гражданина [3,87].
Употребляемые русичами алкогольные изделия, как правило, варились специально к большим праздникам [3,38], были в основном домашнего кустарного производства [6]. Наверняка, каждый дом хранил свою традицию изготовления веселящего напитка.
Нужно отметить, что заниматься производством спиртного для продажи было зазорно, не в чести у русского народа [9]. Пьянство повсеместно порицалось, считалось пороком, пьяниц не уважали ещё и потому, что материальный достаток, вследствие своего пагубного пристрастия, они имели редко. Но это совсем не означает, что славяне были исключительными трезвенниками. И в их среде встречались оголтелые винопийцы, как и в любом другом народе, чья культура однажды столкнулась со вкусом перебродившего ягодно-плодового субстрата. Упивание вином – тяжкий проступок – это было известно с древнейших времён: «Вино – глумливо, сикера – буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен» [4, глава 20], – восклицал Соломон Премудрый. А то, что «веселие на Руси есть пити» – этому можно противопоставить: «Что за жизнь без вина? оно сотворено на веселие людям». Но никто никогда не заикался, ссылаясь на эту фразу, что в древнееврейском народе процветало пьянство!
При всём том нужно всё-таки признать объективную вещь: русские тоже люди, и в их общественной среде присутствовало злоупотребление вином. К сожалению, пьянство и алкоголизм развивались параллельно с общественными институтами, вроде бы никак не связанными с ними. Совершенствовались приёмы виноделия, увеличивалось производство, слабели, разбалтывались морально-нравственные устои, являющиеся фундаментальным основанием всякого, тем более древнего общества, служащие добротной преградой на пути противоестественным отклонениям от «нормальности».
Когда появились первые свидетельства о пьянстве, как пороке, бичующем его на Руси? Это отнюдь не Стоглавый Собор 1551 года: «Пить вино во славу Божию, а не во пьянство» [10,242], как утверждают некоторые исследователи [12]. Есть более ранние документальные свидетельства о пьянстве в среде русских. Как минимум, уже во второй половине XIII века на Владимирском Соборе 1274 года митрополит Кирилл II в «Поучении к попам» говорил: «Блюдитесь же отселе всякого греха: не работайте плоти, отстаньте от пьянства и объедения…». Позже в XIV веке и митрополит Московский Алексий сетовал сокрушенно: «Ещё, дети, пишу вам и о том, чтобы вы отсекли от себя корень зла, возбуждающий всякое беззаконие, то есть пьянство: оно, во-первых, погубляет душу, отнимает зрение очей, тело делает бессильным, сокращает жизнь телесную… доводит его до нищеты душевной… Смотрите же, дети, сколько зла в пьянстве!» – пишет он, предупреждая свою паству о тяжёлых последствиях злоупотребления вином [10,242; 10,257]. Вывод прост: если предупреждает – значит, было от чего.
Русские в древние времена употребляли хмельные изделия, случалось в их среде и пьянство. Можно ли, в действительности, употребление спиртных напитков в древнерусский период назвать повальным пьянством, в такой мере присущим только нашим предкам или всё же это, вследствие каких-либо причин, искажение имевшей место быть реальной ситуации? Уверен абсолютно: чтобы составить более объективное мнение по этому вопросу, разобраться в этой запутанной истории, вы должны набраться терпения и прочесть хотя бы ещё несколько страниц текста. Там встретятся и наглядные примеры, и неумолимая, бескомпромиссная статистика, и документальные свидетельства, мнения известных всему миру людей, чьи слова, ну, никак нельзя поставить под какое бы то ни было сомнение в правдивости сказанного!
«Вдруг вышел из бутылки джинн…»
До некоторых пор люди употребляли в качестве веселящего напитка жидкости, по крепости, редко превышающие 11%. И дело совершенно не в том, что в большем градусе вина не было необходимости, а в том, что больший градус на практике в обыкновенных условиях недоступен, т.к. в процессе брожения на границе 18—20° дрожжевые грибки начинают гибнуть, переставая перерабатывать крахмал и сахар в алкоголь [2,47]. Подобная ситуация оставалась неизменной ровно до тех пор, пока в виноделии не произошёл настоящий «инновационный» прорыв! По сути произошла настоящая революция, которая, несомненно, сообщила истории алкоголизма новый виток развития, ускорив этот процесс. Изобретение, позволившее переступить доселе неприступную планку в 20° в масштабах виноделия, по глобальности можно сравнить разве что с первым полётом человека в космос. Это изобретение позволило посредством перегонки алкоголесодержащих жидкостей выделять чистый спирт.
Современным людям не надо долго объяснять, по какому принципу действует самогонный аппарат, и как, примерно, он должен выглядеть. Как выглядело изобретение, позволившее выделить первые капельки винной эссенции, – неизвестно и, по сути, маловажно. Более актуально здесь будет узнать: кто первый к изобретению самогонки руку, так сказать, приложил.
В некоторых книгах, рассказывающих о проблеме пьянства, не делается особенных различий между двумя качественно отличающимися друг от друга изделиями – самогона и водки. Оттого что люди соединяют воедино эти два понятия, происходит некоторая путаница в вопросе первооткрывательства «самопала». Водка, как исключительный рецепт приготовления алкогольного напитка, вполне может оказаться русским изобретением [2,48]. А вот первая химическая реакция, сопровождающаяся выделением чистого этилового спирта, была проведена, по некоторым упоминаниям [3,37], арабскими алхимиками в VI – VII веке. В исследовательском труде Прыжова И. Г. отмечается, что искусственный алкоголь, получаемый путём перегонки, был получен арабским медиком и алхимиком ар-Рази (Разесом или Рабезом) только лишь в 860 году. Между двумя источниками в датировке открытия существенная разница в целых два века. Единственно с полной вероятностью можно заключить, что самогон был изобретён не кем иным, как одним из гениев арабской научной мысли. Полученный винный спирт, естественно, был назван по-арабски: «аль-кеголь» (в переводе «дух вина», «одурманивающий»). Очень занимательно и интересно то обстоятельство, что винный спирт синтезирован именно арабами, исповедовавшими ислам. Основоположник мусульманской религии Мухаммед (570—632 г.) категорически запрещал своим последователям употребление одурманивающих напитков. Этот запрет отразился в своде мусульманских законов – Коране (VII в.), за отступление от которых провинившихся ожидала жестокая кара. В смелости арабским естествоиспытателям не откажешь: проводить эксперименты под «носом» у агрессивно настроенных властей с веществами, находящимися под запретом, рискуя здоровьем или даже жизнью!
Какими путями – прямыми или окольными – «алькеголь» распространился по Европе – неведомо никому. Важно, что он в Старом Свете становится известным только с XIII века [7].
Нелишне упомянуть об одной легенде, согласно которой в Средневековой Европе со временем также научились изготовлять крепкие спиртные напитки. Сказание повествует о монахе-алхимике, неком итальянце Валентиниусе [2,48; 3,37]. Доподлинно неизвестно: сам ли он докопался до секрета изготовления этилового спирта или ему «подсказали» арабские коллеги – упоминается лишь, что, испытав состояние сильного алкогольного опьянения, алхимик заявил о чудодейственности полученного эликсира, делающего «старца молодым, утомленного бодрым, тоскующего весёлым» [3,37]. За обжигающий вкус, «целительные» свойства, полученный алкоголь с XV века именуется «огненной водой», «водой жизни» (аквавита). Спустя всего три столетия, как бы в насмешку над наивностью средневекового монаха, иронически отображая действительность, «аквавита» переименовывается в «аквамортис» – «вода смерти» [2,48].
До XVI века «доброго джинна», выпущенного из бутылки арабами на радость и утешение всему миру с благими намерениями, в странах Европы использовали в качестве лекарственного средства [6; 2,48]. В те далёкие от нас времена ещё никому в голову не приходила «гениальная» мысль, что алкоголь как товар народного потребления может стать неотъемлемой частью торгового оборота. До производства горячительной жидкости в промышленных масштабах додумаются позже, а пока, исключительно в гуманных целях, «аквавита» отпускалась в аптеках с целью облегчения страданий больных людей!
Приведенные выше факты со стопроцентной однозначностью позволяют утверждать, что в изобретении крепкого алкогольного напитка русские, слава Богу, неповинны! Хотя, кто их знает, этих русских…
«Русская корчма и знакомство с водкой»
Предшественницей последующих питейных заведений, подобно пиявкам, сосущим ныне жизненные силы россиян, была старорусская корчма. Преувеличением будет, если утверждать, что корчма использовалась русскими именно для употребления хмельных напитков. Корчма – своего рода постоялый двор, где предоставлялся отдых и ночлег утомленным дорогой путникам. Вместе с едой и закуской, скорее как дополнительное «удобство» к предоставляемому уюту, гостям при желании подавалось хмельное.
Для окрестных жителей корчма являлась местом общественного схода, возможностью пообщаться, узнать последние новости от соседей и случающихся путешествующих постояльцев. Неизменно пиво и мёд подавались вместе с закуской. По сложившейся традиции в корчме не существовало классового различия и сословной субординации. Свидетельство этого обычая дошло до наших дней в известной пословице: «В корчме и бане – равные дворяне». О повальном пьянстве, устраиваемом в корчмах, достоверных сведений у историков не имеется.
Первым местом, где, вероятнее всего, могла получить широкое распространение водка, могла стать корчма. По сведениям журнала «Алкогольная болезнь» виноградный спирт начал завозиться на Русь в 1386 г., а изготовление спирта из ржаного хлеба русские начали в период между 1448—1474 годами. Эта версия имеет право на существование, однако другие источники повествуют о другом. По некоторым данным завоз водки в Россию осуществляли посредством торговли с генуэзскими купцами с 1428 г. [1]. Ещё один источник утверждает, что водка к нам завозилась теми же купцами, но только в начале XVI столетия. (2,48). XVI век, как дату знакомства Руси с водкой, поддерживает в своём труде И. Г. Прыжов [7]. Существует ещё одно альтернативное мнение, кардинально переворачивающее историю водки. Некоторый научно-исследовательский институт на страницах собственного издания «Ферментная и спиртовая промышленность» отстаивал отечественный приоритет в изобретении водки, опираясь на заимствование якобы в стародавние времена прочими языками из русского слов: «водка», «руссиан водка», «водка руссе» [2,48]. Из всего перечисленного версия о генуэзских купцах кажется более правдоподобной.
Вне зависимости от того, когда на Руси был откупорен первый сосуд с «огненной» жидкостью, признание русских она завоевала далеко не сразу [2,49]. Водка являлась крепким алкогольным изделием и на фоне других употребляемых русичами хмелей выделялась отвратительным резким вкусом. Должно быть, не за один приём можно было привыкнуть и к отличительному свойству иноземного напитка: быстро, сильно и надолго опьянять людей. Не понаслышке известно, что человек в состоянии алкогольного опьянения редко, фактически никогда не ведёт себя адекватно, плохо контролирует собственные слова и поступки, зачастую отличается аморальным, безнравственным поведением. Церковь, боровшаяся с порочными наклонностями в обществе, отрицательно относилась к злоупотреблению хмелями, к упиванию вином, естественно, с большим подозрением отнеслась к крепкому напитку. Вероятно, к мутноватой зелёной жидкости с огромным недоверием относились в Византийской империи, и это недоверие, так скажем, по наследству было усвоено Древней Русью. После Крещения Руси цивилизация ромеев (византийцев) стала нам духовно близка, многие обычаи русские переняли от греков, поэтому знаменательно, что водка была завезена к нам не из Византии, которая делилась с Русью духовно-нравственными ценностями, а из Европы, которая (особенно это заметно в последнее время) в общем экспортировала культуру сомнительного качества. Интуитивно прозревая вредоносность распространения нового пития среди простого люда, светские и духовные власти (в старые времена они составляли целостность одной власти), пытались обуздать развивающееся кормчество.
О степени распространения пьянства можно судить, опираясь на свидетельство постороннего наблюдателя, австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна, побывавшего в Москве в 1517—1526 г. г. В «Записках о Московии» он повествует: «Именитые, либо богатые мужи чтут праздничные дни тем, что по окончании Богослужения устрояют пиршества и пьянства, {…} а простой народ, слуги и рабы по большей части работают, говоря, что праздничать и воздерживаться от работы – дело господское… Человеку простого звания воспрещены напитки: пиво и мёд, но всё же им позволено пить в некоторые особо торжественные дни, {…} в которые они воздерживаются от работы…» [11].
Незаинтересованному австрийскому дипломату навряд ли было с руки писать неправду. Основываясь на словах иностранного современника, можно заключить, что и в этот временной промежуток винопитие на Руси не свирепствовало, не проявляло каких-либо особенных черт и свойств, не считалось характерным признаком сугубо национальной русской этнографии. Народ жил благочестиво, чтил церковные праздники. Простолюдинам пьянствовать вовсе запрещалось, да и было ли когда: чтобы прокормить себя и членов большой семьи, которая в свете нынешних дней была просто огромна, необходимо было много и упорно работать, посвящая труду почти всё своё время. А знатные и состоятельные мужи проводили жизнь по принципу, отражённому в пословице: «Делу время – потехе час».
«Дело – «кабак»!
По некоторым свидетельствам, кабаки на Руси стали открывать уже в правление Ивана III [3,39]. По версии других источников, первое питейное заведение типа «кабак» было построено на Балчуге в 1533 г., которое в народе быстро окрестили «царёвым кабаком» [12]. По данным И. Г. Прыжова, первый большой кабак устраивает Иван IV в 1552 г. [2,49].
Питейная реформа на Руси, как гром среди ясного неба, грянула после присоединения Иваном Грозным Казанского ханства. По слухам, во время казанского похода царю-батюшке так глянулось устроение татарских кабаков, что после возвращения в Москву учреждается свой русский кабак. Название нового питейного заведения, сменившего старую корчму, благополучно перекочевало из тюркского языка, на котором этим словом обозначали постоялые дворы, где подавались еда и питьё.
Первый кабак устраивался для «своих». Пить цареву водку считалось большой честью [2,49]. По предназначению татарский кабак и русская корчма фактически ничем не отличались. Однако нововведение – русский кабак – имело одну немаловажную особенность: в нём запрещалось к спиртным напиткам подавать еду и закуску, что, соответственно, приводило к быстрому опьянению [12;6]. Новое питейное заведение так полюбилось царю, что в 1555 г. « из Москвы начали предписывать наместникам областей прекращать всюду свободную торговлю питиями, т.е. корчму, кормчество, и разводить царевы кабаки» [7;12].
Чем, в действительности, завоевал симпатии Ивана грозного кабак – загадка истории. Возможно, ему либо одному из его приближённых опричников во время возлияния (или после него) пришла отнюдь не Божеская, а поистине дьявольская мысль, что при помощи кабаков можно существенно пополнить казну. Заинтересованность в «пьяных» поборах у царя была явно высокая, потому что уже в 1588 г. иностранец Флетчер, побывавший в Московском государстве, сообщает о том, что в каждом большом городе устроен кабак, где продаётся водка, мёд и пиво [12].
Своеобразная политика государства привела к возникновению прообраза винной монополии на Руси. Повсеместно корчмы «выкорчёвывались», был издан запрет на изготовление и торговлю хмелями для частных лиц, торговля алкоголем переведена в казённые заведения, на которые был наложен определённый годовой сбор денежных средств. Заведовали кабаками кабацкие головы или целовальники (целовавшие крест, обязуясь торговать честно). В случае недосдачи необходимой годовой суммы (обязательно большей против прошлогодней) перед государством, по замыслу, должны были отвечать именно кабацкие головы и целовальники. На самом деле, наказывались обычно посадский и крестьянский люд: их ожидал так называемый «правёж», т.е. публичная порка и долговая тюрьма [6].
Чуть позже винную торговлю в кабаках начали отдавать на откуп боярам и торговым людям. Откупщики вносили в казну определённую сумму денег и получали право торговать казённой водкой в той или иной местности. Естественно, что они кровно были заинтересованы в том, чтобы народ как можно чаще посещал питейные заведения. Кабацкие головы и целовальники ревностно следили за тем, чтобы население не варило тайно мёд и брагу для собственного употребления. О нарушителях сообщалось властям. Провинившиеся подвергались различным наказаниям, например, их могли наказать ударами тонких палок (батоги) [3, 39], секли руки, ссылали в Сибирь (2,50). Владельцы кабаков, стремившиеся скорее окупить выплаченный государству налог и получить максимальную прибыль, продавали спиртное в кредит и под залог [2, 29]. «При недоборах казна не принимала никаких оправданий – ни того, что народ пить не хочет, ни того, что пить ему не на что… Народ переставал пить, и целовальники доносили царю», – пишет Прыжов [7].
Жёсткая карательная политика государства привела к тому, что при царе Борисе Годунове в 1598 г. корчмы были уничтожены повсеместно, частная виноторговля прекратилась [12]. Откупная система казне была очень выгодна, т.к. вне зависимости от обстоятельств торговли, она гарантировала поступление денежных средств. Государство всемерно поддерживало виноторговцев, в случае конфликтов однозначно принимая их сторону. В свою очередь откупщики правым и неправым способом выжимали деньги у населения. Народ беднел, нравственно деградировал, и это не могло не раздражать простой люд. Всякое действие рождает противодействие; несправедливость рождает чувство возмущения. Возмущение народа, недовольного политикой властей, выливается в акции неповиновения, мятеж, крамолу. Недовольство кабацкой политикой перерастает в кабацкий бунт.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе