История одной казачьей станицы
Текст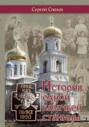


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 14,90 ₽
- Объем: 420 стр. 1 иллюстрация
- Жанр: историческая литература
Все воспоминания эти вместе с заслугами Войска в Отечественную войну и различными подвигами частей и лиц оного в других кампаниях заставляют казаков гордиться своим военным званием. Как гражданин каждый простой казак считает себя с некоторым основанием несравненно выше всех прочих податных сословий России. Выборное начало и другие либеральные права, составляющие основу казачества на Дону, развили в нём чувство собственного достоинства и самостоятельности. Любознательность и жажда образования, свойственные донским казакам, вместе с родом службы их от берегов Аракса до северных границ Финляндии и пребывание полков в Бессарабии и Польше, ознакомили сословие это с другими элементами жизни и, несомненно, способствовали развитию понятий, которым далека и чужда общая масса населения России. Сравнительное материальное благосостояние казака, против крестьян в России, даёт этому сословию также считать себя в этом отношении выше последних. Каждый, немного зажиточный казак, особенно во время покоса и уборки хлеба, нанимает себе работников из пришедших крестьян и считается на это время хозяином их.
Общепринятое у простых казаков москаль и хохол для именования жителей Российских губерний и Малороссии, суть выражений, хотя и не враждебных, но далеко и недружелюбных. Кроме того, опасения казаков, что иногородние приобретут в юртах или окрестностях оных основы поземельной собственности, всегда будут встречены казаками с крайним неудовольствием, может, даже с гласным ропотом…»
Заметьте, эта характеристика казачьему сословию дана сразу после отмены крепостного права в России, более чем за полвека до событий октября 1917 года. Но разве кто-то внял этим предостережениям?
2.3. Для того казак родился, чтоб царю пригодился
В Каменском городском краеведческом музее хранится казачья фуражка. На ней кокарда с надписью по кругу: «За Веру, Царя и Отечество». Эта короткая фраза была не просто девизом, она была смыслом суровой и неспокойной казачьей жизни. Веру и Отечество они охраняли веками, отстаивали в кавказских и балканских походах. Царю присягали… Царя охраняли… Многие из них попадали служить в Лейб-гвардейский Казачий Его Величества полк, несший службу при царском дворе.
И когда 3 января 1681 года казаки «Михайло Иванов из Кагальницкого городка и Иван Медведь из Ведерникова городка да Аника…» били челом и просили разрешения занять юрт Гундоровской», то важнейшим условием для занятия земель по Северскому Донцу было, конечно, служение государю, которого они тогда называли великим.
Служение обязывало поселившихся в юрте Гундоровском выставлять от вновь образованной станицы казаков на дела воинские. Причём это нужно было делать как на рубежах Донского войска, так и за его пределами, если того требовала обстановка.
Доподлинно известно, что в конце XVII – начале XVIII веков гундоровские казаки постоянно принимали участие в различных войнах и военных кампаниях. Присягнув вместе с казаками других станиц на верность Петру I в 1696 году под Азовом, они принимали участие и во взятии азовской крепости. Воевали во всех русско-турецких войнах, ходили походами на Кавказ, посещали не раз Европу и отворяли «врата» известных городов, бились во всех больших и малых войнах, стойко перенося лишения и неудобства походной жизни.
Во времена Екатерины II казаки уже на общих основаниях с другими подданными Российской империи принимали военную присягу, которая называлась клятвенным обещанием и звучала так:
«Аз, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим богом, пресвятым евангелием в том, что хочу и должен её императорскому величеству моей всемилостивейшей великой государыне императрице Екатерине Алексеевне самодержице Российской… верно и нелицемерно служить и во всём повиноваться, не щадя живота своего, до последней капли крови…»
Заканчивалась клятва, как и положено, предупреждением о недопустимости её неисполнения и фразой о неминуемом божьем суде.
С момента основания станицы и до весьма печального завершения основной казачьей истории на Дону, до памятного 1920 года, на службе царю и Отечеству прославились в боях и битвах казачьи роды гундоровцев Власовых, Шляхтиных, Краснянских, Ушаковых, Манохиных, Рытиковых и многих других.
В 1807 году был учреждён знак отличия ордена Святого Георгия для награждения солдат, матросов и унтер-офицеров. Эта очень ценимая казаками награда, представляла собой серебряный крест без эмали и награждённые казаки с гордостью носили его на Георгиевской чёрно-оранжевой ленте на груди.
Уже в первых правилах, касающихся награждения этим знаком отличия, указывалось: «Он приобретается только в поле сражения, при обороне крепостей и в битвах морских. Им награждаются только те из нижних воинских чинов, которые, служа в сухопутных и морских русских войсках, действительно выкажут свою отменную храбрость в борьбе с неприятелем».
Заслужить знак отличия – солдатский Георгиевский крест – можно было лишь совершив боевой подвиг, например, захватив вражеское знамя или штандарт, взяв в плен неприятельского офицера или генерала, первым войдя во время штурма во вражескую крепость. Также, получить эту награду, мог нижний чин, спасший в боевых условиях жизнь своему командиру.
У награждённого таким знаком отличия вместе с наградой появлялись внушительные жизненные привилегии, которые очень ценились казаками. Они заключались в получении прибавки целой трети жалования, сохранявшейся при выходе в отставку (после смерти кавалера, его вдова в течение года пользовалась правом на её получение) и, что весьма важно для крепостной России, в запрещении применения к владельцу солдатского Георгиевского креста телесных наказаний (это не касалось казаков).
По состоянию на 23 января 1809 года, в станице Гундоровской было пять казаков, награждённых знаками отличия ордена Святого Георгия. Это урядники Михаил Диков и Петр Королёв, казаки Василий Овчаров, Михаил Елецков и Василий Симонов.
В 1806–1812 годы велась очередная война с Турцией. В сражении у города Браилов (на территории нынешней Румынии), осенью 1809 года получил ранение и был награждён Знаком отличия Военного ордена Святого Георгия казак Гундоровской станицы Григорий Иванович Карпов.
Особым испытанием для боевых качеств донского воинства стала Отечественная война 1812 года. Незадолго до того, как она началась, в конце мая 1812 года, от станицы Гундоровской, к атаманскому двору и квартире был снаряжён караул.
У атаманского двора гундоровские казаки, стоявшие в карауле, одними из первых, услышали царский манифест о начале войны с французами. Огласил этот манифест наказной атаман Матвей Иванович Платов. Как известно, запасные полки призванных к воинскому делу донских казаков на события войны конца лета 1812 года опоздали.
Так уж получилось, чтобы не оставить семьи не только без кормильцев, но и без хлеба, хотя бы до следующего урожая, они задержались в границах области для уборки хлебов. Эти полки, в том числе и сформированный в станицах по Северскому Донцу полк, в составе которого были гундоровские казаки, пришли своим ходом не к рубежам защиты Москвы, а уже в Тарутино, после того, как столица была сдана французским войскам. Но это не помешало казакам отличиться в той войне, особенно в заграничном походе 1813–1814 гг.
В архивных документах, описывающих боевые действия казачьих войск в Отечественной войне 1812 года, в числе отличившихся называются казаки-гундоровцы Андрей Фёдорович Процыков и Пётр Пшеничнов.
Войсковой старшина Андрей Федорович Процыков родился в 1771 году в станице Гундоровской. Служил в Атаманском полку с 1811 по 1822 год, а затем уволился с воинской службы в отставку, в родную станицу. Свой подвиг он совершил при таких обстоятельствах. Будучи в составе Атаманского полка 18 октября 1813 года, он был снаряжён с командой казаков к большой дороге, ведущей из Лейпцига в город Фульде. На этой дороге неприятель поставил основательный заслон. Дерзкий казачий командир Андрей Процыков с ходу ударил по неприятельской позиции и, преодолев бешеное сопротивление врага, захватил три пушки и три ящика с артиллерийскими зарядами, а также взял в плен тридцать французов.
В этой боевой операции войсковой старшина участвовал, не залечив до конца ранение в руку от сабельного удара, полученное 12 мая 1813 года под городом Роттенбергом. А. Ф. Процыков не только не покинул поле боя, но и продолжал бесстрашно сражаться вместе с товарищами. За это боевое дело войсковой старшина получил орден Святого Великомученика Георгия четвертой степени.
Есаул Пётр Пшеничнов, станицы Гундоровской, пал смертью храбрых в бою 13 октября 1813 года. До этого он был адъютантом у генерала Василия Дмитриевича Иловайского.
Гундоровские казаки участвовали в заграничном походе русских войск, в основном, в составе полка Мельникова пятого. В феврале 1814 года этот полк принимал участие в известном сражении уже на земле Франции под Краоном и Лаоном. В архивных документах про этот полк при «испрошении» ему награды говорилось: «…он, находясь в сражении при Краоне в кавалерийской бригаде генерал-майора Бенкендорфа, до приходу кавалерии генерала Сакена, совокупно со всею бригадою удерживал более четырёх часов кавалерию, бывшую под предводительством Наполеона, и несколько раз атаковал оную и наносил повсеместный вред, несмотря на превосходство неприятельских сил».
Среди самых отчаянных храбрецов в том встречном кавалерийском бою был назван гундоровец – казак Новоайдарсков.
Знаком отличия Военного ордена Святого Георгия за заграничные походы 1813–1814 годов были награждены выходцы из Гундоровской станицы: урядники Михаил Диков, Семён Швечиков, Никита Есаулов, Павел Солодов и Пётр Королёв, казаки Василий Овчаров, Михаил Елецков, Василий Симонов и Иван Трофименков.
В Государственном архиве Ростовской области хранятся толстые дела, исписанные мелким витиеватым почерком войсковых писарей, с надписями, свидетельствующими о том, что за истрёпанными обложками подшиты послужные списки офицеров войска Донского, в том числе и уроженцев станицы Гундоровской. По состоянию на 1820 год, в чине есаула числился в них Филипп Мануйлович Номикосов, отец известного исследователя Донской земли Семёна Филипповича Номикосова. Среди есаулов есть фамилии зачинателей гундоровских воинских династий: Фёдор Иванович Процыков, Алексей Александрович Пшеничнов, Карп Тихонович Рытиков. Знакомые фамилии можно встретить среди хорунжих: Иван Никитович Трофименков, Степан Григорьевич Мазанкин, Иван Иванович Шляхтин и Кондрат Никифорович Краснянский.
В XVII–XVIII веках казаки, неся службу на рубежах империи и принимая участие в войнах, оставались обособленной частью русских войск со своими устоявшимися боевыми традициями, особенностями боевого строя и тактики, вооружения и военной одежды, которую трудно было назвать форменной в общепринятом понимании этого слова. Но война 1812–1814 годов показала, что служба казачества нуждается в более продуманной законодательной и уставной регламентации.
В 1818 году начала работать комиссия об устройстве Донского казачьего войска. Работала она даже по тем временам неспешно, и только к 1835 году были выпущены утверждённые великим государем документы, по которым установлен земельный пай в тридцать десятин на одного казака.
Однако, сразу следует оговориться, что такой пай казакам-гундоровцам никогда не доставался и даже, как говорится, не снился. К сожалению, не было создано тех жизненных условий, чтобы при характере землепользования по Северскому Донцу можно было иметь столько земли в распоряжении одного казачьего семейства.
По высочайшим установлениям 1835 года всё мужское казачье население обязано было нести воинскую повинность с 18 до 43 лет в строевых частях, вооружаясь, обмундировываясь, приобретая снаряжение и лошадей за свой счёт.
За свою, порой нелёгкую службу, казаки наделялись на постоянное пользование земельными наделами (паями), а офицеры получали права потомственного дворянства, земли и крепостных.
Селиться на территории казачьего войска посторонним лицам запрещалось. Казачество понемногу превращалось в замкнутое военное сословие, пожизненная принадлежность к которому, распространялась и на всё дальнейшее потомство. Фактически станицы были военными поселениями, но отличались свободолюбием и независимостью казачьего населения, его демократическим волеизъявлением при выборах местных атаманов и в решении других экономических и политических вопросов.
Принимали участие казаки и в таком привычном и обязательном для них деле, как усмирение бунтующих крестьян. Для этого атаманами станиц Гундоровской и соседних с ней – Луганской, Митякинской, Каменской и других готовились приказы воинских экспедиций о сборе казаков в назначенном месте (так называемые места лагерных сборов). Можно привести выдержку из одного подобного распоряжения от 5 июня 1820 года с красноречивым заголовком «Об отправке казаков на усмирение вышедших из повиновения крестьян»: «…для усиления средств к усмирению вышедших из повиновения крестьян… станицам коим предписано один полк туда нарядить, приказать, чтобы люди… выступили из домов не более как в двадцать четыре часа и следовали на сборное место к хутору Яновскому, на реке Мокрый Несветай стоящему, с пятисуточным провиантом, делая в день переходу не менее тридцати пяти верст».
Отличились в этом походе казаки станицы Гундоровской: сотник Алексей Пшеничнов, хорунжие Антон Костин и Иван Краснянсков, а также урядник Степан Королёв.
В Государственном архиве Ростовской области находится немало таких распоряжений. Так что следует подчеркнуть, что гундоровцы отличились не только на полях сражений многочисленных войн XIX века, но и приводили в дикий ужас жителей бунтующих волостей, при наведении такого порядка, каким его понимали в царские времена. Гордясь своими предками-казаками, которые верно служили государям, они всегда считали, что любая смута есть явление для российского государства разрушительное. И сидя на завалинке, старики не раз вспоминали, как и где они получали награды за походы дальние и разные, и больших отличий между походами боевыми и усмирительными они не делали.
Когда я был в Польше, то заметил, что в каждом местном музее уделяется большое внимание восстаниям польского населения против самодержавия в XIX веке. Это и народные восстания 1831 года, и не менее известные народные волнения 1862 года. Во время подавления этих беспорядков отличались и казаки станицы Гундоровской. Например, отставной урядник Степан Изварин, будучи в Атаманском полку, был награждён за отличие в делах Польской кампании 1831 года. А в 1862 году гундоровцы были в составе Лейб-гвардии Атаманского казачьего полка, выступившего против мятежников в Виленской губернии. Но, данных об отличившихся в том походе, в архивах я не обнаружил. Но даже если бы и были достоверные описания этих жестоких боевых дел, они всё равно не всегда вяжутся с представлениями о казачьем великодушии и благородстве.
Среди казачьих традиций, особое место занимали проводы казаков на службу и радостная встреча их со службы или, что было не так уж и редко, с войны. Перед отправкой служивых в свои полки несколько дней шёл загул возле станичных и хуторских кабаков. Наутро на сборном участке объявлялась перекличка казаков по спискам. После этого служился молебен в присутствии станичного атамана и военного писаря. А вот после окончания официальной части, казаки качали станичного атамана и писаря, как говорилось, для общего удовольствия. Подбрасывая вверх атамана и писаря, они при этом спрашивали: «Ну как, чужую землицу видите или нет?»
Потом родные, собравшись возле покидавших семью казаков, прощались с ними. Казак, уходящий на службу, каждому кланялся три раза в ноги. Жена также почтительно, со слезами на глазах, кланялась ему, а потом они на прощание целовались. Отец казака, седой старик, волнуясь, говорил при этом: «Бог тебя благословил, и я благословляю тебя, сынок! Служи верою и правдою, слушай начальников, но не забывай нас, стариков, пиши письма».
Как только объявлялась война, казаки собирались по станицам и от больших станиц при комплектовании получались целые полки, а от малых – сотни. И какие бы они не носили официальные номера или почётные наименования, всё равно между собой казаки называли их «Каменскими», «Луганскими», «Митякинскими» или «Гундоровскими».
Проходили долгие годы, полные терпения, невзгод, тоски по дому и домашним, и наступал долгожданный и светлый день возвращения казаков со службы домой, в родную и приветливую сторонку, в любый сердцу хутор, к родному куреню. Обычно гундоровские казаки, выводя сильными и звонкими голосами песни о родном крае и его приволье, возвращались со стороны станицы Каменской по дороге, которая петляла между пойменными лугами Северского Донца справа и невысокими холмами слева. Эту дорогу до сих пор местные жители называют казачьей.
Из возвращающейся команды казаков посылались передовые – оповестить о возвращении служивых в станицу, хотя и без оповещения вся станица в волнительном нетерпении, постоянно выглядывая за ворота и выстроившись у плетней, радостно готовилась к торжественной встрече. Всматривались, не едут ли случаем? Услышав долгожданную весть, все станичники, от мала до велика, бросали свою работу, сбегались к околице. Этот день, а к нему семья тщательно готовилась заранее, всегда считался в станице и в хуторах праздничным. Курень мыли, белили, начищали до блеска пол, столы застилали чистыми скатертями, кровати – белоснежными покрывалами. Как же иначе, хозяин с чужбины возвращался в родной, уютный, снившийся во снах курень!
Казаки, благополучно вернувшиеся домой, обычно всегда или привозили с собой, или же сами, на свои средства, справляли что-либо для станичного храма. По распоряжению станичного атамана звонили во все колокола. Атаман, с иконой в руках, в сопровождении разнаряженных, в радостном волнении, женщин и детей выходил навстречу возвращающимся со службы казакам. Лики икон в руках станичного атамана и начальника казачьей команды соединяли, торжественно и степенно целовались при этом сами, и после общего молебна в церкви станичный атаман устраивал на майдане «станичную хлеб-соль», а затем все семейно расходились по домам. По вьюкам казачьей лошади можно было определить, какое богатство и подарки привёз в дом казак из похода домочадцам. Но считалось хорошим тоном одаривать в счастливый этот день не только родственников, но и своих друзей и соседей по хутору. Дарили, как правило, фуражки, шапки, платки, шашки, сабли, кинжалы, ятаганы и прочее нажитое в боевых походах добро.
В течение сорока лет, с середины 30-х и до середины 70-х годов XVIII века, особых изменений в военной организации не было. Всё катилось по привычным «рельсам» принятого ранее порядка, прописанных законов и устоявшихся традиций. Но пришло иное время, и оно потребовало изменений и в этой сфере.
В 1874 году в Российской империи был принят «Устав о воинской повинности». Пункт первый его гласил: «Защита престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население без различия состояний подлежит воинской повинности».
По принятым в те годы законам Российской империи наступило некоторое облегчение воинской повинности для казаков. Это выразилось в том, что срок службы определялся в 20 лет (с 18 до 38 лет). Первые три года приходились на приготовительный разряд, когда казак готовился к воинской службе, обзаводился необходимым обмундированием и добротным снаряжением. Затем в течение двенадцати лет он состоял в строевом разряде, причём действительную службу отбывал четыре года в частях первой очереди, еще четыре года – в частях второй очереди (на льготе), с проживанием в станице, последние годы – в частях третьей очереди, тоже с проживанием в станице. Вслед за этим он переводился на пять лет в запасной разряд, а по выслуге зачислялся в ополчение.
В 1875 году в газете «Донские областные ведомости» был опубликован цикл статей о сборах на службу казаков, как о наиболее животрепещущей проблеме для всех слоёв казачества. Вот что было написано в выпуске от 27 сентября 1975 года: «Донские казаки по положению о военной службе должны отбывать воинскую повинность с собственным снаряжением и на собственных лошадях. А чтобы повинность отбывалась правильно, существуют правила, по которым на станичных правителей возложена забота понуждать казаков справляться со службой, наблюдать за не растратою ими своих военных вещей и строевых лошадей и принимать меры относительно беспечных и расточительных казаков. Станичному обществу указаны меры к беспечным и расточительным казакам в отношении военной службы, а именно:
– наказывать по приговору своему телесно, выручать, не стесняя семейств, из их имений суммы на исправление к службе, нанимать беспечных в работники».
Исключительно интересный пример приводится в этой статье:
«Казачье семейство. Отец – пятьдесят лет, три сына-казака женатых, живут вместе. Один из сынов всю службу отслужил за станичный счёт, другой исправлен тоже к службе за станичные деньги, а третий, поступающий на практическое учение, требует также исправления из станичных сумм. Это потому, что на работы или наймы не поступают, да и принять их никто не согласится. Занятие их летом – бреднями рыбу ловить, а зимою гоняться за зайцами. Всю жизнь ничего не имеют, кроме жалкого домика».
Говоря про таких людей, обычно приводили народную пословицу: «Огорожен его дом полем и покрыт небом». Конечно, такой казак был в своём кругу неуважаем и на хуторском или станичном сборе слова не имел.
С 1875 года земля Донского войска стала называться Областью войска Донского. До сих пор историки спорят, что звучало солиднее – «Земля войска Донского» или все-таки «Область войска Донского».
Самым серьёзным испытанием для казачьей кавалерии последней четверти XIX века стала русско-турецкая война 1877–1878 гг. Участвовали в ней и гундоровцы, причём очень многие отличились.
В замечательном издании «Донцы XIX века. Фотографии и материалы для биографий донских деятелей» мы можем прочитать о двух героях, георгиевских кавалерах, уроженцах станицы Гундоровской – Данииле Васильевиче Краснове и Василии Казьмиче Рытикове. Давайте ознакомимся с биографиями наших знаменитых земляков.
«Василий Казьмич Рытиков происходил из дворян Войска Донского Гундоровской станицы, родился 22 марта 1839 года. Образование получил в Орловском-Бахтина и Константиновском кадетских корпусах, где окончил курс наук по первому разряду. В службу вступил из унтер-офицеров Константиновского кадетского корпуса старшим хорунжим 16 июня 1856 года и зачислен был в 6-ю донскую батарею. Получив в командование 2-ю донскую батарею, Василий Казьмич старался довести её до такого состояния, чтобы она занимала первое место между другими батареями. В особенности он обратил внимание на стрельбу из нарезных орудий, в это время только введённых. Он составил для них правила стрельбы, тогда ещё не выработанные, и вообще готовил свою часть к действительному бою, а не к парадному. Труд его не пропал даром и открывшаяся турецкая кампания 1877–1878 гг. доказала, что Василий Казьмич, правильно смотрел на дело. В ту турецкую войну В. К. Рытиков приобрёл боевую опытность и выказал отличные военные дарования. В особенности он отличился при взятии крепости Никополь.
Когда войска генерала Кридинера сосредоточены были для того, чтобы брать Никополь, Василий Казьмич тщательно изучал местность, на которой предполагал действовать. С утра отправлялся к крепости и снимал там кроки местности, измерял по секундомеру расстояние до батареи и изучал позиции. Кроки с означенными дистанциями до батареи были представлены командиру корпуса и служили основанием для установки наших батарей на места, которые указывал Рытиков.
Корпусной командир лично благодарил его за кроки и план неприятельских батарей. По сигналу, данному корпусным командиром, артиллерия открыла стрельбу из орудий, чтобы подготовить атаку, а затем двинулась и пехота. Вологодский полк из отряда генерала Шильдер-Шульднера, скрываясь за складками местности, незаметно приблизился к неприятелю, но как только батарея, сопровождавшая полк, открыла огонь, турецкие гранаты посыпались на Вологодский полк, вырывая у него ряд за рядом. Продвигаясь медленно вперёд, взбираясь на крутизну, храбрый полк долго не мог проложить себе дорогу к мосту, которым овладеть было необходимо, чтобы преградить путь отступления туркам на Плевну и Рахово. Понимая это, турки отчаянно защищали его.
Зорко следил Рытиков за вологодцами. Когда заметил, что они изнемогают в неравной борьбе, отправился к корпусному командиру и просил у него дозволения взять взвод своей батареи с нагорного правого берега реки Осмы и помочь вологодцам. Однако он получил ответ: «Убирайтесь, дойдёт очередь и до вас!». Только по третьему разу, когда Василий Казьмич прислал к нему вестового, ручаясь за успех, он получил разрешение.
Взяв первый взвод сотника В. Савченкова, и взобравшись с ним с помощью веревок и лямок на крутую скалу, осмотренную давно, Рытиков занял удобную скрытую позицию и открыл меткий огонь по неприятелю, который направил на взвод четыре батареи и осыпал его гранатами. Положение взвода было так опасно, что следившие издали, с высокой горы, штабные и ординарцы великого князя крестились и твердили: «Господи, спаси Рытикова».
В этот момент и положение Вологодского полка было критичное. Обессиленные продолжительным боем и потерями, вологодцы, сбившись в беспорядочные кучки, думали уже отступать, как вдруг увидели несущихся донских артиллеристов.
Турецкие батареи были сбиты и замолчали, а турки рассыпались по полю и обратились в полное бегство. Вологодцы, воспользовавшись этим моментом, бросились вперёд и овладели мостом. Выполнив свою задачу, Рытиков торжествующим возвратился на своё место, и корпусной командир генерал-лейтенант Криденер, при приближении Рытикова, встал и, подойдя к нему, снял шапку и поклонился ему до земли. Окружающая свита и военные агенты разных государств кинулись поздравлять и Рытикова, и Савченкова, и казаков. За взятие Никополя Рытиков был награждён орденом Святого Георгия 4 степени.
В грамоте на этот орден было сказано: «Во время сражения с турками 4 июля 1877 года под городом Никополем, вы заняли почти недоступную артиллерийскую позицию и двумя орудиями, под личным своим начальством, обстреливали через р. Осму неприятельскую батарею, заставили её замолчать и сняться с позиций, чем, бесспорно, способствовали успеху».
После русско-турецкой военной кампании Василий Казьмич Рытиков был назначен на должность областного воинского начальника и коменданта города Новочеркасска, которую занимал до конца своей жизни. В чин генерал-лейтенанта он был произведён за несколько дней до смерти. Умер генерал Рытиков в 1901 году и похоронен в Новочеркасске.
Воевали гундоровцы в ту русско-турецкую войну и в кавалерии. Получил высокую награду – орден Святого Георгия 3 степени – походный атаман Донских полков Даниил Васильевич Краснов. По окончании русско-турецкой войны Краснов Даниил Васильевич командовал бригадой 7-й кавалерийской дивизии. Умер в чине генерал-лейтенанта в отставке 14 марта 1893 года и похоронен в Новочеркасске, на местном кладбище.
В той далёкой войне отличались не только гундоровцы-генералы, но и простые, рядовые казаки. «Донские областные ведомости» весь период турецкой кампании печатали в рубрике «Участие казаков в нынешней войне» подробные репортажи о боевых действиях и объявления о наградах. Там мы можем прочитать, что от 6-й Лейб-гвардии Донской Казачьей Его Императорского высочества Наследника Цесаревича батареи был награждён именным знаком отличия военного ордена Святого Георгия 4 степени за храбрость фейерверкер Гундоровской станицы Иван Дорошев. Описание подвига фейерверкера И. Дорошева и его товарищей приводится в книге П. Г. Чеботарева, изданной в Санкт-Петербурге в 1905 г. под названием «Краткий очерк истории Лейб-гвардии Донской Его Величества батареи. 1830–1905».
«7 января 1878 года вахмистр Аведиков, фейерверкер Дорошев, бомбардир Холодков и канониры Овчаров и Крылов прославили 6-ю батарею. При деле во время перехода на Хаскиой особенно отличился фейерверкер Дорошев станицы Гундоровской.
Девять нижних чинов батареи остановились в деревне Дербент для отдыха и корма лошадей, но оказались окруженными. Гибель или плен казаков были, казалось, неизбежными. Вахмистр, георгиевский кавалер Аведиков, старший этой команды, сам решил очертя голову ринуться на неприятеля, чтобы порывом отчаянной храбрости ошеломить врага и спасти батарейный обоз, в котором было 9000 рублей батарейных денег.
Четыре конных казака поскакали на приближающуюся колонну противника, а ездовые, по его приказанию, объехали деревню вокруг и тоже должны были броситься на противника с криком «Ура!».
Растерявшийся неприятель, не предвидя такого оборота событий и посчитав себя окруженным, побросал оружие и стал сдаваться в плен. В плену оказались 59 человек. Все участники лихого дела получили георгиевские награды. Вахмистр Аведиков – 3 степени, а остальные – 4 степени».
19 февраля 1878 года был заключён мир с Турцией. Пришло время получать и подсчитывать полученные боевые награды. Было их немало и у отличавшихся в боях храбростью и отвагой гундоровцев.
За подвиги в русско-турецкой войне были награждены именными знаками отличия военного ордена Святого Георгия 4-й степени от 6-й Донской казачьей батареи Егор Аникин – за участие во взятии Враца, Гавриил Соловьев – за взятие Плевны, Демьян Диков и Корней Власов – за взятие деревни Бариша, Демьян Воротилин – за дела на Трояновом перевале.
Кроме того, георгиевские знаки отличия получили строевые казаки Филипп Изварин, Александр Львов, Алексей Колтовсков, Фёдор Чурюканов, Павел Кондратов, Родион Кондратов, Кирей Кондратов, Митрофан Аникин, Иван Бородин, Николай Иванихин, Анисим Фролов, Егор Неживов, Василий Ушаков. От Донского 30-го Грекова полка, за мужество и храбрость, проявленные в делах с турками на Трояновом перевале, при Филиппополе и при деревне Караджиляр были награждены знаками отличия военного ордена Святого Георгия: Семен Долгополов – 1-й степени, Иван Трофименков – 3-й степени, Федор Рытиков – 3-й степени, Максим Ушаков – 3-й степени.
В Лейб-гвардии Казачьем полку боевыми наградами также были награждены гундоровцы. Штабс-ротмистр Петр Лукич Усачёв был отмечен орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом за мужество и хладнокровие, проявленные при рекогносцировках. За удаль и героизм в бою награждён знаком военного ордена Святого Георгия 4-й степени старший вахмистр Фёдор Краснянсков.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽