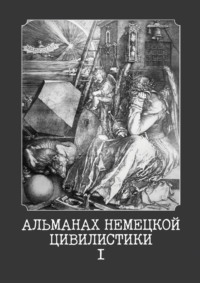Читать книгу: «Альманах немецкой цивилистики – I», страница 2
2. Густав Радбрух.
Законное беззаконие и сверхзаконное право
Radbruch G.
Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht // Süddeutsche Juristen-Zeitung. 1946. Jd. 1. Nr. 5. (105—108).
Перевод: Петкилёв Петр Игоревич
ЗАКОННОЕ БЕЗЗАКОНИЕ
И СВЕРХЗАКОННОЕ ПРАВО
I.
С помощью двух принципов: «Приказ есть приказ» и «Закон есть закон», национал-социализм ухитрился привязать к себе своих последователей, солдат и юристов. Первый принцип всегда был ограничен в своей применимости; солдаты не были обязаны подчиняться приказам, служащим преступным целям. «Закон есть закон», с другой стороны, не знал никаких ограничений. Это выражало позитивистское правовое мышление, которое почти безраздельно господствовало над немецкими юристами на протяжении многих десятилетий. «Законное беззаконие», соответственно, было терминологическим противоречием, так же, как и «сверхзаконное право». Сегодня обе проблемы снова и снова встречаются в юридической практике. Недавно, например, Süddeutsche Juristen-Zeitung опубликовало и прокомментировало решение муниципального суда Висбадена, согласно которому «законы, объявлявшие собственность евреев конфискованной в пользу государства, противоречили естественному праву и не имели юридической силы с момента введения их в действие».
II.
В уголовном праве поднималась та же проблема, особенно в ходе дебатов и принятия решений в российской зоне Германии.
1. Служащий министерства юстиции по имени Путтфаркен был судим и приговорен к пожизненному заключению уголовным судом Тюрингии в Нордхаузене за то, что он донес на коммерсанта, добился его осуждения и казни. Путтфаркен осудил Гетинга за то, что он написал на стене туалета «Гитлер – массовый убийца и виноват в войне». Гетинга осудили не только из-за этой надписи, но и потому, что он слушал иностранные радиопередачи. Аргументация Генерального прокурора доктора Кузчински в процессе в Путтфаркене была предметом сообщений СМИ.
Прокурор Кузчински сначала поднимает вопрос: «было ли деяние Путтфаркена нарушением закона?»
«Утверждение подсудимого о том, что его вера в национал-социализм побудила его сообщить на Геттинга юридически ничтожно. Какими бы ни были политические убеждения человека, нет юридического обязательства кого-либо осуждать. Даже во времена Гитлера такого юридического обязательства не существовало. Решающий вопрос заключается в том, действовал ли подсудимый в интересах отправления правосудия, вопрос, предполагающий, что судебная система в состоянии осуществлять правосудие. Верность закону, стремление к справедливости, правовая определенность – вот требования к судебной системе. И всех трех не хватает в политизированной системе уголовного правосудия гитлеровского режима».
«Любой, кто доносил на другого в те годы, должен был знать — и действительно знал, – что он отдает обвиняемого произволу власти, а не подвергает его законной судебной процедуре с юридическими гарантиями установления истины и вынесения справедливого решения».
«Что касается этого вопроса, я полностью присоединяюсь к мнению профессора Ричарда Ланге, декана юридического факультета Йенского университета. Ситуация в Третьем рейхе была настолько хорошо известна, что можно было с уверенностью сказать: любой человек, привлеченный к ответственности на третьем году войны за то, что написал „Гитлер – массовый убийца и виноват в этой войне“, никогда не вышел бы живым. Такой человек, как Путтфаркен, конечно, не мог иметь четкого представления о том, как судебная власть будет извращать право, но он мог быть уверен, что это произойдет».
«Из статьи 139 Уголовного кодекса также не вытекает обязанности сообщать о ком-либо. Действительно, согласно этому положению, лицо, которое получает достоверную информацию о плане совершения государственной измены и своевременно не уведомляет власти об этом плане, подлежит наказанию. Также верно, что Геттиг был приговорен к смертной казни апелляционным судом Касселя за подготовку к совершению государственной измены. Однако с юридической точки зрения такой подготовки к совершению государственной измены, безусловно, не было. В конце концов, смелое заявление Геттига о том, что „Гитлер — массовый убийца и виноват в войне“, было просто голой правдой. Любой, кто объявляет и распространяет эту истину, не угрожает ни Рейху, ни его безопасности, а стремится лишь помочь избавить Рейх от его разрушителя и, таким образом, спасти его — другими словами, это противоположно государственной измене. Нельзя допускать, чтобы сомнения в юридической форме запутывали этот очевидный факт. Более того, по меньшей мере, сомнительно, должен ли так называемый фюрер и канцлер рейха вообще когда-либо рассматриваться как законный глава государства, и, следовательно, сомнительно, был ли он защищен положениями о государственной измене. В любом случае, подсудимый вообще не задумывался о юридических последствиях информирования о Геттиге, и, учитывая его ограниченное понимание, он не мог об этом задумываться. Сам Путтфаркен никогда не заявлял, что донес на Геттига, потому что рассматривал надпись Геттига как акт государственной измены и чувствовал себя обязанным сообщить об этом властям».
Затем главный государственный обвинитель задает вопрос: «сделал ли поступок Путтфаркена его виновным?».
«Путтфаркен, по сути, признает, что намеревался отправить Геттига на виселицу, и ряд свидетелей подтвердили его намерение. Это преднамеренное убийство, согласно статье 211 Уголовного кодекса. То, что именно суд Третьего рейха фактически приговорил Геттига к смертной казни, не является аргументом против того, что Путтфаркен совершил преступление. Он является косвенным исполнителем. Конечно, концепция косвенного совершения преступления в том виде, в каком она была разработана в постановлениях Верховного Суда, обычно применяется к другим делам, главным образом к тем, в которых косвенный исполнитель был безвольным или невменяемым. Никому и в голову не приходило, что немецкий суд может стать орудием преступника. Однако сегодня мы сталкиваемся именно с такими случаями. Дело Путтфаркена будет не единственным. Тот факт, что Суд соблюдал правовую форму при вынесении своего пагубного решения, не может служить аргументом против косвенного совершения преступления Путтфаркеном. Любые сохраняющиеся сомнения на этот счет устраняются статьей 2 Дополнительного закона Тюрингии от 8 февраля 1946 года. Статья 2, чтобы развеять сомнения, предлагает следующую редакцию пункта 1 статьи 47 Уголовного кодекса: „Любое лицо, виновное в совершении преступного деяния либо самостоятельно, либо через другое лицо, даже если это другое лицо действовало законно, подлежит наказанию как исполнитель“. Это не устанавливает нового, имеющего обратную силу материального права; это просто аутентичное толкование уголовного права, действующего с 1871 года»1.
«После тщательного взвешивания всех „за“ и „против“ я сам придерживаюсь мнения, что не может быть никаких сомнений в том, что речь идет об убийстве, совершенном косвенно. Но давайте предположим – и мы должны принять во внимание это обстоятельство, — что Суд пришел бы к иному мнению. Что тогда встанет под сомнение? Если отвергнуть точку зрения, что это случай убийства, совершенного косвенно, то вряд ли можно избежать вывода о том, что судьи, приговорившие Гиттига к смертной казни вопреки праву и закону, сами должны рассматриваться как убийцы. Обвиняемый тогда был бы соучастником убийства и наказуем как таковой. Если эта точка зрения также вызывает серьезные опасения – а я не забываю о них — остается Закон Союзнического контрольного совета №10 [от 20 декабря 1945 года]2. Согласно пункту 1 (с) статьи 28 которого обвиняемый был бы виновен в преступлении против человечности. В рамках этого закона вопрос больше не заключается в том, нарушено ли национальное законодательство страны. Бесчеловечные действия и преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам подлежат наказанию без каких-либо оговорок. Согласно пункту 3 статьи 2, преступник должен быть приговорен к такому наказанию, которое суд сочтет справедливым. Даже к смертной казни. Я мог бы добавить, что как юрист я привык ограничиваться чисто юридической оценкой. Но всегда рекомендуется находиться над ситуацией и рассматривать ее в свете обычного здравого смысла. Юридическая казуистика – это, без исключения, всего лишь инструмент, который использует ответственный юрист для того, чтобы прийти к юридически обоснованному решению».
Путтфаркен был осужден уголовным судом Тюрингии не как косвенный исполнитель преступления, а как соучастник убийства. Соответственно, судьи, приговорившие Геттига к смертной казни, вопреки праву и закону, должны были быть виновны в убийстве3.
2. Фактически, Генеральный прокурор Саксонии д-р Шредер объявляет в прессе о намерении привлечь к «ответственности за бесчеловечные судебные решения», даже если такие решения основаны на национал-социалистических законах:
«Законодательство национал-социалистического государства, на основании которого были вынесены смертные приговоры, подобные приведенным здесь, не имеет никакой юридической силы».
«Национал-социалистическое законодательство основывается на так называемом „Законе о чрезвычайных полномочиях“ [от 24 марта 1933 года], который был принят без требуемого конституцией большинства в две трети голосов. Гитлер силой воспрепятствовал участию представителей коммунистов в парламентской сессии, арестовав их, несмотря на их неприкосновенность. Оставшиеся представители, а именно от Центристской партии, подверглись угрозам со стороны нацистских штурмовиков и тем самым были вынуждены проголосовать за чрезвычайные полномочия4».
«Судья никогда не сможет вершить правосудие, апеллируя к закону, который является не просто несправедливым, но и преступным. Мы апеллируем к правам человека, которые превосходят все писаные законы, и мы апеллируем к неотъемлемому, извечному праву, которое отрицает законность преступного диктата бесчеловечных тиранов».
«В свете этих соображений я считаю, что необходимо привлечь к ответственности судей, которые вынесли решения, несовместимые с принципами гуманности, и вынесли смертный приговор из-за пустяка5».
3. Из Галле поступает сообщение о том, что помощники палача, Кляйн и Роуз, приговорены к смертной казни за активное участие в многочисленных беззаконных казнях. С апреля 1944 по март 1945 года Кляйн принял участие в 931 казни, за которую ему заплатили 26 433 рейхсмарок. Осуждение Кляйне и Роуз, по-видимому, основано на законе Союзнического контрольного совета №10 (преступления против человечности). «Оба обвиняемых добровольно занимались своим ужасным ремеслом, поскольку каждый помощник палача волен воздержаться от своей деятельности в любое время, по состоянию здоровья или иным причинам».
4. В Саксонии снова всплывает следующий случай, согласно статье Генерального прокурора Шредера): Солдат из Саксонии, назначенный охранять военнопленных на восточном фронте, покинул свой пост в 1943 году, «испытывая отвращение к бесчеловечному обращению, которому они подвергались». Возможно, он также устал служить в гитлеровской армии. Находясь в бегах, он не смог удержаться и заглянул в квартиру своей жены, где был обнаружен и должен был быть взят под стражу сержантом. Ему удалось незаметно завладеть его заряженным служебным револьвером и выстрелить сержанту в спину, убив его. В 1945 году дезертир вернулся в Саксонию из Швейцарии. Он был арестован, и прокуратура готовилась предъявить ему обвинение в злонамеренном убийстве чиновника. Однако Генеральный прокурор распорядился о его освобождении и прекращении уголовного преследования, апеллируя к статье 54 Уголовного кодекса. Он утверждал, что солдат, действовавший в крайней необходимости, был невиновен, поскольку то, что судебная власть тогда называла правом, сегодня больше не действует. С нашей точки зрения, дезертирство из армии Гитлера-Кейтеля не является мелким правонарушением, позорящим дезертира и оправдывающим его наказание; из-за этого он не заслуживает порицания.
Таким образом, учитывая законное беззаконие и сверхзаконное право, повсеместно ведется борьба с позитивизмом.
III.
Позитивизм с его принципом «закон есть закон» фактически сделал немецкую юридическую профессию беззащитной перед законами, которые являются произвольными и преступными. Более того, позитивизм сам по себе совершенно неспособен объяснить юридическую силу законов. Он утверждает, что юридическая сила закона – это принуждение, обеспечивающее его исполнение. Но, хотя принуждение действительно может служить основой для несения обязанности, оно никогда не служит основой для истинного «долженствования». Юридическая сила должна основываться, скорее, на ценности, присущей закону. Безусловно, с каждым статутом позитивного права связана одна ценность, независимо от его содержания: любой закон всегда лучше, чем его отсутствие вообще, поскольку он, по крайней мере, создает правовую определенность. Но правовая определенность – это не единственная ценность, которую должен обеспечивать закон, и не решающая ценность. Наряду с правовой определенностью существуют две другие ценности: полезность и справедливость. Ранжируя эти ценности, мы ставим на последнее место полезность закона в служении общественному благу. Закон ни в коем случае не является чем-то таким, что «приносит пользу людям». Скорее, он приносит пользу людям именно тем, что создает правовую определенность и стремится к справедливости. Правовая определенность (которая характерна для каждого закона позитивного права просто в силу того, что закон был принят) занимает любопытное среднее место между двумя другими ценностями, полезностью и справедливостью, поскольку она необходима не только для общественного блага, но и для обеспечения справедливости. То, чтобы право было определенным и неоспоримым, чтобы оно не толковалось и не применялось одним образом здесь и сейчас, другим способом в другом месте и завтра, также является условием справедливости. Там, где возникает конфликт между правовой определенностью и справедливостью, между вызывающим возражения, но должным образом принятым законом и справедливым правом, которое не было облечено в законодательную форму, на самом деле имеет место конфликт справедливости с самой собой, конфликт между кажущейся и реальной справедливостью. Этот конфликт прекрасно выражен в Евангелии, в заповеди «повинуйтесь господствующим над вами и покоряйтесь сами», и, с другой стороны, в предписании «повиноваться Богу, а не людям».
Конфликт между справедливостью и правовой определенностью вполне может быть разрешен таким образом: позитивное право, закрепленное законодательством и властным принуждением, имеет приоритет даже тогда, когда его содержание несправедливо и не приносит пользы людям, если только конфликт между законом и справедливостью не достигает такой невыносимой степени, что закон, как «ущербное право», лишается юридической силы и подчиняется справедливости. Невозможно провести четкую грань между законным беззаконием и законами, которые действуют, несмотря на их недостатки. Однако одну грань различия можно провести с предельной ясностью: там, где нет даже попытки добиться справедливости, где равенство, основа справедливости, намеренно нарушается при принятии позитивного закона, тогда закон является не просто «ущербным правом», в нем полностью отсутствует сама природа права. Ибо право, включая позитивное право, не может быть определено иначе, чем как система и институт, само значение которых заключается в служении справедливости. Если судить по этому стандарту, целые разделы национал-социалистического закона никогда не достигали этого достоинства действующего права.
Наиболее заметной чертой личности Гитлера, которая благодаря его влиянию стала пронизывающим духом всего национал-социалистического «права», было полное отсутствие какого-либо чувства истины или какого-либо представления о добре и зле. Поскольку у него не было чувства истины, он мог бесстыдно, бессовестно придавать оттенок истины всему, что было риторически эффективным в данный момент. И поскольку у него не было понятия о добре и зле, он мог без колебаний возвысить до статуса закона самое грубое выражение деспотического каприза. В самом начале его режима была телеграмма, выражающая сочувствие убийцам Потемпы, а в конце – отвратительное унижение мучеников от 20 июля 1944 г. Подтверждающая теория была представлена нацистским идеологом Альфредом Розенбергом, написавшим в ответ на смертные приговоры Потемпы: «Люди не похожи и убийства не похожи; убийство пацифиста Жореса было оценено во Франции в ином свете, чем попытка убийства националиста Клемансо; поскольку невозможно подвергнуть преступника, мотивированного патриотизмом, такому же наказанию, как и того, чьи мотивы (по мнению национал-социалистов) враждебны народу. Таким образом, явное намерение с самого начала состояло в том, чтобы национал-социалистическое «право» освободилось от основного требования справедливости, а именно равного обращения с равными. Таким образом, в нем полностью отсутствует сама природа права; это не просто ущербное право, а скорее отсутствие права вообще. Это особенно относится к тем постановлениям, посредством которых Национал-социалистическая партия присвоила себе все государство, попирая принцип, согласно которому каждая политическая партия представляет только часть государства. Правовой характер также отсутствует во всех статутах, которые относились к людям как к ущербным людям (недолюдям) и отказывали им в правах человека, и его также нет во всех предостережениях, которые, руководствуясь исключительно сиюминутной необходимостью запугивания, игнорировали разную тяжесть правонарушений и угрожали одним и тем же наказанием, часто смертной казнью, за совершение как за малейшие, так и за самые тяжкие преступления. Все это примеры законного беззакония.
Мы не должны упускать из виду – особенно в свете событий тех двенадцати лет – какие ужасные опасности для правовой определенности может таить в себе понятие «законного беззакония» в должным образом принятых законах, которыми отрицается сама природа права. Мы должны надеяться, что такое беззаконие останется единичным отклонением немецкого народа, безумием, которое никогда не повторится. Однако мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Мы должны вооружиться против повторения неправового государства, подобного гитлеровскому, фундаментально преодолев позитивизм, который сделал бессильными все возможные средства защиты от злоупотреблений национал-социалистического законодательства6.
IV.
Это взгляд в будущее. Перед лицом законодательного беззакония последних двенадцати лет мы должны стремиться сейчас удовлетворить требования справедливости с наименьшей возможной жертвой правовой определенности. Не каждому судье, действующему по собственной инициативе, следует разрешать аннулировать законы; скорее, эта задача должна быть возложена на вышестоящий суд или на законодателя. Такое законодательство уже введено в действие в американской зоне на основе соглашения в Совете германских земель. Это Закон об отмене национал-социалистического неправа в уголовном судопроизводстве. Положение, согласно которому «политические действия, предпринятые в целях сопротивления национал-социализму или милитаризму, ненаказуемы», преодолевает трудности, например, в ранее упомянутом случае с дезертиром. С другой стороны, сопутствующий Закон о наказании за национал-социалистические преступления, применяется к трем другим рассмотренным здесь случаям только в том случае, если рассматриваемое деяние было преступным в соответствии с законом на момент его совершения. Затем мы должны рассмотреть преступность этих трех других случаев в соответствии с законом Уголовного кодекса Германии 1871 года, без ссылки на более поздний закон.
В случае с доносчиком Путтфаркеном мнение о том, что он был виновен в косвенном совершении убийства, неоспоримо, если он намеревался стать убить Геттига, то есть, если намерение, которое он использовал в качестве инструмента уголовный суд и в качестве средства правовой автоматизм уголовного судопроизводства. Согласно заключению, представленному профессором Ланге, такое намерение существует, особенно в тех случаях, «когда преступник был заинтересован в том, чтобы избавиться от лица, на которое он донес, будь то интерес жениться на жене своей жертвы, завладеть домом или работой своей жертвы, или интерес к мести и тому подобное». Как лицо является косвенным исполнителем, когда в преступных целях оно злоупотребило своей властью руководить кем-либо, обязанным ему подчиняться, так им является и лицо, которое привело в движение судебный механизм, донеся на кого-то7. Использование суда как простого инструмента особенно очевидно в тех случаях, когда косвенный исполнитель мог рассчитывать и действительно рассчитывал на политическое осуществление функций уголовного судопроизводства, будь то из-за политического фанатизма судьи или давления, оказываемого теми, кто находится у власти. Предположим, с другой стороны, что у информатора не было такого преступного умысла, но вместо этого он намеревался предоставить суду доказательства, а остальное оставить на усмотрение суда. Тогда доносчик может быть наказан за соучастие – приведение в исполнение обвинительного приговора и косвенной казни человека, на которого он донес, – только в том случае, если сам суд, в силу своего решения и приведения приговора в исполнение, виновен в совершении убийства. Фактически именно таким путем шел суд в Нордхаузене.
Виновность судей в убийстве предполагает одновременное определение того, что они извратили право, поскольку решение независимого судьи может быть объектом наказания только в том случае, если он нарушил тот самый принцип, которому должна была служить его независимость, принцип подчинения закону, то есть праву. Объективно говоря, извращение права существует там, где мы можем определить, в свете разработанных нами основных принципов, что применяемый закон вообще не был правом или что степень назначенного наказания – скажем, смертный приговор, вынесенный по усмотрению судьи, – высмеивала само правосудие. Но как быть с судьями, которые были настолько извращены господствующим позитивизмом, что не знали никакого другого права, кроме принятых законов? Могли ли такие судьи, применяя статуты позитивного права, иметь намерение извратить право? И даже если бы у них действительно было такое намерение, у них оставались иные варианты, хотя и болезненные. Они могли сослаться на крайнюю необходимость, предусмотренную статьей 54 Уголовного кодекса, указав, что они рисковали бы собственной жизнью, если бы объявили национал-социалистический закон законным беззаконием. Я называю эти варианты болезненными, потому что дух судьи должен связан с правосудием любой ценой, даже ценой его собственной жизни.
Самый простой вопрос, с которым приходится иметь дело, – это вопрос о виновности двух помощников палача в приведении в исполнение смертных приговоров. Человек не может позволить себе поддаваться влиянию ни впечатления о людях, которые делают бизнес на убийстве других людей, ни стремительности растущего процветания и прибыльности этого бизнеса в то время. Даже когда их профессия все еще была ремеслом, передаваемым из поколения в поколение, палачи неоднократно старались оправдаться, указывая, что они просто исполняли приговоры и что задача вынесения приговора принадлежит лордам-судьям. «Лорды и повелители держат зло в узде, и я осуществляю их окончательный приговор». Эта сентенция 1698 года или что-то подобное часто появляется на лезвиях мечей палачей. Точно так же, как вынесение судьей смертного приговора может представлять собой убийство только в том случае, если оно основано на извращении закона, так и палач может быть наказан за свое деяние только в том случае, если оно соответствует обстоятельству, описанному в статье 345 Уголовного кодекса: преднамеренное приведение в исполнение наказания, которое не должно быть приведено в исполнение. Карл Биндинг, ссылаясь на это обстоятельство, пишет, что отношение палача к приведенному в исполнение приговору аналогично отношению судьи к закону; его единственная, тотальная обязанность заключается в его точном исполнении. Вся деятельность палача определяется приговором: его действие справедливо в той мере, в какой оно соответствует приговору.
Деятельность становится несправедливой в той мере, в какой она отклоняется от приговора. Это равносильно отрицанию единственного органа власти, который имеет значение для исполнения приговора как такового, и в этом заключается суть вины. Деликт [в разделе 345] … таким образом, может быть охарактеризован как «извращение приговора».
Проверка законности приговора не входит в обязанности исполнителя. Таким образом, предположение о его незаконности не может нанести ущерба исполнителю, равно как и то, что он не подал в отставку со своего поста, не может быть предъявлено ему обвинение в преступном бездействии.
V.
Мы не разделяем мнение, высказанное в Nordhausen, о том, что «сомнения в правовой форме» запутывают очевидные факты. Скорее, мы придерживаемся мнения, что после двенадцати лет отрицания правовой определенности нам больше, чем когда-либо, необходимо вооружиться соображениями «правовой формы», чтобы противостоять понятным соблазнам, которые легко могут возникнуть у каждого человека, пережившего эти годы угроз и угнетения. Мы должны добиваться справедливости, но в то же время заботиться о правовой определенности, поскольку она сама по себе является компонентом правосудия. И мы должны восстановить Rechtsstaat (правовое государство), которое как можно лучше соответствует идеям как справедливости, так и правовой определенности. Демократия действительно достойна похвалы, но правовое государство – это как хлеб насущный, как вода для питья и воздух для дыхания, и самое лучшее в демократии именно то, что она одна способна обеспечить нам такое государство.
Начислим
+3
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе