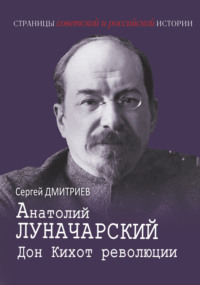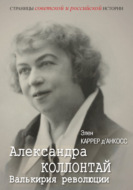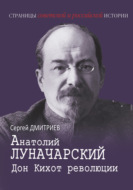Читать книгу: «Анатолий Луначарский. Дон Кихот революции», страница 4
Тем временем терпение властей лопнуло, и не желавшего никуда ехать Луначарского этапным порядком отправили из Вологды в Тотьму. По дороге в городке Кадникове его на 3 дня посадили в местную тюрьму, где он оказался в одной камере с убийцами, оказавшимися «добродушнейшими крестьянами». На беду, они заразили Луначарского, как он повествовал в своей статье «Из вологодских воспоминаний», «тяжелой чесоткой». В Тотьму он выехал «в страшную распутицу, ехал с каким-то урядником, с быстротой похоронной процессии, так что те 150 или 200 верст, которые отделяют Кадников от Тотьмы, мы ехали целую вечность. Чесотка моя за это время приобрела ужасающие размеры и закончилась тем, что при приезде в Тотьму я заболел рожей. Разные симптомы заставили думать местного врача, что у меня заражение крови, и приговорить меня к смерти. На самом деле я довольно быстро оправился, особенно благодаря уходу жены, которая поспешила вдогонку в Тотьму».
Выздоровев и осмотревшись, Луначарский с удивлением обнаружил, что новое место ссылки, где ему придется пребывать с 31 марта 1903 по середину мая 1904 г., имеет свои преимущества. Хотя, в отличие от «многолюдно-ссыльной» Вологды, он должен был быть в Тотьме «один как перст», однако, по его словам, «это уединение не оказалось ни в малейшей мере удручающим. Чудесная северная природа, чудесные книги и немногие, но искренне любившие нас друзья, а главное дело, безоблачно счастливая семейная жизнь – все это создавало предпосылку для существования глубоко содержательного и, как мне кажется, сказалось в тогдашних моих многочисленных статьях, имевших, если не ошибаюсь, большой успех среди читающей публики.
По крайней мере, меня наперерыв звали во всякие журналы, издательства делали мне предложения. И вообще в Тотьме мы не чувствовали себя оторванными от всей общественной жизни страны. Тяжелым событием была только болезнь моей жены, которая слегла в тифу в последний месяц беременности, так что мы потеряли нашего первого ребенка. За исключением этого черного облака, я вспоминаю Тотьму как какую-то зимнюю сказочку, какую-то декорацию для «Снегурочки», среди которой был наш «домик на курьих ножках», с платой рубля 3,5–3 за три комнаты, с невероятной дешевизной, вроде 10 коп. за зайца с шкуркой и т. п., и с постоянным умственным напряжением за чтением все вновь и вновь получавшихся книг и приведением в порядок своего миросозерцания, за спорами, отчасти и за поэтическим творчеством. Я перевел там изданную «Образованием» драму Ленау «Фауст»… и написал несколько сказок, напечатанных в «Правде».
В «идиллии Тотьмы», где супруги «жили припеваючи», сплелись и семейное счастье, хотя и омраченное потерей первого ребенка (в 1907 г. супругов ждет еще одна потеря), и писательский успех, и постоянные поиски новых видов творчества. По свидетельству Луначарского, в Тотьме он больше всего «читал и думал» и именно там добился «наибольшего успеха в области выработки миросозерцания». «Бежать из подобной ссылки, – пояснял мемуарист, – мне не приходило даже в голову. Я дорожил возможностью сосредоточиться и развернуть свои внутренние силы. Конечно, ссылка была бы в значительной мере невыносима, если бы не превосходная семейная жизнь, которая сложилась у меня, и не постоянная общая работа с женой, явившейся для меня близким, все во мне понимающим другом и верным политическим товарищем на всю жизнь».

Памятная доска на доме в Тотьме, где жил в ссылке А. В. Луначарский.
[Из открытых источников]
Луначарский был освобожден из ссылки и от полицейского надзора 15 мая 1904 г., но в июле ему запретили жительство в столицах и в Московской губернии в течение 5 лет. Тюремно-ссыльная эпопея не могла не закалить революционера. «Сбросить трусость», «жертвовать», «острота топора» – таковы были установки революционной среды, и Луначарский не случайно выбрал тогда для себя «воинственный» псевдоним Воинов (забыв Антонова и Анютина), звучавший соразмерно со Сталиным, Молотовым и другими псевдонимами, впервые широко представив себя в таком качестве на III съезде партии.
Вместе с Лениным. 1904 – 1905
По окончании ссылки 15 мая 1904 г. супруги Луначарские ненадолго переехали в Киев, где жила мать Анатолия Васильевича. Луначарскому пришлось отказаться и от заведования театральным отделом газеты «Киевские отклики», в которой он успел за 2 месяца опубликовать 10 статей и рецензий, и от чтения курсов лекций и рефератов для учащейся молодежи по требованию «партийных верхов», которые уже обратили внимание на Луначарского и считали невозможным оставлять его «на кустарной работе». Как пояснял Луначарский, партийные дела требовали его «присутствия в Женеве. «Большевики» должны были основать новый орган для борьбы с «Искрой», перешедшей в руки меньшевиков; нужны были литературные силы. Мои симпатии к большевикам определились скоро, так как их кампанию я считал борьбой за принцип партийности против высокопоставленных литераторских кружков. Больно было оказаться в противоположных лагерях с тов. Аксельродом. Дальнейшие – и уже тактические – разногласия окончательно укрепили мой «большевизм».
С этого времени Луначарский вступил в полосу суровых партийных дрязг и столкновений, которая, как он сам признавался, не принесла ему «счастья и покоя». Поначалу он был совсем далек от внутрипартийной борьбы, но усилиями, прежде всего, Богданова, а потом и Ленина, ему пришлось в итоге наступить на «горло собственной песне», погрузившись «тяжелое время полного раскола между большевиками и меньшевиками».
Как вспоминал М. М. Эссен о положении большевиков, «авторский кризис был у нас значителен. Кандидатуры Богданова и Луначарского ставились Лениным на первый план», а Крупская писала в Петербург П. И. Кулябко, чтобы он спросил М. И. Ульянову, передала ли она Луначарскому, чтобы «он ехал за границу как можно скорее». Первыми к Ленину в Женеву в 1904 г. приехали А. А. Богданов и М. С. Ольминский. По свидетельству Крупской, август они «провели вместе с Богдановым, Ольминским в глухой деревне… К литературной работе Богданов намечал привлечь Луначарского… Наметили издавать свой орган за границей». В конце сентября Крупская еще раз сетовала в письме Богданову «…Письмо о Миноносце легкомысленном завалялось у адресата и было получено только вчера. Отсутствие писем страшно беспокоило, не знали, что думать»15.
Получается, что в тот момент Луначарский с его литературными талантами был нужен Ленину больше, чем Ленин самому Луначарскому с его обширными творческими интересами, не замыкавшимися только революционно-партийной работой. В самом конце сентября 1904 г. Анатолий Васильевич, по его словам, получил письмо от Богданова, извещавшего «довольно подробно о положении вещей и, от своего и Ленина имени, настаивавшего на моем немедленном отъезде за границу для участия в центральном органе большевиков». Луначарский с женой решили «повиноваться призыву Ленина. Мы выехали за границу». Однако об этом в Женеве не знали, и в конце сентября – начале октября Крупская еще несколько раз по просьбе Ленина писала в Россию, подчеркивая, как нужен Ленину Луначарский: «Где застрял Миноносец Легкомысленный?», «От Легкомысленного никаких вестей». В это же время сам Ленин просил Эссена поехать в Париж и разыскать там Луначарского, чтобы он приехал в Женеву на встречу с ним.
В этом эпизоде любопытно, что за Луначарским в партийной среде уже в 1904 г. твердо закрепилось прозвище Миноносец Легкомысленный, означавшее соединение в его образе настойчивости, целеустремленности с творческой разбросанностью и увлеченностью. Приехав в Париж 12 октября 1904 г., накануне начала первой российской революции, Луначарский, несмотря на призывы Ленина, почти на 2 месяца задержался в городе, где его «охватила стихия жизни, которая нигде не бурлит с такой силой, как в Париже». «Для моих публичных выступлений я там же изобрел себе псевдоним Воинов», – вспоминал Луначарский.

В. И. Ленин. Париж, 1910.
[Из открытых источников]
Ленину, незадолго до этого порвавшему со своими учителями Г. В. Плехановым, П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич и своими единомышленниками – Ю. О. Мартовым и А. Н. Потресовым, было не просто одиноко. Ему нужен был сотрудник для экстенсивной работы, которую Ленин сам не очень-то любил. В этом смысле Луначарский мог стать истинным подарком судьбы, потому Ленин и был таким настойчивым. В Париже Анатолий Васильевич, по его словам, «получил два письма от самого Ленина. Письма были короткие. Они торопили меня скорее приехать в Женеву. Я обещал, но задерживался»16.
20 октября 1904 г. Крупская написала из Женевы Богданову: «О Миноносце Легкомысленном ни слуху, ни духу», а Ленин тут же приписал: «Употребите все силы, чтобы Миноносец Легкомысленный двигался скорее. Промедление необъяснимое и страшно вредное. Отвечайте немедленно и подробнее, и поопределеннее». Богданов ответил, что «Миноносец хотел изучить литературу, заботьтесь о нем сами». Ленина это явно нервировало: «Легкомысленный уехал в сторону и держится выжидательно!»
Дошло до того, что Ленин потерял терпение и сам поехал в Париж! О его нетерпеливости говорит хотя бы тот факт, что он заявился к Луначарскому 19 ноября 1904 г. ранним утром в отель «Золотой лев» на бульваре Сен-Жермен без всякого предупреждения. Что из этого вышло, описал сам Луначарский: «– Вы Луначарский? – спрашивает незнакомец, слегка картавя. Я смутно соображаю, что, должно быть, из Женевы прислали человека, который поторопил бы меня и прекратил бы мое парижское сидение. Не очень дружелюбно я спрашиваю: «Вы, может быть, ко мне от Ленина?»
– Я сам Ленин, – отвечает незнакомец. Тут я несколько смутился.
– Пожалуйста, входите. Что это вас так рано принесло?
– Если вы считаете, что я приехал за вами слишком рано, то я, наоборот, приехал слишком поздно, потому что вы здесь зря теряете время, а у нас из-за вашего промедления застопорилось дело с выходом первого номера «Вперед». А если вы намекаете на ранний час утра, то я действительно немного не рассчитал с поездом и не думал, что приеду на рассвете».
Не многие из большевиков могли бы похвастаться подобной сценой и знакомством с вождем революции почти ровно за 11 лет до этой самой революции. Луначарский повел Ленина тем ранним утром к скульптору Н. Л. Аронсону, который угостил нежданных гостей кофе и попросил Ленина попозировать. И уже 20 ноября Ленин сообщал Крупской: «Постараюсь приехать поскорее и ускорить приезд Миноносца… Завтра переговорю с Миноносцем и, наверное, он будет за меня».
Луначарский наконец-то отправился в Женеву около 10 декабря. Там он «вошел в редакцию газеты «Вперед», а позднее «Пролетария»: «Редакция, правда, была у нас дружная, она состояла в то время из 4-х человек: Ленина, Воровского, Галерки (Ольминского) и меня. Я выступал и писал под фамилией Воинов». Луначарский произвел в Женеве фурор, впервые познакомившись с членами редколлегии, а также Крупской, В. Д. Бонч-Бруевичем и П. Н. Лепешинским. Крупская писала, что Ленин «прямо вцепился в него». Лепешинский объяснил это так: «Приехал он в Женеву скромным, очень непретенциозным человеком, как будто даже не знающем себе цену, и только черные, с живым огоньком веселого юмора глазки, да приподнятые по-мефистофольски углы бровей и задорная, с устремлением вперед, клинообразная бороденка наводила на мысль о его, так сказать, политической зубастости… Наш новый лидер сразу же успел показать себя большим мастером речи… В решении Ильича издавать большевистский орган в значительной мере сыграло роль побудительного мотива то обстоятельство, что он мог начать это дело с т. Луначарским».
Очарованная Крупская писала Р. С. Землячке 12 декабря: «Приехал Миноносец и бросился с головой в бой. Оратор он великолепный и производит фурор». В других письмах она писала о нем: «Блестящий оратор, талантливый писатель, он буквально наэлектризовывает публику… Меньшевики злятся, устраивают скандалы, ну да на них наплевать… Старик (Ленин) ожил и стал работать вовсю. Воинов тоже молодчина, работать здоров, отдался весь делу…»17 Согласно свидетельству Крупской, «с той поры Владимир Ильич стал очень хорошо относиться к Луначарскому, веселел в его присутствии, был к нему порядочно пристрастен».
Включение Луначарского в агитационно-публицистическую деятельность партии вполне оправдало себя: в 1905 г. только в центральном органе партии газете «Вперед», а затем «Пролетарии» увидело свет 40 статей и публикаций Луначарского, не считая тех, которые он подготовил как редактор, и тех, которые выпустил в других изданиях социал-демократов. В 1925 г., осознавая значимость тех публикаций, Луначарский задумал издать их отдельным сборником, и в предисловии к нему пояснил, что «все статьи этой серии просматривались Владимиром Ильичом довольно тщательно; если сохранились их черновики, то там видно, как прогуливался карандаш Владимира Ильича». Сборник не вышел, но черновики сохранились и были опубликованы в 1971 г. в том самом выпуске «Литературного наследства» (т. 80) «В. И. Ленин и А. В. Луначарский». Он включил в себя почти всю известную на то время переписку двух революционных лидеров, а также различные доклады и документы. Публикация заняла более 100 страниц книги увеличенного формата и показала, насколько плодотворным было тогда сотрудничество двух революционных лидеров и как они сблизились на почве совместной работы.
В 1905 г. Ленин ценил в Луначарском одаренность, эрудицию, умение работать, его литературный талант. Крупская писала: «…Умение оформлять – искусство. И Владимир Ильич особенно ценил тех членов редакции и сотрудников, которые обладали талантом оформления. С этой стороны Владимир Ильич особенно ценил Анатолия Васильевича Луначарского, не раз говорил об этом. Вот выскажет кто-нибудь какую-нибудь верную и интересную мысль, подхватит ее Анатолий Васильевич и так красиво, талантливо сумеет ее оформить, одеть в такую блестящую форму, что сам автор мысли даже диву дается…»
ЦК партии 11 мая 1905 г. постановил: «Предложить тов. Воинову 100 рублей в месяц, чтобы отдавать по возможности все свои литературные силы на службу партии и жить на ее средства». Ленин писал по этому поводу Луначарскому: «Надо вовсю работать на с.-д. – не забывайте, что вы ангажированы на все ваше рабочее время»18.
Уже тогда в партии стали ходить легенды о неслыханном энциклопедизме Луначарского и его умении выступать на любые темы. Большевик М. И. Лядов вспоминал о том, как в преддверии нового 1905 года происходила встреча эмигрантов у Ленина: «Было скучно как-то, неуютно чувствовали себя – это был 1904-й год. Кто-то говорит: «Может, А[натолий] В[асильевич] пришел бы, развеселил нас». В это время он входит, раздевается. В[ладимир] И[льич] кричит ему: «Двухчасовую речь о черте!» А[натолий] В[асильевич] думал, пока снимал только пальто. Он вошел в гостиную и в течение ровно двух часов развернул такую богатую, такую интересную, такую научную картину всего того, что можно сказать о черте, что мы во главе с В[ладимиром] И[льичом] по полу катались. Это действительно был настоящий святочный рассказ, но рассказ глубоко научно обоснованный и замечательно красиво выполненный»19.
С будущим вождем революции у Луначарского установились особо доверительные отношения. Ленин ценил его за ответственность и исполнительность, считая на редкость одаренным человеком. В этот период Луначарский перестал колебаться в поддержке большевиков. Он подчеркивал, что его миросозерцание и характер не располагали его «к половинчатым позициям», к затемнению «максималистских устоев подлинного марксизма», при этом подчеркивал, что «между мною, с одной стороны, и Лениным – с другой, было большое несходство».
Пройдет время, и эти разногласия приведут все-таки к разрыву Луначарского и его группы с Лениным. Но не все было гладко и в 1904–1905 гг., особенно общая атмосфера политической работы, которая была «до крайности неприятной» для щепетильного в нравственных вопросах будущего наркома. «Год заграничной литературной и агитационной деятельности, закончившийся III съездом партии, не могу вспомнить добром, – писал Луначарский позднее. – Если и прежде мне не удавалось работать вплотную над моей большой задачей… тут же пришлось целиком отдаться полемике, часто мелкой, всегда озлобленной с обеих сторон».

Группа делегатов III съезда РСДРП. Лондон, апрель 1905 г. Плакат.
[Из открытых источников]
Любопытно, что о грянувшей в России первой российской революции, которая привела всю эмиграцию в «невиданное волнение» и разбудила огромные надежды на будущее, Ленин узнал именно от Луначарского 10 января 1905 г., когда встретил его с женой Анной Александровной по пути в Женевскую библиотеку20. Эта новость была воспринята Лениным «с ликованием», он сразу оценил это трагическое событие 9 января как «начало революции» с «тысячами убитых и раненых»21. Через несколько месяцев, в августе 1905 г., Луначарский напишет стихотворение «К юбилею 9 января», который Ленин пометил: «К набору непременно в № 12», и этот стих будет опубликован в газете «Пролетарий». Это было вообще первое стихотворение, опубликованное автором, и интересно, что царизм в нем осуждался не со стороны какого-либо пролетария, а «набожного старика», который наивно верил в царя, но погиб 9 января:
Упал старик, сраженный в грудь, —
Убит царем кровавым,
И бог не мстит с своих небес
Своим рабам лукавым.
Повсюду кровь, смятенье, смерть,
Звучат угрозы, стоны.
А на краснеющем снегу
Разбитые иконы.
С тех пор Ленин следил за поэтическим творчеством будущего наркома, выступив, к примеру, за публикацию в «Пролетарии» его стихотворной баллады «Два либерала». Интересно, что Луначарский вместе с Лениным в начале февраля 1905 г. встречался в Женеве с Гапоном, который пытался договориться о дальнейших совместных действиях с большевиками. Луначарский потом вспоминал: «В тот же день вечером почти вся наша группа встретилась с инженером Рутенбергом, будущим убийцей Гапона, который в то время возил его по революционным кружкам Европы, и с самим Гапоном. Ничего всемирно-исторического в Гапоне заметить было нельзя»22. Ленин отзывался о Гапоне совсем нелестно, как о «ненадежном флюгере», понимая, что будущего у него нет. Так и случилось…
В апреле 1905 г. Луначарский выехал в Лондон для участия в работе III съезда РСДРП(б) в качестве делегата Московского комитета партии. И не просто делегата. Ленин поручил именно ему выступить в качестве основного докладчика по вопросу о вооруженном восстании (содокладчиком был Богданов). Ленин составил основные тезисы доклада и попросил Луначарского предоставить ему полный текст будущего выступления, который потом одобрил, сделав несколько замечаний. И как отмечала Крупская, главный посыл выступления Луначарского был против меньшевиков, «о необходимости организации вооруженного восстания… Содержание этой речи было боевое, это была именно та речь, которая в этот момент была нужна». Резолюция по докладу Луначарского была принята единогласно при одном воздержавшемся. В ЦК Луначарского не избрали, но он вошел в состав новой редакции Центрального органа партии. Пленум предложил «т. Воинову отдать по возможности все свои литературные силы на службу партии».
На съезде, по мнению Луначарского, «создалось движение большевизма. Были выработаны определенные тезисы: держать курс на революцию, готовить ее технику, не забывать за «экономическим и закономерным» волевого организующего начала… Все это сделало большевистскую партию готовой к первым бурям и грозам революции 1905 г.». Казалось бы, все обстояло благополучно, и Луначарскому следовало быстрее ехать в революционную Россию, однако, вернувшись в конце апреля в Женеву, он в начале июня уезжает во Флоренцию. Это объяснялось его усталостью, нервным переутомлением, начинавшейся болезнью сердца и частичным неприятием того, что ему приходилось переживать в последнее время.

А. В. Луначарский. Флоренция, 1905.
[РГАСПИ]
«Не могу сказать, чтобы женевский период, тянувшийся почти два года, оставил во мне особенно приятные воспоминания, – констатировал тогда Луначарский. – Жизнь эта меня утомила… Пошатнувшееся здоровье заставило меня поехать в Италию на лето 1905 года. Но и отсюда я продолжал деятельное сотрудничество в с.-д. журналах». Во Флоренции Луначарский начал получать личные письма от Ленина с заказами на статьи. Выезжая в Виареджо, городок на берегу Лигурийского моря, он отвечал: «О возвращении моем в ближайшем будущем говорить не приходится. Мне совершенно необходимо пожить около моря, т. к., к немалому моему огорчению, здоровье мое оказалось несравненно более пошатнувшимся, чем я предполагал. Но ущерба Вам никакого не будет, писать буду много: статьи по три в неделю. К осени с рефератом приеду…»
Однако Ленин не успокаивался, утверждая в первом дошедшем до нас письме Луначарскому от 19 июля 1905 г.: «Трудно нам без Вашего постоянного и близкого сотрудничества. Газета, правда, идет, но и в ней есть некоторое однообразие. Это раз. А второе: брошюр нет, особенно популярных. Необходимо бы Вам продолжать в духе «Как петербургские рабочие к царю ходили?». Через день в новом письме Ленин опять звал Луначарского в Женеву с призывом, что его отсутствие там наносит партии «громадный ущерб, который яснее ясного чувствуется с каждым днем. Личное воздействие и выступление на собраниях в политике страшно много значит. Без них нет политической деятельности, и даже само писание становится менее политическим… Борьба за партию не кончилась, и до действительной победы ее не доведешь без напряжения всех сил. При этом Ленин жаловался, что почти все окружающие его партийные деятели, в том числе М. С. Ольминский, «слишком добренькие», охваченные «духом нытья», «не умеют бороться сами, неловки, неподвижны, неуклюжи, робки. Милые ребята, но ни к дьяволу негодные политики. Нет у них цепкости, нет духа борьбы, ловкости, быстроты»23.
Как видно, Ленин ставил Луначарского на голову выше прочих ближайших соратников, и, конечно, ни о какой «неорганизованности, безалаберности, слабости и разбросанности», на которые будут пенять многочисленные недруги наркома, говорить не приходится. Показательно, что Луначарский твердо проявит в этот важный момент свой характер, как он это будет делать потом не однажды, несмотря ни на какие авторитеты. В ответном письме Ленину от 21 июля он, вспоминая утомившую его «миссию странствующего проповедника и полемиста со всяческим рвением», откровенно писал: «Вы зовете меня в Женеву и ожидаете много от моего личного воздействия. Владимир Ильич, я хорошо помню это личное воздействие – колоссальнейшая трепка нервов без всяких осязательных результатов. В Женеве я чувствовал, что глупею и слабею, здесь, в Италии, я пропасть работаю и нагуливаю телесные и духовные силы, которые, несомненно, страшно понадобятся мне, когда нам, наконец, можно будет переехать в Россию… Мне будет очень горько, если Вы и другие мои дорогие друзья и товарищи по делу будут на меня сердиться, но so denke ich, anders kann ich nicht! («на том стою и не могу иначе!» – слова Мартина Лютера. – С. Д.)».
Идя навстречу Луначарскому, ЦК РСДРП 27 июля в письме из Петербурга сообщало М. С. Ольминскому: «Кстати, передайте Воинову, что мы решительно против его возвращения в Россию. Это страшно ослабило бы ЦО, а между тем масса шансов на его провал. Конспиративные условия очень тяжелые…»24 А в начале августа 1905 г. Ленин просил Луначарского откликнуться на работы меньшевиков Ю. О. Мартова и А. Н. Потресова, еще раз подчеркивая, что подобная задача по силам лишь ему: «Думаю, что могли бы сделать это только Вы. Невеселая работа, вонючая, слов нет, – но ведь мы не белоручки, а газетчики и оставлять «подлость и яд» не заклейменными непозволительно для публицистов социал-демократии». После этого Ленин еще несколько раз ставил перед Луначарским публицистические задачи, которые тот с блеском выполнял.
Пришлось выступить Луначарскому и против старого товарища Богданова, который вместе с Л. Б. Красиным занял в ЦК примиренческую позицию и согласился на все условия меньшевиков об объединении партии без ведома Ленина. Ленин взывал по этому поводу к Луначарскому: «Пригвоздите их за их мизерный способ войны. Сделайте из них тип». Вся известная нам переписка Ленина с Луначарским в этот период, с июня по сентябрь 1905 г. (18 писем), свидетельствует об их добрых отношениях, деловых и личных. Так, Ленин неоднократно передавал приветы жене Луначарского Анне Александровне.
По сути, отъезд Ленина в Россию осенью 1905 г. задерживался именно из-за Луначарского. Ленин в письме в ЦК РСДРП прямо признавал: «…Приехать в назначенный срок я не смогу, ибо теперь немыслимо бросить газету. Воинов застрял в Италии… Не на кого оставить…» Дошло до того, что при создании первой большевистской легальной газеты «Новая жизнь» в Петербурге П. П. Румянцев от имени редакции просил в письме к Ленину 8 октября 1905 г. «давать еженедельно по одной статье», «о том же просим Воинова, и в частности, предлагаем ему писать злободневные политические фельетоны, памфлеты и т. п.». Таким образом, Луначарский встал в первый ряд большевистских публицистов, и это спасало его потом нередко от нападок недоброжелателей внутри партии. «Новая жизнь» выходила в Петербурге с 27 октября по 3 декабря 1905 г под редакцией Ленина, Луначарский же с самого начала числился в ней сотрудником.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе