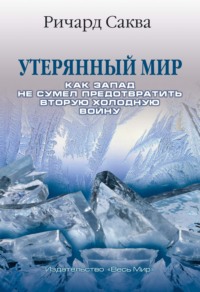Читать книгу: «Утерянный мир. Как Запад не сумел предотвратить Вторую холодную войну», страница 2
Система Устава ООН остается единственной легитимной основой международного права и вмешательства, однако радикальная и экспансионистская версия политического Запада посягнула на ее прерогативы. Произошла своего рода «великая узурпация», когда западные державы стремились подрывать автономию системы Устава ООН, если это соответствовало их целям. Это сопровождалось ложным универсализмом. Трансформации международной политики, предполагавшейся лидерами в Москве и ожидаемой различными «прогрессивными» движениями на Западе, в частности организациями мира и церковными движениями, а также евразийскими державами и некоторыми странами того, что сейчас называют Глобальным Югом (Африка, Азия и Латинская Америка) не произошло. Взамен этого система, созданная западным альянсом во время холодной войны (политический Запад), продвинулась по всему миру, и в частности в Восточной Европе. Это может быть и отвечало пожеланиям ставших свободными стран бывшего Советского блока и некоторых бывших советских республик, но отражало структуру выбора, сформированную Вашингтоном. Вместо либерализма Устава возобладал либеральный антиплюрализм, вытеснивший суверенный интернационализм, который позже вернулся в виде популистских вызовов.
Господство демократического интернационализма и его гегемонистских институтов порождало в России все более горькое ощущение, что ее предали и изолировали, кульминацией чего стал затяжной конфликт вокруг Украины. Подпитываемая сырьевым бумом начала 2000-х годов, Россия восстановила себя как авторитарное государство, обладающее волей и ресурсами, чтобы бросить вызов гегемонии политического Запада. Москвой «великая узурпация» была признана незаконной и неприемлемой. Вместо беспристрастности и инклюзивности, присущих международной системе Устава ООН, политический Запад (самонадеянно называющий себя «международным порядком, основанным на правилах») позиционировал себя в качестве арбитра, устанавливающего правила. Сопротивление России усилилось из-за все более тесного взаимодействия с Китаем. К 2014 г. Китай по паритету покупательной способности стал крупнейшей экономикой мира и все активнее демонстрировал свою новую мощь. В Европе система безопасности, созданная в конце холодной войны, постепенно распадалась, что сопровождалось усилением конфликтов вдоль формирующейся линии фронта на ее восточных рубежах. Архитектура контроля над вооружениями, с таким трудом выстроенная во время холодной войны, была в значительной степени демонтирована, развязаны различные войны по выбору и необходимости, и в конце концов противостояние великих держав возобновилось.
У этих двух порядков – суверенного интернационализма международной системы Устава ООН и либерального интернационализма – порядка, возглавляемого США, было много общего. Оба они были созданы в ответ на катастрофу Второй мировой войны и во многом основывались на одних и тех же принципах и стремлениях. Международная система Устава ООН была более широкой и включала в себя различные типы режимов (коммунистический, мусульманский традиционалистский, монархический и др.). Однако, несмотря на их общее происхождение, эти два порядка не были одинаковыми. Путаница между двумя переплетающимися, но отдельными порядками, существовавшими после окончания холодной войны, была характерна для этой эпохи, и она будет рассмотрена в данной книге. Россия открыто, а затем и Китай, собираясь с силами, бросили вызов тому, что они считали узурпацией рамок Устава ООН со стороны гегемонии во главе с США, которая в своем наиболее широком проявлении превратилась в идеологию превосходства. Это сопровождалось демократическим интернационализмом, который бросил вызов фундаментальному понятию суверенитета в погоне за несомненно добродетельной верой в свободу и верховенство закона. Столкнулись две концепции международных отношений, каждая была приемлема по-своему.
Эта дилемма не нова. Роберт Каплан ссылается на греческое определение трагедии, которая не является «торжеством зла над добром, а торжеством одного добра над другим, что приносит страдание»6. Чтобы пройти между ними, требуется лидерство редкого качества, которого как раз катастрофически не хватало после окончания холодной войны. Для этого также требовалось мудрое государственное руководство, которого, как оказалось, тоже не хватало. Макс Вебер проводил различие между «этикой убеждения», согласно которой лидеры преследуют благородные цели независимо от последствий, и «этикой ответственности», по которой управление государством ориентировано на достижимые выгоды7. В нашем случае державы, которых определили как ревизионистские, осудили предполагаемую замену международного права и автономии интернационализма Устава ООН претензиями Америки на международное лидерство и глобальное превосходство. Мы называем это «великой подменой», и это одна из центральных тем данной книги. В ответ на это США и их союзники, что вполне понятно, удвоили усилия по защите либерального порядка от нелиберальных автократических сил. Это эпическое противостояние воспроизводило логику холодной войны. Глобальная битва за превосходство велась с помощью опосредованных войн, информационных кампаний и мобилизации материальных и интеллектуальных ресурсов.
Относительная бессрочность холодного мира сменилась Второй холодной войной. Использование этого термина ставилось под сомнение, и на то были веские причины. Если оно предполагает возврат к прежней модели взаимоотношений и возобновление прежних противостояний, то это неуместно. Мир изменился, появились новые проблемы, преобладают инновационные технологии, появляются новые идеи, меняется баланс сил между государствами. Использование этого термина затемняет то, что является новым, и искажает анализ. Эти критические замечания справедливы, но в то же время что-то напоминающее холодную войну – постоянный и укоренившийся конфликт великих держав по фундаментальным вопросам, сопровождаемый старомодной, но непрекращающейся борьбой за власть и статус, беспрерывные информационные войны, попытки разделить мир на конкурирующие идеологические блоки, милитаризм и гонка вооружений, и все вместе омраченное ядерной угрозой, – безусловно, вернулось. Точно так же как Первая холодная война не охватывала всего, что имело значение в международной политике в первые послевоенные десятилетия, Вторая холодная война, безусловно, не охватывает всего спектра глобальных проблем. Тем не менее она обеспечивает не только понятную основу для анализа, выявляя элементы преемственности и признавая при этом то, что отличает второй конфликт от первого, но и выявляет факторы, которые привели к возобновлению конфликта и утере мира.
Это подводит нас к фундаментальному вопросу: что мы подразумеваем под миром? Институт экономики и мира, базирующийся в Сиднее, Австралия, публикует «Глобальный индекс мира», который оценивает 163 страны в соответствии с их уровнем миролюбия. В индексе используется концепция «негативного мира», т. е. отсутствия насилия или страха перед насилием. Однако мир не означает просто отсутствие войны. Устойчивый мир описывается в ней как «позитивный мир», который пронизывают отношения, институты и структуры, создающим и поддерживающим мирные общества8. До тех пор пока не будут созданы надежные структуры и принципы, поддерживающие мирный порядок, всегда будет существовать возможность возобновления войны. Западная Азия (включая то, что традиционно было известно как Ближний и Средний Восток) на протяжении десятилетий была подвержена конфликтам, однако, несмотря на наличие в Европе густой сети миротворческих агентств, именно здесь был исчерпан потенциал для достижения позитивного мира, а с 2014 г. он превратился в открытую конфронтацию. Это различие будет применено в данной работе.
Позитивный мирный порядок в нашем случае – это такой порядок, при котором игроки сотрудничают в рамках более широкой международной системы, руководствуясь принципами суверенного интернационализма и международного права. Это согласуется с точкой зрения, высказанной президентом Джоном Ф. Кеннеди в его дальновидной вступительной речи в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, в июне 1963 г., речи, которая до сих пор имеет силу воздействия. Позже мы вернемся к его нереализованному потенциалу, но основным аргументом речи было то, что «мир – это процесс, способ решения проблем»9. Трагедия мира, установившегося после окончания холодной войны, заключается в том, что «процесс», в рамках которого подлинный диалог, учитывающий интересы всех сторон, на самом деле так и не начался. Это была настоящая трагедия в классическом смысле этого слова, когда одно благо вступает в противоречие с другим. На какой шкале можно сравнить справедливость и свободу с миром и безопасностью? Все стороны были убеждены в правоте своего дела, и это было логично, однако взаимное чувство правоты только усилило конфликт. Установился негативный мир, основанный на управлении конфликтами, что является классическим условием холодной войны. Только управление конфликтами в стиле холодной войны в конечном итоге оказалось неэффективным.
Каждая шахматная партия отличается от других, но каждую играют по одним и тем же правилам. Точно так же Вторая мировая война отличалась от Первой, хотя она определялась тем, как закончилась Первая мировая война, так и Вторая холодная война отличается от предыдущей, но она также сформирована тем, как закончилась Первая холодная война. Многие из прежних институтов, проблем и практик остались, а вместе с ними появились новые действующие лица и новые разделительные линии. Старый конфликт между капитализмом и социализмом якобы уступил место конфликту между демократией и автократией, хотя его также можно рассматривать как борьбу между Уставом ООН и антиплюралистическим либерализмом. Конфликты из-за фундаментальных моделей общественного развития, свободы человека, иерархии и статуса вновь формируют международные отношения. Однако в отличие от прежней борьбы Вторая холодная война в 2022 г. превратилась в войну чужими руками между Россией и политическим Западом из-за Украины. Война чужими руками, прокси-война – это вооруженный конфликт, который ведется на территории третьей стороны, в ходе которого государство предоставляет финансовые средства, оружие, материальные средства, советников и все, что угодно, кроме своих вооруженных сил. Прокси-характер конфликта на Украине с самого начала был неоднозначным, поскольку Россия является непосредственным участником. С самого начала она пыталась ограничить свое участие в том, что оно эвфемистически называло «специальной военной операцией». С другой стороны, западные державы поддерживали Вооруженные силы Украины оружием, финансовыми средствами и разведывательными данными. Они определили конфликт как оборонительную войну, которую Украина не начинала и в которой она боролась за само свое выживание. Крупные державы стремились избежать пересечения границ (красных линий), которые могли бы перерасти в прямую вооруженную конфронтацию и ядерное уничтожение в Третьей мировой войне.
Это история, которая начинается с надежды, но заканчивается настоящей трагедией, как в классическом, так и в современном смысле. После 1989 г. была возможность установить положительный мир, но ее упустили. Эта работа представляет собой интерпретационный анализ, сочетающий эмпирические и теоретические исследования для объяснения событий тех лет. Это не подробная история международных отношений, здесь дипломатия является частью более широкого рассмотрения, призванного найти объяснение тому, как и почему был утерян мир. Основываясь на этом, данная работа может указать на то, как мир можно обрести вновь.
Часть I. От войны холодной к горячей
Глава 1. Обещание мира
Могло ли быть по-другому? Холодная война закончилась в 1989 г., возвестив о возможности установления позитивного мира. Вместо этого три десятилетия спустя мир оказался в тисках возобновившегося конфликта, в котором атлантические державы противостоят возрождающимся России и Китаю. Но был ли на самом деле возможен новый мирный порядок? Когда-нибудь вообще удавалось выиграть мир? Могут ли перемены совершаться мирным путем, или судьба человечества – всегда оставаться в плену конфликтов, когда война и угроза войны определяют международную политику и социальные взаимодействия? Лучшие умы на протяжении веков размышляли над этими вопросами, но моя отправная точка более конкретна: это момент осознания возможности в конце Первой холодной войны. Истощение революционного социалистического вызова, брошенного капиталистической современности, и трансформация, пережитая главным геополитическим конкурентом политического Запада, безусловно, были эпохальными событиями, но мог ли этот переломный момент привести к устойчивой перемене поведения? Теперь мы знаем, что потенциал для какого-то нового устроения был растрачен, но действительно ли существовала перспектива нового мирного порядка? Никто не ждал, что лев возляжет рядом с агнцем, однако международная система Устава ООН сделала возможным (и еще может осуществить это в будущем) создание основы для установления позитивного мира между суверенными нациями. Чрезвычайная климатическая ситуация и глобальные пандемии, сопровождающиеся множеством угроз, включая ядерное уничтожение и рост устойчивости к противомикробным препаратам, могут заставить человечество объединиться. Но пока обещанный мир оказался утраченным.
Международная система устава ООН
Это был не первый случай, когда за конфликтом следовали попытки установить прочный мир. В свое время министр иностранных дел Австрии Клеменс фон Меттерних считал, что после революционных потрясений и Наполеоновских войн Европе необходима система, которая связала бы «механизмы, регулирующие взаимодействие между государствами, с факторами, обеспечивающими стабильный социальный и политический порядок внутри их»10. Меттерних создал такое равновесие на Венском конгрессе 1814–1815 гг., которое в основном сохранялось в течение почти столетия, прерывавшееся Крымской войной (1853–1866) и войнами за объединение Италии и Германии. После Первой мировой войны такого соглашения достигнуто не было, и межвоенный период представляет собой впечатляющий пример утраченного мира. На Парижской мирной конференции в январе 1919 г. была создана Лига Наций, но унизительные условия, навязанные Германии Версальским мирным договором в июне того же года, породили постоянное недовольство. Историк и специалист по международным отношениям Э. Х. Карр назвал межвоенную эпоху двадцатилетним кризисом (1919–1939), периодом «холодного мира», в течение которого так и не были решены некоторые фундаментальные проблемы безопасности11. Аналогичным образом, за 1989 годом последовал 25-летний кризис, который первый посткоммунистический Президент России Борис Ельцин тоже назвал холодным миром (1989–2014). Недостатки мирных порядков в обоих случаях привели к возобновлению конфликта12.
Карр отмечает, что союзники-победители в межвоенные годы были озадачены вопросом, как случилось, что они «потеряли мир»13. Победа союзников была решительной, хотя и неполной. Первая мировая война закончилась перемирием, а не безоговорочной капитуляцией, что породило в Германии мифы об «ударе в спину». Два десятилетия спустя побежденные державы «добились гигантских успехов в восстановлении», в то время как «победители 1918 года оставались беспомощными зрителями», дискутируя между собой о том, был ли Версальский договор слишком карательным или недостаточно карательным. После начала российской операции на Украине в 2022 г. разгорелись аналогичные дебаты. Критики, начиная от бескомпромиссных неоконсерваторов (неоконов) и заканчивая либеральными интервенционистами, утверждают, что более жесткий мир после окончания холодной войны мог бы предотвратить возрождение великодержавных имперских амбиций России. Как минимум они настаивают на том, что на действия России в Крыму и на Донбассе в 2014 г. должен был последовать гораздо более жесткий ответ. С другой стороны, реалисты в области международных отношений различных мастей наряду с традиционными консерваторами, палеоконсерваторами и либеральными прагматиками утверждают, что конфликт спровоцировала именно неспособность создать стойкий и всеобъемлющий порядок безопасности, включающий Россию. Тогда, как и сейчас, речь шла о характере мира «после победы» и структуре международной политики14.
«Межвоенный» период после 1989 г. длился гораздо дольше, чем в 1920-е и 1930-е годы, порождая иллюзии о том, что действительно наступила эра постоянного мирного развития. Прочный характер мира был обусловлен отчасти тем, что международная система извлекла важные уроки из предыдущих неудач. Система Устава ООН была заметно более амбициозной в своей попытке создать прочный послевоенный мирный порядок15. Мир был утрачен после 1918 г., и в 1945 г. целью было избежать повторения прежних ошибок16. Международная система Устава ООН обеспечивала динамичную и авторитетную основу для международной политики, но российско-украинский конфликт 2022 г. поставила ее под угрозу как никогда ранее. Однако в знак укрепления системы Устава ООН, страны Глобального Юга сплотились для ее защиты. Множество постколониальных освобожденных государств больше не желали выступать в роли прокси в борьбе традиционных великих держав Глобального Севера и отстаивали подлинную многосторонность, если не многополярность.
Международная система Устава ООН сочетает в себе уважение суверенитета и развитие навыков многосторонности посредством суверенного интернационализма. Суверенный интернационализм представляет собой особый подход к роли норм и силы в международной политике. Он противоречит либеральному интернационализму, который основан на существовании сообщества либеральных демократий. Считается, что их безопасность укрепляется благодаря экспансивной динамике демократического интернационализма, достигаемой благодаря мерам по продвижению демократии, операциям по смене режима и делегитимации авторитарных и неприсоединившихся игроков. С другой стороны, наступательный реализм и неореализм представляют собой основанные на силе интерпретации международной политики, направленные на поддержание гегемонии и укрепление статуса. Суверенный интернационализм представляет собой альтернативу как неореализму с его акцентом на баланс сил, сферы интересов, уравновешивание и т. п., так и полноценному либеральному интернационализму, который включает в себя целый ряд других атрибутов, в том числе свободную торговлю и либеральную демократию. В центре внимания неореализма находятся отношения между государствами в анархической глобальной среде, в то время как суверенный интернационализм принимает логику противоборствующих государств, но утверждает, что с 1945 г. это противоборство сковывается плотным покрытием норм Устава ООН. Суверенный интернационализм ограничивается правовыми и нормативными рамками проведения международной политики и оставляет ее конкретное содержание отдельным государствам. Это не означает, что суверенный интернационализм не имеет никаких ценностей. Членство в ООН означает принятие широких обязательств, связанных с человеческим достоинством, развитием и многосторонностью.
Происхождение системы
Международная система Устава ООН родилась в мрачные дни Второй мировой войны. Атлантическая хартия, составленная Уинстоном Черчиллем и Франклином Д. Рузвельтом в августе 1941 г. на борту британского линкора «Принц Уэльский» у берегов Ньюфаундленда, остается краеугольным камнем послевоенной международной системы. Ее восемь «общих принципов» полностью соответствовали либеральному универсализму, провозглашенному президентом США Вудро Вильсоном (1913–1921), вдохновителем Лиги Наций, поэтому послевоенный порядок часто называют «вильсоновским». Это стало выражением радикального видения либерального интернационализма, которое должно было «преобразовать старую глобальную систему, основанную на балансе сил, сферах влияния, военном соперничестве и союзах, в единый либеральный международный порядок, опирающийся на национальные государства и верховенстве закона»17. Это было далеко идущее видение, и некоторые из идей не были бы одобрены Великобританией, величайшей имперской державой того времени, если бы не настоятельная необходимость вовлечь США в борьбу против нацистской Германии. В отчаянных обстоятельствах, когда Британия в одиночку противостояла гитлеровским армиям, Черчилль был вынужден положить защиту империи на алтарь победы над нацистской Германией. Советский Союз все еще не оправился от разрушительного немецкого вторжения в рамках операции «Барбаросса» 22 июня, поэтому Черчилль был готов пойти на компромиссы, которые угрожали целостности империи. В первой статье Хартии недвусмысленно заявлялось, что ни одно из государств не стремится к территориальному расширению; во второй выражалось намерение не соглашаться ни на какие территориальные изменения, «не находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов»; третья обязывала уважать «право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить», в то время как в четвертой говорилось о том, что все государства имеют «доступ на равных основаниях к торговле и к мировым сырьевым источникам, необходимым для экономического процветания этих стран», что положило бы конец британским имперским предпочтениям и открыло империю для американского капитализма. Для Черчилля ключевым моментом был шестой абзац: «окончательное уничтожение нацистской тирании»18.
Нападение Японии на американский флот в Перл-Харборе 7 декабря 1941 г. было еще впереди. США не были воюющей страной, поэтому не могло быть предметного обсуждения военного сотрудничества. Поэтому основное внимание было уделено общим принципам и нормативным основам будущего мирного устройства. Месяцем позже СССР и девять правительств оккупированной Европы подписали Атлантическую хартию. Сочетание безопасности и ценностей (силы и норм) Хартии позже легло в основу Устава ООН и международной системы, созданной после войны. Эти принципы были включены в Декларацию Объединенных Наций от 1 января 1942 г., в которой 26 стран, воюющих с державами Оси, включая СССР и Китай, обязались соблюдать принципы Атлантической хартии и сражаться ради общей победы. Таким образом, эти государства стали членами-основателями того, что впоследствии стало организацией с таким названием.
При поддержке союзных держав Советский Союз переломил ход войны. Вопрос о послевоенном мирном устройстве становился все более актуальным. На ряде конференций – в Касабланке, Тегеране, Москве, Ялте и Потсдаме – была предпринята попытка, как пишет Генри Киссинджер в своем исследовании мирового порядка, «определить концепцию мира»19. На этих конференциях была заложена фундаментальная архитектура послевоенной международной системы. Союзники работали над установлением «нового мирового порядка», в котором Советский Союз принимал активное участие. На конференциях в Касабланке в январе и Тегеране в ноябре 1943 г. были определены контуры новой Организации Объединенных Наций. На конференции в Думбартон-Оксе, проходившей в Вашингтоне с августа по октябрь 1944 г., собрались представители «Большой четверки» – США, Великобритании, СССР и Китая, а также некоторых других государств, чтобы сформулировать предложения по созданию «общей международной организации», и они согласовали цели, структуру и функционирование нового органа. Основные положения ООН были приняты на Ялтинской конференции советским лидером Иосифом Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем в феврале 1945 г.
Ялтинская встреча вызывает особенно много споров. Фактически достигнутые договоренности были разумными, особенно в отношении ООН и обещаний провести свободные выборы в Польше и других восточноевропейских государствах, но не существовало механизма, который обеспечил бы выполнение Сталиным своих обещаний. Неудивительно, что Ялта осуждается в регионе и символизирует подчинение малых стран великим державам, и особенно Центральной Европы советским интересам в области безопасности. С точки зрения классической политики «концерта» великие державы провозгласили суверенный интернационализм основой нового порядка, который сохраняется (с изменениями) и по сей день. Принцип суверенного интернационализма выходит за рамки классической безоговорочной защиты национальных интересов, описываемой классическими реалистами, и он сочетает государственную автономию с многосторонностью, приверженностью международным договорам и процессам. Мир уже давно двигался в этом направлении, предпринимая различные попытки регулировать ведение войны, разве что только не запретить ее полностью как инструмент политики начиная с конца XIX в. После разрушительных последствий Второй мировой войны такие усилия активизировались. Было достигнуто новое равновесие между реалистичным соблюдением национальных интересов и государственного суверенитета и сотрудничеством в рамках многосторонних институтов.
Принятие Устава ООН на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 г. подготовило почву для официального создания организации (после ратификации национальными парламентами) в октябре того же года. Пяти великим державам того времени (Франция была удостоена почетного членства) была предоставлена привилегия применять право вето в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), воспроизводя структуру Венского концерта, призванного поддерживать мир в постнаполеоновской Европе. Основополагающим принципом был суверенный интернационализм, но нормативный импульс, возникший после массовых жестокостей войны, был глубоким. В Уставе семь раз упоминаются права человека, но не уточняется, какие именно. Этому была посвящена Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ), принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 г. Конвенция о геноциде, принятая Генеральной Ассамблеей в том же месяце, запрещает попытки в военное или мирное время «уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую» и определяет ряд карательных мер20. Конвенция ООН о беженцах 1951 года устанавливает правила в этой области. Эти основополагающие документы дополняются более поздними протоколами, включая Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП), которые были приняты в 1966 г. и вступили в силу в 1976 г. Они подкреплены региональными соглашениями, в частности Европейской конвенцией о правах человека, принятой в 1950 г.21 Система Устава ООН и связанные с ней конвенции далеки от того, чтобы стать мировым правительством. Великие державы продолжают конкурировать на международной арене, которую реалисты называют «анархической», т. е. без доминирующей власти22. Международная политика сохраняет свой конкурентный характер, но легитимность действий игроков определяется соответствием стандартам, установленным системой Устава ООН. Власть по-прежнему перекрывает нормы, но нормы в конечном счете действуют как ограничение.
Первая холодная война
ООН развивалась в тени углубляющегося конфликта между бывшими союзниками. Холодная война была традиционным конфликтом между великими державами, связанным с борьбой соперничающих идеологий. По словам Джона Льюиса Гэддиса, это было «неизбежное состязание, призванное раз и навсегда решить фундаментальные вопросы»23. Одержав победу в 1945 г., Сталин хотел «обеспечить безопасность для себя, своего режима, своей страны и своей идеологии, и именно в таком порядке»24. Гэддис утверждает, что перспективы сохранения военного союза были невелики, поскольку советские цели фундаментально расходились с целями Запада25. Другие утверждают, что холодная война началась из-за неправильного понимания советских намерений и что в конечном счете Сталин был готов согласиться на продолжение сотрудничества с зарождающимся политическим Западом, до тех пор пока будут соблюдаться советские интересы в области безопасности26. Во время гражданской войны в Греции СССР выполнил свою часть сделки, согласно которой страна попала в сферу интересов Запада27. Все это было омрачено наступлением ядерного века. 6 августа 1945 г. США применили ядерное оружие против Хиросимы, а три дня спустя – против Нагасаки. Советская угроза стала более ощутимой, когда СССР испытал свою первую атомную бомбу в августе 1949 г. и свое первое термоядерное устройство (водородную бомбу) в ноябре 1955 г. Изначальные попытки передать весь военный и гражданский ядерный цикл в ведение международного агентства – Комиссии ООН по атомной энергии (план Баруха 1946 г.) – ни к чему не привели. Все ускоряющаяся гонка ядерных вооружений возвестила о наступлении эры Взаимного гарантированного уничтожения (Mutual assured destruction, MAD) – безумной доктрины, лежащей в основе сдерживания.
В ответ на советскую угрозу США разработали три стратегии. Первая заключалась в том, чтобы опираться на ООН и преобладание союзников в Совете Безопасности для сдерживания Москвы. Еще до вступления США во Вторую мировую войну, американские элиты думали о том, как страна сможет институционализировать свою возросшую мощь и интересы. Был сформулирован образ нового типа международного сообщества, осуждавший использование изоляционизма как пригодного способа оттеснения оппонентов на второй план28. Америка долгое время презентовала себя в качестве исключительно добронамеренного государства, но теперь это представление стало сочетаться с новым ощущением глобальной миссии. Стивен Вертхайм утверждает, что одной из черт американской исключительности является вера в то, что «мирное взаимодействие превзойдет систему силовой политики, возникшую в Старом Свете»29. Главенство США не станет следовать классическому имперскому образцу, а будет закреплено в ряде многосторонних институтов, прежде всего в ООН.
Второй была стратегия сдерживания, которую отстаивал дипломат и ученый Джордж Кеннан. В своей «длинной телеграмме», отправленной из Москвы 22 февраля 1946 г., Кеннан утверждал, что советская непримиримость проистекает из внутренней динамики сталинского режима. Запад ничего не мог сделать, чтобы смягчить этот фундаментальный факт. Следовательно, Западу придется ждать, пока какой-нибудь другой кремлевский лидер не пересмотрит приоритеты страны (этот аргумент позже был высказан в адрес Владимира Путина). Тем временем в более развернутой версии своей телеграммы он выступил за «долгосрочное, терпеливое, но твердое и бдительное сдерживание экспансионистских тенденций России»30.
Цитируемые автором тексты и документы, созданные и существующие на русском языке, но приводимые им в переводе на английский, в настоящем издании в большинстве случаев даются с указанием оригинального русскоязычного источника и по возможности по оригинальному русскому тексту. – Примеч. ред.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+36
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе