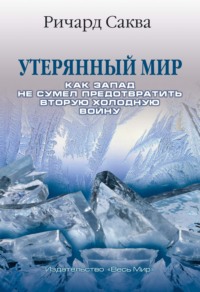Читать книгу: «Утерянный мир. Как Запад не сумел предотвратить Вторую холодную войну»
Richard Sakwa
The Lost Peace. How the West Failed to Prevent a Second Cold War
© Richard Sakwa, 2023
© Издательство «Весь Мир», перевод на русский язык, 2025
* * *
«Утерянный мир» – превосходная книга. Саква детально показывает, как Запад – особенно Соединенные Штаты – после окончания первой холодной войны проводил политику, которая трагически привела ко второй холодной войне, конца которой не видно.
Джон Дж. Миршаймер, автор книги The Great Delusion (Великое заблуждение).
Мастерский рассказ о решениях, которые за последнюю четверть века ввергли мир в новый кризис. Обязательное чтение для неравнодушных граждан Северной Америки и Европы.
Джек Ф. Мэтлок-мл., бывший посол США в СССР и автор книги Superpower Illusions (Сверхдержавные иллюзии).
Выражение признательности
Как всегда, я выражаю благодарность моему многолетнему редактору Джо Годфри, чье терпение сравнимо только с ее мастерством и неизменным профессионализмом. Анонимные рецензенты предоставили подробные и чрезвычайно полезные комментарии, за которые я им очень признателен. Я хотел бы поблагодарить моих друзей и коллег из Школы политики и международных отношений Кентского университета, которые, как всегда, создали исключительно благоприятную среду для научных исследований и интеллектуальных изысканий. Выражаю особую благодарность проницательным капитанам, стоящим у руля этой маленькой команды в последнее время Хью Миаллу, Ричарду Уитмену, Рут Блейкли, Адриану Пабсту и Надин Ансорг. Сотрудничество с учеными, работающими под эгидой Центра политической философии имени Симоны Вейль в Вашингтоне, округ Колумбия, и с теми, кто связан с журналом «Тэлос» в Нью-Йорке, было исключительно плодотворным. Работа в качестве старшего научного сотрудника в Международной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма Высшей школы экономики в Москве позволила мне представить некоторые идеи, изложенные в этой книге, а также стала площадкой для бесчисленных содержательных дискуссий и дружеских контактов. Преподавание в качестве почетного профессора факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова – это не только интересная, но и познавательная деятельность. Членство в Международном дискуссионном клубе «Валдай» остается источником новых идей и связей. Он объединяет ученых, практиков, политиков и журналистов с противоположными взглядами со всего мира для диалога и дискуссий. Центр международных стратегических исследований и исследований в области безопасности при Университете Цинхуа под мудрым руководством мадам Фу Ин позволил мне оценить взгляды Китая на глобальные вопросы, чему очень помогли также несколько посещений Китайского университета международных отношений в Пекине. Центр российских исследований и Школа углубленных международных и региональных исследований Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае проводят замечательную работу по сравнительному анализу, и для меня было честью работать с их профессиональной командой в течение многих лет. Посещение Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели открыло новые горизонты для понимания.
Я нахожусь в неоплатном долгу у широкого круга коллег – тружеников сада интеллектуальных устремлений – слишком многочисленного, чтобы перечислить всех, кому я благодарен, но кого, безусловно, не забываю.
Кентербери, март 2023
Аббревиатуры и сокращения
АБИИ – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
АСЕАН – Организация стран Юго-Восточной Азии
АТО – Антитеррористическая операция (военная операция Украины в Донбассе в 2014–2018 гг.)
БЕП – Большое евразийское партнерство
БПЛА – беспилотный летательный аппарат
БРИКС – объединение стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и др.
БРПЛ – баллистические ракеты подводных лодок
ВВП – валовой внутренний продукт
ВДПЧ – Всеобщая декларация прав человека
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВП – Восточное партнерство
ВРЭП – Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство
ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле
ГВТ – «Глобальная война с террором»
ГЛОНАСС – Глобальная навигационная спутниковая система
ДВЗЯИ – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
ДЗЯО – Договор о запрещении ядерного оружия
ДН – Движение неприсоединения
ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного оружия
ДОВСЕ – Договор об обычных вооруженных силах в Европе
ДРСМД – Договор о ракетах средней и меньшей дальности
ДСНВ – Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений
ЕОА – Европейское оборонное агентство
ЕПС – Европейское политическое сообщество
ЕЭС – Европейское экономическое сообщество
ИДВТ – Исламское движение Восточного Туркестана* (террористическая организация, запрещенная в России)
КБГ – квалифицированное большинство голосов
КЗХО – Конвенция о запрещении химического оружия
КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика
КНР – Китайская Народная Республика
КПК – Коммунистическая партия Китая
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КРВБ – крылатые ракеты воздушного базирования
КРМБ – крылатые ракеты морского базирования
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии
МБР – межконтинентальная баллистическая ракета
МГЭИК – Межправительственная группа экспертов по изменению климата (при ООН)
МПГПП – Международный пакт о гражданских и политических правах
МПЭСКП – Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
МС ООН – Международный суд ООН
МТКСЮ – Международный транспортный коридор Север – Юг
МУС – Международный уголовный суд
НАТО – Организация стран Северо-Атлантического договора
НМЭП – новый международный экономический порядок
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОВПБ – Общая внешняя политика и политика безопасности (ЕС)
ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности
ОЗХО – Организация по запрещению химического оружия
ОМУ – оружие массового уничтожения
ОПБО – Общая политика безопасности и обороны (ЕС)
ОСВ – ограничение стратегических вооружений, переговоры
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития
ПДЧ – План действий по членству (в НАТО) «Пояс и путь» – китайская инициатива «Один пояс и один путь»
ППС – паритет покупательной способности
ПРМ – Партнерство ради мира
ПРО – противоракетная оборона
СБ ООН – Совет Безопасности ООН
СБСЕ – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
СВПД – Совместный всеобъемлющий план действий (по иранской ядерной программе)
СДПГ – Социал-демократическая партия Германии
СНВ – стратегические наступательные вооружения
СНГ – Содружество Независимых Государств
СПГ – сжиженный природный газ
СПС – Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (между ЕС и странами бывшего СССР)
СПС Россия – НАТО – Совместный постоянный совет, форум Россия – НАТО (1997–2002)
СПФС – Система передачи финансовых сообщений
СПЧ ООН – Совет по правам человека ООН
СРН – Совет Россия – НАТО (с 2002 г.)
ССАС – Совет Северо-Атлантического сотрудничества
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ТТП – Транстихоокеанское партнерство
ФСБ – Федеральная служба безопасности (Россия)
ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации
ЦЕР – Центр европейских реформ
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества
ЭПШП – Экономический пояс Шелкового пути
ЮНЕСКО – Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры
ЮНКЛОС – Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву
AUKUS – оборонительный пакт группы стран в составе Австралии, Великобритании и США
CAATSA – закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций»
CEIW – кибернетическая информационная война
CIPS – китайская Система трансграничных межбанковских платежей
CNOOC – Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация
CNPC – Китайская национальная нефтяная корпорация
CNSA – Китайская национальная космическая администрация
CPTPP – Всеобъемлющее и прогрессивное транстихоокеанское партнерство
DCFTA – Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли
EEAS – Европейская служба внешних действий
EUGS – Глобальная стратегия ЕС
FOCAC – Форум по китайско-африканскому сотрудничеству
FONOP – Операции по защите свободы судоходства
G7 – Группа семи, объединение семи ведущих экономически развитых стран
G20 – Группа из двадцати ведущих экономик мира
GBSD – Оружие стратегического сдерживания наземного базирования
GPS – Система глобального позиционирования
ICAN – Международная кампания за запрещение ядерного оружия
MAD – взаимное гарантированное уничтожение
NDC – определяемые на национальном уровне вклады
NDN – Северная дистрибьюторская сеть
NED – Национальный фонд в поддержку демократии
NIEO – Новый международный экономический порядок
NORAD – Североамериканское командование воздушно-космической обороны
NSS-2015 – Стратегия национальной безопасности 2015, США
PESCO – Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны – программа ЕС
PGM – высокоточные управляемые боеприпасы
Quad – Четырехсторонний диалог по безопасности
R2P – концепция «ответственность по защите»
RFE/RL – Радио Свободная Европа/Радио Свобода
SLBM – маломощные боеголовки для подводных лодок
SWIFT – международная платежная система
USAGM – Агентство глобальных медиа США
USAID – Агентство США по международному развитию
Предисловие к русскому изданию
Я рад, что моя книга теперь доступна читателям на русском языке, и очень благодарен Олегу Зимарину, который перевел эту работу, и его команде из «Всего Мира» за все, что они сделали, чтобы вы могли взять в руки это издание. Вопросы, которые в нем рассматриваются, сегодня стали еще более актуальными, чем тогда, когда книга впервые вышла в свет на английском языке в конце 2023 года. Все темы, что обсуждались в то время, сегодня являются еще более насущными, а на вопросы, уже поднятые в книге, ответов находится все меньше. Но со времени выхода книги читатели задавали и новые вопросы.
Прежде всего, что такое «мир», который был утрачен? Непосредственный ответ состоит в том, что была утрачена перспектива установления «позитивного» мирного порядка после окончания Первой холодной войны в 1989–1991 годах. С окончанием холодной войны идеологическая конфронтация между коммунизмом и капитализмом и геополитическая борьба между Советским Союзом и Соединенными Штатами завершились. Появилась возможность наступления новой эры мира и развития. Это не означало, что региональные конфликты, подобные тем, что происходят на Ближнем Востоке, или проблемы недостаточного развития и социального неравенства внезапно исчезнут, но условия для их решения представлялись более приемлемыми. В Европе был снят старый Железный занавес, и вечная мечта о панконтинентальном объединении стала реальной перспективой. Она могла претвориться в жизнь, по выражению Михаила Горбачева, в «общем европейском доме» – идея которого была поддержана президентом Франции Франсуа Миттераном в форме «европейской конфедерации». Прежде всего, потому, что потенциал мира и развития, закрепленный в Уставе ООН, подписанном в июне 1945 года и вступившем в силу в октябре того же года, лежал в основе международной системы, которая стояла выше повседневных распрей великих и малых держав. Именно к принципам международной системы Устава ООН Горбачев апеллировал, когда положил конец холодной войне.
К сожалению, этому не суждено было сбыться. Советский Союз распался в декабре 1991 года, а голос государства-правопреемника, России, не был слышен в результате травм, нанесенных ей экономическими и политическими преобразованиями. Уже тогда было ясно, что США и их союзники (описываемые в этой книге как политический Запад) не готовы отказаться от своей привычной гегемонии. Фактически, в отсутствие мощной державы-противовеса, сам политический Запад радикализировался. Дошло до того, что там поверили в конец истории и что Запад представляет собой единственную жизнеспособную форму политического и экономического устройства. Утвердилась идея глобализации, которая является не только технологическим фактом, но и идеологическим проектом по установлению неолиберальной формы капитализма во всем мире. Глобализации соответствовала эпоха однополярности, когда осталась только одна крупная держава, и ничто не могло остановить расширение ее амбиций.
Это подводит нас к более глубоким истокам мира, который был утрачен, к миру, перспективы которого появились в 1945 году, после разгрома нацистской Германии и императорской Японии союзниками, сопровождавшегося совместными усилиями по созданию системы ООН. И тогда этому не суждено было сбыться. Сброс двух атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки в августе того же года ознаменовал не последнюю битву Второй мировой войны, а первую грядущей холодной войны. Как выразился в то время Джордж Оруэлл, холодная война в ядерную эпоху – это та война, в которую великие державы боятся вступать напрямую. Хотя Советский Союз получил атомную бомбу только в августе 1949 года, наступление ядерной эры изменило характер войны великих держав. Ключевым моментом является то, что после 1945 года в результате холодной войны сформировался политический Запад. Это включало создание Соединенными Штатами глобальной сети из примерно 800 военных баз, заключение ряда двусторонних договоров о безопасности с партнерами в Азии и, прежде всего, создание НАТО в Европе. Холодная война также повлекла за собой трансформацию американского государства. Было создано «трумэновское» государство военных и служб безопасности, которое и по сей день остается движущей силой в США. Его элементы существовали с момента превращения США в мировую великую державу в ходе войны с Испанией в 1898 году, но тогда они сдерживались традицией консервативного интернационализма, который выступал против мнения, что США – это держава, предназначение которой преобразовывать мир по своему образу и подобию в силу своего «исключительного» характера. Этот воинствующий интернационализм после 1989 года получил полную свободу действий.
Мы должны рассматривать весь период с 1945 года по сегодняшний день как единое целое. Эти годы можно разделить на три этапа: Первая холодная война (1945–1989); период «холодного мира» (1989–2014), в течение которого не была решена ни одна из фундаментальных проблем общеевропейской безопасности; и период Второй холодной войны с 2014 года. Холодная война – это особый тип международной политики, в которой обе стороны исходят из того, что причиной конфликта является не взаимодействие двух стран, а сам характер противоположной стороны, поэтому борьба ведется не за интересы, а за цели и предполагаемые ценности. В результате перемены могут произойти только в том случае, если другая сторона каким-то образом изменится сама или по крайней мере будет готова коренным образом пересмотреть свою внешнюю политику. Опасность такого мышления очевидна. Борьба между капитализмом и коммунизмом ушла в прошлое, но теперь состязание оформлено в виде борьбы между демократиями и автократиями. Сеющая рознь логика холодной войны вернулась с удвоенной силой.
Подобно партиям игры в шахматы, каждая холодная война отличается от других, но проходит по одним и тем же правилам. Сегодня действующие лица изменились: Россия сменила Советский Союз; а на политическом Западе значительно уменьшилось международное значение бывших европейских великих держав; выделилась галерея важных средних держав, включающая Индию, Бразилию, Южную Африку и многие другие страны; но прежде всего Китай, который вновь стал одной из величайших мировых держав. К сожалению, некоторые вещи остаются неизменными – особенно логика холодной войны, которая предполагает негативный мир, вечно балансирующий на краю ядерного вулкана. Некоторые ограничения Первой холодной войны были сняты, и поэтому настоящая холодная война оказалась гораздо опаснее и масштабнее, чем первая. Вся архитектура контроля над вооружениями была демонтирована, а демонизация противника стала гораздо более интенсивной. Был возрожден весь аппарат пропаганды и подавления прежних лет.
Перед лицом множества проблем, включая недостаточный уровень развития стран и ускоряющееся изменение климата, необходимо разработать новую позитивную программу действий в интересах мира. Поскольку человечество как никогда близко к самоуничтожению, требуется по-настоящему новое мышление. Учитывая огромные технологические, медицинские и биологические достижения человечества, устаревшее мышление времен холодной войны и стремление к гегемонии препятствуют наступлению золотого века мира и развития. Именно этой цели посвящена моя книга.
Кентербери, сентябрь 2024 года
Введение
Окончание холодной войны в 1989 г. открыло перспективу установления прочного мира нового типа. Теперь, когда человечество больше не разрывали на части жесткие идеологические противоречия XX в., мир и согласие казались возможными. Глобальная политика как раз и заключается в создании нового мирного порядка. Советский Союз под руководством Михаила Горбачева с марта 1985 г. отказался от большей части идеологии, питавшей холодную войну, изменил внутреннюю политику и поощрял политические реформы среди своих союзников в Восточной Европе. Западные державы преодолели первоначальные сомнения и включились в процесс перемен. Поток деклараций и соглашений провозгласил наступление эры сотрудничества и развития.
Ожидалось, что благотворное влияние установления мира в Европе распространится по всему миру. Наступила эпоха глобализации с ее представлениями о том, что время и пространство могут быть покорены новыми коммуникационными технологиями, перекрыты сетью личных и деловых контактов, крепнущей благодаря дешевеющим авиаперелетам и в силу той взаимозависимости, что создают торговые и финансовые связи. Формировался глобальный средний класс, опирающийся на сходные модели потребления, культурные ориентиры и даже общие взгляды на демократию, подотчетность и верховенство закона. Между повышением уровня жизни и требованиями к демократии нет автоматической корреляции, однако в долгосрочной перспективе потребительский образ жизни порождает потребность в личной автономии и защите, предоставляемой независимым судом. Когда в Европе закончилась холодная война, Китай все еще находился на ранних стадиях своей трансформации и придерживался философии «мирного роста», однако вопрос о его политической трансформации был поставлен уже тогда.
Но прежде всего основу для международного права, глобального управления и гуманитарной деятельности давала международная система, созданная в конце Второй мировой войны в 1945 г., основанная на Организации Объединенных Наций, ее Уставе и институтах, и именно к этому универсальному порядку обращался Горбачев. Советские реформаторы верили, что с окончанием холодной войны эта система сможет в полной мере вступить в свои права, позволяя процветать многостороннему сотрудничеству, одновременно ослабляя традиционное геополитическое соперничество и борьбу великих держав. Многого удалось достичь. Угроза атомного Армагеддона долгое время вынуждала к осторожности в международных делах, а вот теперь тень неминуемой ядерной войны рассеялась. «Дивиденд мира» позволил сократить военные бюджеты и умерить милитаризм, характерный для холодной войны. Глобализация и экономическая взаимозависимость смягчили политические разногласия, породив идеологии «третьего пути». Казалось, загадка прогресса решена. Достигнув предполагаемого «конца истории», человечество объединится на принципах международного права и рыночной демократии.
Эти ожидания не оправдались, и не в первый раз. Французская революция 1789 г. поглотила саму себя и закончилась военной диктатурой. Большевистская Октябрьская революция 1917 г. внушила миллионам людей веру в то, что революционный социализм положит начало эре мира и процветания, но прежде сама потонула в океане крови. Вера в обновление вновь расцвела в конце 1980-х, на этот раз не через революцию, а именно через отказ от насилия. Это был поистине «антиреволюционный» момент, когда в перспективе забрезжила логика внутреннего примирения и международного сотрудничества. Фундаментальные проблемы бедности, неравенства, недостаточного развития, неоколониализма, неолиберальной финансиализации (отделение торговли от физической доставки товаров и услуг), ухудшения состояния окружающей среды и многого другого остались, но условия для их решения оказались необычайно благоприятными. Приближался новый рассвет.
Специалисты по Советскому Союзу, в том числе и я, искренне описывали преобразующий потенциал горбачевской перестройки – того слова, которое он использовал с июня 1987 г. для обозначения своей программы реформ, и приветствовали ослабление напряженности времен холодной войны. Достижения того периода были реальными: демонтаж репрессивного аппарата государственного контроля, расцвет дискуссий и демократических устремлений во всем регионе, а также освобождение государств советского блока. В ноябре 1989 г. пала Берлинская стена, и к концу года коммунистические системы ушли в прошлое. Страны Центральной и Восточной Европы были свободны в выборе своей судьбы. Сам Советский Союз был разорван на части силами, вызванными реформами, и в декабре 1991 г. распался. Пятнадцать бывших союзных республик превратились в независимые государства почти без какого-либо насилия, хотя подспудное напряжение проявилось в последующие годы. Крушение коммунистического строя и распад Советского Союза были эпохальными событиями и продолжают определять нашу эпоху «после окончания холодной войны».
В октябре 1945 г. Джордж Оруэлл описал холодную войну как «мир, который не является миром»1. Однако согласие, установившееся после 1989–1991 гг., можно было в лучшем случае назвать непростым и чреватым новыми конфликтами. Это был «холодный мир», при котором фундаментальные вопросы развития и европейской безопасности оставались нерешенными. Реакция французского военачальника маршала Фоша на Версальский мирный договор от июня 1919 г. была однозначной: «Это не мир. Это перемирие на двадцать лет», и таким оно и оказалось. В 1939 г. Европа и весь мир вновь погрузились в войну. В равной степени урегулирование, состоявшееся после 1989 г., стало еще одним Версальским миром в том смысле, что оно было лишь частичным и в конечном итоге привело к возобновлению конфликта, описанного в этой книге как Вторая холодная война. Эту борьбу теперь характеризуют как конфликт между либеральной демократией и различными типами авторитаризма, при том что противостояние великих держав подкрепляется культурной и цивилизационной мобилизацией. Политический Запад, возникший во время Первой холодной войны и сформированный под ее влиянием, разросся, создавая новые границы между расширяющимся либеральным международным порядком и аутсайдерами. Такой порядок должен был быть демократическим миром, но он с неизбежностью вступил в противоречие с теми, у кого были другие представления о том, как им наилучшим образом осуществлять собственное развитие и обеспечивать национальную безопасность. К тому же в таком международном порядке должен был доминировать Запад, что усиливало озабоченность таких стран, как Россия и Китай, имеющих собственные великодержавные амбиции.
Мирный порядок2, предусмотренный Уставом ООН, является умеренной формой политики, проводимой великими державами, и выдержан в выражениях баланса сил и сфер интересов, уравновешиваемых приверженностью многостороннему сотрудничеству. В его основе лежит понятие «либерализма Устава», основанное на плюралистической идее международного сообщества. Джерри Симпсон описывает это как «процедуру организации отношений между различными сообществами». Это контрастирует с «либеральным антиплюрализмом», описанным Симпсоном как «либерализм, который может быть эксклюзивным и нелиберальным по своим последствиям», прежде всего из-за «отсутствия терпимости к нелиберальным режимам». Таким образом, либерализм делится на две традиции: «евангельскую версию, которая рассматривает либерализм как всеобъемлющую доктрину или социальное благо, заслуживающее поощрения, и другую, более светскую традицию, подчеркивающую процедурность и разнообразие»3. Это разделение приняло более резкие формы в эпоху после окончания холодной войны. Оно лежит в основе противоречия между суверенным интернационализмом, в котором уважение к суверенитету смягчается приверженностью ценностям Устава ООН, и более широким взглядом на международную политику, описываемым в этой книге как демократический интернационализм, радикальная версия либерального интернационализма.
После 1989 г. относительно структурированная биполярная конфронтация времен Первой холодной войны между американской и советской социальными системами перешла в иную плоскость. Были предложены две системы мироустройства – новые мировые порядки, на жаргоне того времени, – и именно столкновение между ними, как это ни парадоксально, привело к конфликту и в конечном счете к войне. Первая – это суверенный интернационализм, к которому Горбачев апеллировал, начиная свои реформы. Это система, которую США, Советский Союз, Китай и другие победители создали в 1945 г. в форме ООН и связанного с ней свода норм международного права и практики. Международная система, основанная на Уставе ООН, сочетает в себе государственный суверенитет, право на национальное самоопределение (что способствовало деколонизации) и права человека. Устав ООН запрещает войну как инструмент политики и обеспечивает основу для мирного урегулирования международных конфликтов. В отличие от злополучной Лиги Наций в межвоенные годы мирный порядок по Уставу получил в качестве своей основы «концерт держав», представленный пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, «Пятерку», в которую входят США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Когда в конце 1980-х годов Советский Союз начал свои реформы, он обратился к системе Устава ООН как к модели мира и развития, продвигая ее как универсальную модель для человечества.
Суверенный интернационализм формально уважает интересы всех держав, больших и малых, и в то же время стремится к многостороннему разрешению проблем, с которыми сталкивается человечество. Конечно, это идеал, и практика международной политики, как правило, далека от него. Тем не менее система Устава и его принципы остаются основой для ведения международных дел. Хотя в последние годы она подверглась беспрецедентному напряжению, никто не предложил серьезной альтернативы. Горбачев обратился к этой модели суверенного интернационализма, чтобы положить конец холодной войне, полагая, что она обеспечит общую основу для преобразований в международных делах. Этого не произошло, но идея некоего кооперативного суверенного интернационализма лежала в основе мышления Движения неприсоединения с 1950-х годов и остается сердцевиной различных незападных объединений сегодня. Эта модель международной политики избегает создания военных союзов и блоков и, по крайней мере формально, отвергает мнение о том, что мировой порядок требует, чтобы во главе его стоял какой-то гегемон. Приверженность Уставу ООН и последующим протоколам влечет за собой приверженность принципам человеческого достоинства и прав человека, но при этом государственный суверенитет и невмешательство во внутренние дела других государств остаются приоритетами.
Другой «новый мировой порядок» – это более узкий либеральный международный порядок, созданный и возглавляемый Соединенными Штатами в послевоенные годы. В XIX в. Великобритания выступала в качестве поборника свободной торговли и открытого судоходства – роль, которую США взяли на себя после 1945 г. История либерального интернационализма восходит по крайней мере к эпохе Просвещения и свойственным ей взглядам на прогресс, рациональность, свободную торговлю и сотрудничество4. Опираясь на эту традицию, послевоенный либеральный интернационализм опирался на сообщество либеральных демократий, основанное на двух ключевых элементах: открытой торговой и финансовой системе, созданной в рамках Бреттон-Вудского соглашения 1944 г., и военной мощи, сформировавшейся по мере усиления холодной войны, кульминацией которой стало подписание Вашингтонского договора от 4 апреля 1949 г. о создании Организации Североатлантического договора (НАТО). Термин «либеральный» во времена холодной войны в основном означал «антикоммунистический», а не «либерально-демократический», однако он обеспечивал мощную и в конечном счете успешную нормативную базу для победы над советским противником. Сочетание либерального интернационализма с геополитической мощью и амбициями Америки означало, что это был «гегемонистский» мировой порядок, в котором доминировали США и их союзники. Гегемония означает способность определенного политического сообщества осуществлять лидерство по отношению к другим и упорядочивать отношения между подчиненными элементами. Гегемония достигается за счет сочетания принуждения и согласия, причем наиболее успешным является установление общих рамок убеждений и политики, когда согласие является подлинным и дается свободно, а принуждение применяется только в качестве крайнего средства5.
С окончанием Первой холодной войны либеральный интернационализм провозгласил не только свою победу, но и собственную универсальность – более не могло быть отдельных «сфер влияния», поскольку руководство ведомым США миром было провозглашено глобальным проектом. Биполярность времен холодной войны исчезла, и в последующие однополярные годы не осталось никого, кто мог бы оспорить это утверждение. В отсутствие серьезной конкуренции либеральный интернационализм превратился в нечто более радикальное и экспансивное. Это называют либеральной гегемонией, обеспечивающей глобальное лидерство Америки посредством демократического интернационализма и одновременно укрепляющей ее геополитическое господство. США превратились в колосса, господствующего на земном шаре, питающего высокомерные иллюзии всемогущества. Все это излагалось на мягком языке прав человека, демократии и открытых рынков, но ряд опрометчивых и неудачных проектов смены режимов в непокорных странах продемонстрировали пределы могущества США и их трансформационного потенциала. Политический Запад позиционировал себя как универсальную модель для всего человечества, превосходящую все возможные альтернативы. В этой модели либерального порядка было много привлекательного, пока она оставалась в рамках международной системы Устава ООН. Прогрессивные аспекты либерального интернационализма завоевали сторонников по всему миру. Однако более амбициозная программа либеральной гегемонии выявила односторонние и принудительные черты, особенно когда она была выражена в терминах американской исключительности. Озабоченность переросла в беспокойство и в конечном счете в сопротивление. В первые годы ворчала и настаивала на приоритете универсализма Устава ООН лишь значительно ослабевшая Москва, но она была не в состоянии бросить вызов лидерству США, однако более серьезным соперником после завершения своего «мирного подъема» стал Китай.
Начислим
+36
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе