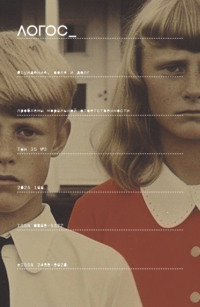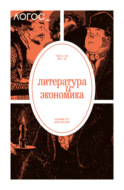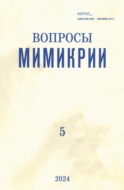Читать книгу: «Журнал «Логос» №3/2025»
ИЗДАЕТСЯ С 1991 ГОДА, ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
УЧРЕДИТЕЛЬ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Валерий Анашвили
РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ
Евгений Логинов
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Вячеслав Данилов
Дмитрий Кралечкин
Виталий Куренной (научный редактор)
Инна Кушнарева
Артем Морозов
Яков Охонько (ответственный секретарь)
Александр Павлов (шеф-редактор)
Александр Писарев
Артем Смирнов
Полина Ханова
Игорь Чубаров
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Феликс Ажимов (председатель совета, Москва)
Петар Боянич (Белград)
Вадим Волков (Санкт-Петербург)
Борис Гройс (Нью-Йорк)
Борис Капустин (Москва)
Драган Куюнджич (Гейнсвилл)
Джон Ло (Милтон-Кинс)
Дейдра Макклоски (Чикаго)
Кристиан Меккель (Берлин) Фритьоф Роди (Бохум)
Елена Рождественская (Москва)
Блэр Рубл (Вашингтон)
Грэм Харман (Лос-Анджелес)
Клаус Хельд (Вупперталь)
Юк Хуэй (Роттердам)
E-mail редакции: mail@logos-journal.ru
Сайт: http://www.logosjournal.ru/
Телеграм: https://t.me/wowlogos
© Высшая школа экономики, 2025
https://www.hse.ru/
Выпускающий редактор Елена Попова
Дизайн Сергей Зиновьев
Верстка Анастасия Меерсон
Обложка Владимир Вертинский
Корректор Мария Чернова
Редактор сайта Вадим Алчинов
ISSN 0869-5377
eISSN 2499-9628
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-87043 от 26.03.2024
Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования и экспертного отбора.
Журнал входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК по специальностям
5.2.1, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.7.6, 5.7.7, 5.7.8
Подписной индекс 44761
в Объединенном каталоге «Пресса России»
Адрес редакции: 105066, Москва,
ул. Старая Басманная, 21/4
Адрес издателя и распространителя:
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
Издательский дом Высшей школы экономики, (495) 772-95-90 доб. 15298,
E-mail: id@hse.ru
* * *
LOGOS
PHILOSOPHICAL AND LITERARY JOURNAL
Volume 35. #3. 2025
Published since 1991, frequency – six issues per year
Establisher – HSE University
EDITOR-IN-CHIEF Valery Anashvili
GUEST EDITOR Evgeny Loginov
EDITORIAL BOARD: Igor Chubarov, Vyacheslav Danilov, Polina Khanova,
Dmitriy Kralechkin, Vitaly Kurennoy (science editor), Inna Kushnaryova, Artem Morozov, Yakov Okhonko (executive secretary), Alexander Pavlov (managing editor),
Alexander Pisarev, Artem Smirnov
EDITORIAL COUNCIL: Felix Azhimov (Council Chair, Moscow), Petar Bojanić (Belgrade), Boris Groys (New York), Graham Harman (Los Angeles), Klaus Held (Wuppertal), Yuk Hui (Rotterdam), Boris Kapustin (Moscow), Dragan Kujundzic (Gainesville), John Law (Milton Keynes), Deirdre McCloskey (Chicago), Christian Möckel (Berlin), Frithjof Rodi (Bochum), Elena Rozhdestvenskaya (Moscow), Blair Ruble (Washington, DC), Vadim Volkov (St. Petersburg)
Executive editor Elena Popova; Design Sergey Zinoviev; Layout Anastasia Meyerson; Cover Vladimir Vertinskiy; Proofreader Maria Chernova; Website editor Vadim Alchinov
E-mail: mail@logos-journal.ru
Website: http://www.logosjournal.ru
Telegram: https://t.me/wowlogos
ISSN 0869-5377
eISSN 2499-9628
Registration certificate ПИ № ФС 77-87043 dated March 26, 2024
All published materials passed review and expert selection procedure
© HSE University, 2025 (https://www.hse.ru/en/)
* * *
Невозможность предельной моральной ответственности1
Гален Стросон
Техасский университет в Остине (UT Austin), USA, gstrawson@mac.com.
Ключевые слова: свобода воли; «Базовый аргумент»; моральная ответственность; предельная ответственность; детерминизм; causa sui; индетерминизм; случайность; выбор; действие; компатибилизм; инкомпатибилизм; либертарианство; наказание.
Если мы должны нести предельную моральную ответственность за свои поступки, то мы должны быть ответственны за то, каковы мы, по крайней мере в определенных ментальных аспектах. Причина этого в том, что мы можем нести предельную моральную ответственность только за то, что намеренно делаем, а то, что мы намеренно делаем, является функцией от того, каковы мы в ментальном отношении. Однако мы не можем быть предельно ответственны за то, каковы мы, ни в ментальном, ни в каком-либо другом отношении. Ничто не может быть предельной причиной самого себя в каком бы то ни было отношении. И даже если Бог может быть причиной самого себя, это невозможно для нас. Учитывая понятие моральной ответственности, которое является фундаментальным для западной культуры, этот аргумент может быть использован для того, чтобы доказать, что предельная моральная ответственность невозможна.
1
Есть аргумент, который я буду называть Базовым аргументом, который, кажется, доказывает, что мы не можем быть истинно, или предельно, морально ответственными за свои поступки. Согласно Базовому аргументу неважно, истинен детерминизм или ложен. Мы в любом случае не можем быть истинно, или предельно, морально ответственными за свои действия.
Базовый аргумент имеет в литературе по свободе воли разные формулировки, и его центральную идею можно выразить просто. (1) Ничто не может быть causa sui – ничто не может быть причиной самого себя. (2) Чтобы быть истинно морально ответственным за свои поступки, нужно быть causa sui, по крайней мере в определенных важных ментальных аспектах. (3) Следовательно, ничто не может быть истинно морально ответственным.
В этой статье я хочу еще раз рассмотреть Базовый аргумент в надежде, что тот, кто считает, что мы можем быть истинно, или предельно, морально ответственны за свои поступки, будет готов сказать, где именно в нем ошибка. Я думаю, что его смысл вполне очевиден и что он был недооценен в недавних дискуссиях о свободе воли – возможно, потому что на него невозможно ответить. Я подозреваю, что он очевиден настолько, что если настаивать на нем слишком сильно, то он может показаться менее очевидным, чем он есть на самом деле, учитывая присущую людям в целом и философам в особенности сопротивляемость внушению. Но если мне удастся привлечь к нему внимание, меня не очень волнует, что он может из-за этого показаться менее очевидным, чем он есть. Его логическая корректность должна говорить сама за себя.
В несколько более громоздкой формулировке Базовый аргумент имеет следующий вид2:
1. Интересуясь свободным поступком, мы в основном интересуемся поступками, которые совершаются на некотором основании (в противоположность «рефлекторным» поступкам или бессознательным действиям, основанным на привычке).
2. Когда кто-то поступает на некотором основании, то, что этот кто-то делает, является функцией от того, каков этот кто-то в ментальном отношении. (Это также функция от его роста и силы, места и времени, в которых он находится, и так далее. Но ментальные факторы имеют решающее значение, когда речь идет о моральной ответственности.)
3. Следовательно, если кто-то истинно, или предельно, ответственен за то, как он поступает, он должен быть истинно ответственен за то, каков он в ментальном отношении – по крайней мере в определенных аспектах.
4. Но чтобы быть истинно ответственным за то, каков он есть, этот кто-то должен был привести себя к тому, чтобы стать таким, каков он есть, в ментальном отношении в определенных аспектах. И он не просто должен был быть причиной того, что он стал таким, каков он есть, в ментальном отношении. Он должен был сознательно и явным образом выбрать быть таким, каков он есть, в ментальном отношении в определенных аспектах, и он должен был преуспеть в том, чтобы привести себя к этому состоянию.
5. Но нельзя сказать, что кто-то по-настоящему сознательно и разумно в каких-либо аспектах выбирает быть таким, каков он есть, в ментальном отношении, если он не оснащен заранее в ментальном отношении некоторыми принципами выбора, П1 – предпочтениями, ценностями, установками в пользу чего-то, идеалами, – в свете которых человек выбирает, каким ему быть.
6. Но тогда, чтобы быть истинно морально ответственным за то, что он выбрал быть таким, каков он есть, в ментальном отношении в определенных аспектах, он должен быть истинно ответственным за обладание принципами выбора П1, в свете которых он выбрал, каким ему быть.
7. Но для этого он должен был выбрать П1 разумно, сознательно, намеренно.
8. Но для (7) он должен был уже иметь заранее определенные принципы выбора П2, в свете которых он выбрал П1.
9. И так далее. Здесь начинается регресс, который невозможно остановить. Истинная самодетерминация невозможна, потому что она требует актуального завершения бесконечного ряда выборов принципов выбора3.
10. Поэтому истинная моральная ответственность невозможна, так как она требует истинной самодетерминации, как это указано в (3).
Это рассуждение может показаться искусственным, но, по сути, тот же самый аргумент можно изложить в более естественной форме. (1) Нельзя отрицать, что то, каков некто изначально, является результатом наследственности и раннего опыта, и неоспоримо, что это те вещи, за которые он не может нести никакой ответственности (моральной или иной). (2) Нет никакой возможности, чтобы на более позднем этапе жизни кто-то обрел истинную моральную ответственность за то, каков он есть, попытавшись изменить то, каким он уже стал в результате наследственности и предыдущего опыта. (3) Так как и то, каким именно образом кто-то хочет попытаться изменить себя, и степень его успеха в попытке изменения будут определяться тем, каков он уже есть в результате наследственности и предыдущего опыта. (4) И любые дальнейшие изменения, которые некто может произвести только после того, как он произвел определенные первые изменения, будут через эти первые изменения, в свою очередь, детерминироваться наследственностью и предыдущим опытом. (5) Возможно, есть и другие факторы: не исключено, что некоторые изменения в том, каков кто-то есть, связаны не с наследственностью и опытом, а с влиянием индетерминистических или случайных факторов. Но абсурдно полагать, что индетерминистические или случайные факторы, за которые никто ex hypothesi не несет ответственности, сами по себе могут каким-либо образом способствовать тому, чтобы некто был истинно морально ответственным за то, каков он есть.
Мой тезис, таким образом, не в том, что люди не могут изменить то, каковы они. Они могут изменять себя в определенных аспектах (которые, как правило, преувеличиваются жителями Северной Америки и, возможно, недооцениваются европейцами). Мой тезис только в том, что люди не могут изменить себя таким образом, чтобы быть или стать истинно, или предельно, морально ответственными за то, каковы они суть, и, следовательно, за свои поступки.
2
Я встречался с двумя главными реакциями на Базовый аргумент. С одной стороны, он убеждает почти всех студентов, с которыми я обсуждал тему свободы воли и моральной ответственности4. С другой стороны, в современных дискуссиях о свободе воли и моральной ответственности люди часто склонны отмахиваться от него как от или неправильного, или нерелевантного, или дурацкого, или слишком поспешного, или выражающего метафизическую мегаломанию. Я думаю, что Базовый аргумент определенно логически корректно показывает, что мы не можем быть морально ответственными в том смысле, в каком многие считают себя морально ответственными. И я думаю, что студентов, которых я учил, в этом убеждал естественный свет их разума, а не страх. Вот почему представляется ценным переформулировать этот аргумент несколько иначе – проще и менее строго – и снова спросить, где в нем ошибка.
Некоторые могут сказать, что в нем нет ошибки, но он не очень интересен и не то чтобы централен для дебатов о свободе воли. Я сомневаюсь, что хоть один нефилософ или новичок в философии согласился бы с этим. Если кто-то хочет думать о свободе воли и о моральной ответственности, то рассмотрение некоторой версии Базового аргумента является самой естественной отправной точкой для этого. Его определенно нужно рассмотреть хотя бы на каком-то из этапов полноценной дискуссии о свободе воли и моральной ответственности, даже если то, что в нем доказывается, очевидно. Убеждение о существовании определенного вида абсолютной моральной ответственности, невозможность которой он показывает, долгое время было центральным для западной религиозной, моральной и культурной традиции, даже если теперь оно несколько ослабевает (это спорное мнение). Исторический факт состоит в том, что беспокойство о моральной ответственности было главным двигателем – и даже ratio essendi – дискуссии о свободе воли. Единственный способ, которым кто-то может надеяться показать, что (1) Базовый аргумент не является центральным для дискуссии о свободе воли, состоит в том, чтобы (2) показать, что вопрос о моральной ответственности не является центральным для спора о свободе воли. Есть, конечно, способы говорить о «свободе» в том смысле, который нужен для истинности тезиса (2). Но тезис (2) тем не менее очевидно ложен5.
Говоря, что понятие моральной ответственности, которое критикуется в Базовом аргументе, является центральным для западной традиции, я не предполагаю, что оно является искусственным и локальным иудео-христианско-кантианским конструктом, который более нигде не встречался в истории народов мира (хотя даже если это было бы так, это вряд ли уменьшило бы его интересность и значимость для нас). Естественным кажется предположение, что Аристотель разделял подобное понимание моральной ответственности6, и знаменательно, что антропологи предполагают, что большинство человеческих обществ можно классифицировать либо как «культуры вины», либо как «культуры стыда». Верно, что ни одна из этих двух фундаментальных моральных эмоций не предполагает с необходимостью представления о том, что испытывающий ее является истинно морально ответственным за то, что он сделал. Но факт того, что обе они широко распространены, по крайней мере позволяет считать, что концепция моральной ответственности, похожая на нашу собственную, является естественной частью репертуара человеческих моральных понятий.
На самом деле понятие моральной ответственности более тесно связано с понятием вины, чем с понятием стыда. Во многих культурах человек может испытать стыд из-за того, что сделал его член семьи – или правительство, – а не из-за того, что сделал он сам; и в таких случаях чувство стыда не обязательно включает в себя какое-то туманное, иррациональное чувство, что человек каким-то образом ответственен за поведение своей семьи или правительства (хотя может и включать). Ситуация с виной менее ясна. Нет сомнений, что люди могут чувствовать себя виноватыми (или считать, что они чувствуют себя виноватыми) в том, за что они не ответственны и уж тем более не несут моральной ответственности. Но гораздо менее очевидно, что они могут чувствовать себя подобным образом без какого-либо ощущения или убежденности, что они на самом деле за это ответственны.
3
Подобные трудности типичны для моральной психологии, и они показывают, что важно стараться быть точным в отношении того, какого именно рода ответственность мы обсуждаем. О какого рода «истинной» моральной ответственности, собственно, мы говорим, что она невозможна, хотя вера в нее широко распространена?
Для прояснения этого вопроса будет очень кстати один старый миф. Это миф о рае и аде. В моем понимании истинная моральная ответственность – это такая ответственность, что если мы можем ее нести, то можно по крайней мере осмысленно предполагать, что могло бы быть справедливым наказывать некоторых из нас (вечными) пытками в аду и вознаграждать других (вечным) блаженством в раю. Я выделяю слово «осмысленно», так как важно указать на то, что вовсе не обязательно верить в какую-то версию мифа о рае и аде, чтобы понимать значение истинной моральной ответственности, для иллюстрации которого этот миф используется. Также вовсе не нужно верить в какую-либо версию мифа о рае и аде, чтобы верить в существование истинной моральной ответственности. Напротив, многие атеисты верили в существование истинной моральной ответственности. Миф о рае и аде используется просто потому, что он особенно ярко иллюстрирует вид абсолютной, или предельной, вменимости (accountability) или ответственности, которую, как многим казалось раньше и многим кажется еще и теперь, они могут нести. С его помощью мы можем очень ясно выразить область применения и силу этого понятия.
Но чтобы описать те виды повседневных ситуаций, которые, пожалуй, в первую очередь влияют на возникновение нашего убеждения в существовании моральной ответственности, вовсе нет необходимости ссылаться на религиозную веру. Предположим, что вечером в день национального праздника вы пошли в магазин с намерением купить торт на свои последние десять фунтов. На ступеньках магазина кто-то собирает пожертвования для нуждающихся. Вы останавливаетесь, и вам кажется совершенно ясным, что только от вас зависит, что вы будете делать дальше. То есть вам кажется, что вы истинно, радикально свободны выбирать, причем таким образом, что вы будете предельно морально ответственны за то, что вы выберете. Даже если вы верите, что детерминизм истинен и что через пять минут вы сможете, оглянувшись на свой поступок, сказать, что он был детерминирован, это, кажется, не подорвет ваше ощущение абсолютности и неизбежности вашей свободы и вашей моральной ответственности за свой выбор. Кажется, что оно не будет подорвано, и если вы принимаете корректность Базового аргумента, сформулированного в § 1, доказывающего, что никто не может быть предельно ответственным за то, каков он, и что он решает делать. В обоих случаях, несмотря ни на что, в момент выбора (as one stands there) свобода и истинная моральная ответственность будут казаться очевидными и абсолютными.
Подобные ситуации выбора – будь то важного или незначительного, морально значимого или морально нейтрального – регулярно случаются в человеческой жизни. Я думаю, что они-то и находятся в сердце нашего опыта свободы и моральной ответственности. Они являются фундаментальным источником нашей неспособности отказаться от нашего убеждения в истинной и предельной моральной ответственности. Можно отдельно задаваться вопросами о том, почему человеческие существа переживают эти ситуации выбора именно так. Интересен также вопрос, должен ли когнитивно развитый, рациональный, рефлексивный (self-conscious) агент переживать ситуации выбора подобным образом7. Но как бы то ни было, они являются тем эмпирическим основанием, на котором покоится вера в истинную моральную ответственность.
4
Ниже я переформулирую Базовый аргумент. Но перед этим я приведу несколько примеров людей, которые принимали, что некоторый вид истинной, или предельной, ответственности за то, каков человек, является необходимым условием истинной, или предельной, ответственности за то, как этот человек поступает, и которые, полагая, что предельно морально ответственны за то, как они поступают, считали это условие выполненным8.
Эдуард Карр считал, что «нормальный взрослый человек морально ответственен за свои личностные черты»9. Жан-Поль Сартр считал, что «человек ответственен за то, каков он есть», и «он творит себя, выбирая свою мораль»10. В более позднем интервью он говорил, что его ранние утверждения о свободе были неосторожны; но он все еще утверждал, что «в конечном счете человек всегда ответственен за то, что из себя сделал»11. Иммануил Кант описывает эту позицию очень ясно, когда он говорит, что
… если человек в моральном смысле бывает или должен быть добрым или злым, то он сам себя должен делать или сделать таким. И то и другое должно быть результатом его свободного произволения; иначе это не могло бы быть вменено ему в вину, следовательно, он не мог бы быть ни морально добрым, ни морально злым12.
Поскольку Кант придерживался убеждения о существовании радикальной моральной ответственности, он считал, что такое самосотворение на самом деле имеет место, и писал, что «человек как разумное существо сам себе создает» свой характер13, и про «познание себя как личности, которая составляет саму себя как принцип и является порождением самой себя»14. Джон Паттен, бывший министр образования Великобритании и католик, которого, очевидно, волновала идея греха, утверждал, что «самоочевидно, что по мере взросления каждый человек выбирает, быть ему хорошим или плохим»15. Кажется вполне ясным, что он считал такой выбор достаточным для того, чтобы обеспечить нам истинную моральную ответственность в том виде, в котором она нужна для рая и ада. Роберт Кейн, который недавно ярко защищал эту точку зрения, пишет следующее:
… если… выбор обусловлен (issues from) и может быть в достаточной степени объяснен характером и мотивами агента (взятыми в совокупности с фоновыми условиями), то для того, чтобы быть предельно ответственным за свой выбор, агент должен быть хотя бы частично ответственным в силу выборов или поступков, добровольно совершенных в прошлом, за то, что у него или у нее сейчас такой характер и мотивы16.
С этим согласна и Кристина Корсгаард:
… суждения об ответственности не имеют никакого смысла, если люди не создают сами себя17.
Большинство из нас обычно не дает себе труда так глубоко задуматься над подобными вопросами. Но кажется, что мы склонны неким смутным и нерефлексивным образом считать себя ответственными за то, каковы мы есть. Это довольно щекотливое соображение, поскольку обычно мы не предполагаем, что прошли через какой-то активный процесс самодетерминации в какой-то конкретный момент прошлого. Тем не менее кажется, что утверждение о том, что мы нерефлексивно переживаем самих себя во многих отношениях так, как если бы действительно считали, что мы осуществляем некую подобную деятельность по самодетерминированию, будет вполне точным.
Порой часть вашего характера – некоторое желание или склонность – может удивить вас, показаться чужой или посторонней. Но это может случиться только на фоне черт характера, которые не переживаются нами как чужие, но с которыми мы, напротив, «идентифицируемся» (с необходимостью истинно, что только относительно такого фона черта характера может выделяться как чужая). Некоторых людей мучают импульсы, которые они переживают как чуждые, но у большинства преобладает чувство общей идентификации со своим характером, и эта идентификация, кажется, несет в себе неявное ощущение, что человек в целом некоторым образом контролирует и то, каков он есть, и несет за это ответственность (включая, возможно, даже те аспекты своего характера, которые ему не нравятся). Итак, я предполагаю, что здесь мы находим полудремлющим в повседневной мысли неявное признание идеи о том, что истинная, или предельная, моральная ответственность за то, что человек делает, некоторым образом связана с ответственностью за то, каков он есть. Обыденная мысль готова двигаться в этом направлении, если ей дать толчок.
Существует также много аспектов нашего обыденного чувства себя как морально ответственных свободных агентов, которым никоим образом, кажется, не угрожает тот факт, что мы не можем быть истинно морально ответственными за то, каковы мы есть. Мы готовы принимать, что мы являемся продуктами нашей наследственности и окружающей среды без того, чтобы чувствовать, что это как-то угрожает нашей свободе и моральной ответственности в момент поступка. Очень естественно чувствовать, что в той мере, в какой человек полностью осознает себя как способного выбирать в ситуации выбора, полностью осознает себя как агента, стоящего лицом к лицу перед выбором, этого уже вполне достаточно для его радикальной свободы выбора, как бы ни обстояло дело в остальном.
К этому я еще вернусь. Пока же заметим, что наша обыденная концепция моральной ответственности может содержать несовместимые друг с другом элементы. Если это так, то это очень важный факт; это бы многое объяснило в том, как протекают философские споры о свободе воли18. Но эти другие элементы в нашем обыденном понятии моральной ответственности, какими бы важными они ни были, не являются предметом моего рассмотрения в этой статье.
5
Теперь позвольте мне переформулировать Базовый аргумент в менее строгих – так сказать, разговорных – терминах. Новые слова могут дать повод новым возражениям, но они могут быть тем не менее полезны.
(1) Вы делаете то, что вы делаете, в той ситуации, в какой вы находитесь, в силу того, что вы таковы, каковы вы есть.
Так что,
(2) чтобы быть истинно морально ответственным за то, что вы делаете, вы должны быть истинно морально ответственны за то, каковы вы есть – по крайней мере в определенных важных ментальных аспектах.
Или:
(1) то, что вы, учитывая обстоятельства, в которых вы (как вы считаете) находитесь, намеренно делаете, с необходимостью вытекает из того, каковы вы есть.
Следовательно,
(2) вы должны быть в каком-то смысле ответственны за то, каковы вы есть, чтобы быть в каком-то смысле ответственным за то, что вы, учитывая обстоятельства, в которых вы находитесь (как вы считаете), намеренно делаете.
Комментарий: еще раз отмечу, что уточнение об «определенных ментальных аспектах» я буду ниже опускать как подразумеваемое. Очевидно, что никто не отвечает за свой пол, за общее строение своего тела, свой рост и т. п. Но если кто-то не ответственен ни за какую свою черту, как может он быть ответственным за то, что он сделал, при условии истинности тезиса (1)? Это наиболее фундаментальный вопрос, и кажется ясным, что если некто вообще может быть ответственным за какой-либо аспект себя, то, скорее всего, таким аспектом будет какой-то аспект его ментальной природы.
Я считаю (1) бесспорным и полагаю, что тот, кто не согласен с выводом Базового аргумента, должен будет оспаривать (2). Ибо если он признает (1) и (2), то он сдал свою позицию, поскольку полный аргумент выглядит следующим образом.
(1) Вы делаете то, что вы делаете, так как вы таковы, каковы вы есть.
Так что,
(2) чтобы быть истинно морально ответственным за то, что вы делаете, вы должны быть истинно морально ответственны за то, каковы вы есть – по крайней мере в определенных важных ментальных аспектах.
Но
(3) вы не можете быть истинно морально ответственны за то, каковы вы есть, так что вы не можете быть истинно морально ответственны за то, что вы делаете.
Почему вы не можете быть истинно морально ответственны за то, каковы вы? Потому что,
(4) чтобы быть истинно ответственным за то, каковы вы есть, вы должны были намеренно привести себя к тому, чтобы стать таким, каковы вы есть, а это невозможно.
Почему это невозможно? Предположим, что верно обратное. Допустим, что
(5) вы каким-то образом намеренно привели себя к тому, чтобы стать таким, каковы вы есть сейчас, и что вы привели себя к этому таким образом, что вы можете сейчас быть истинно морально ответственны за то, каковы вы сейчас есть.
Чтобы это было верно,
(6) вы должны были предварительно уже располагать определенной природой N, в свете которой вы намеренно привели себя к тому, чтобы быть таким, каковы вы есть сейчас.
Но тогда,
(7) чтобы было верно, что вы и только вы истинно ответственны за то, каковы вы сейчас, вы должны быть истинно морально ответственны за то, что вы располагали природой N, в свете которой вы намеренно привели себя к тому, чтобы быть таким, каковы вы есть сейчас.
Так что,
вы должны были намеренно привести себя к тому, чтобы обладать природой N, а в этом случае вы должны уже были до того существовать с некоторой предварительной природой, в свете которой вы намеренно привели себя к обладанию природой N, в свете которой вы намеренно привели себя к тому, чтобы быть таким, каковы вы есть сейчас.
Здесь начинается регресс. Ничто не может быть causa sui в нужном смысле. Даже если такая каузальная самодостаточность (aseity) может быть каким-то таинственным образом приписана Богу, неправдоподобно считать, что нечто подобное присуще обычным человеческим существам. «Causa sui – это самое вопиющее из всех доселе выдуманных самопротиворечий…» – как заметил Фридрих Ницше в 1886 году:
… своего рода логическое насилие и противоестественность; но непомерная гордость человека довела его до того, что он страшнейшим образом запутался как раз в этой нелепости. Требование «свободы воли» в том метафизическом, раздутом смысле, который, к сожалению, все еще царит в головах недоучек, побуждение самому нести всю без изъятия ответственность за свои поступки, сняв ее с Бога, с мира, с предков, со случая, с общества, – есть не что иное, как притязание быть той самой causa sui и с более чем мюнхгаузеновской смелостью вытащить самого себя за волосы в бытие из болота Ничто19.
Этот по-новому сформулированный аргумент по своей сути совпадает с предыдущим, хотя первые два шага теперь представлены проще. Стоит ли повторять, что перед нами снова все те же самые вопросы? Можно ли просто отмахнуться от Базового аргумента? Действительно ли он не имеет никакого значения в обсуждении свободы воли и моральной ответственности? (Нет и нет.) Не должна ли любая серьезная защита свободы воли и моральной ответственности вполне признать, в каком отношении Базовый аргумент корректен, прежде чем переходить к попытке предложить собственный положительный подход к природе свободы воли и моральной ответственности? Не проникает ли этот аргумент в самую суть вещей, если сутью дебатов о свободе воли является вопрос о том, можем ли мы быть истинно, или предельно, морально ответственными абсолютным образом, как мы обычно предполагаем? (Да и да.)
Мы такие, какие мы есть, и мы не могли сотворить самих себя таким образом, чтобы нас можно было считать свободными в наших действиях таким образом, чтобы мы могли нести моральную ответственность за наши поступки таким образом, чтобы какое бы то ни было наказание или вознаграждение за наши действия в конечном счете были справедливы или честны. Наказания и вознаграждения могут казаться нам глубоко уместными или по своей природе подходящими нам, несмотря на этот аргумент, и многие из различных институтов наказания и вознаграждения в человеческом обществе кажутся практически незаменимыми как в их юридических, так и в неюридических формах. Но если мы серьезно относимся к понятию справедливости, которое занимает центральное место в нашей интеллектуальной и культурной традиции, то очевидное следствие Базового аргумента состоит в том, что в некотором фундаментальном смысле наказание и вознаграждение никогда не являются предельно справедливыми. Наказывать или награждать людей за их поступки справедливо не более и не менее, чем наказывать или награждать людей за их (естественный) цвет волос или (естественную) форму их лиц. Этот тезис кажется очевидным, но при этом он противоречит одной из фундаментальных частей нашего естественного представления о себе, и в человеческом мышлении есть элементы, которые глубоко ему противятся. Когда мы думаем об ответственности, мы склонны чувствовать, что каким-то образом несем ответственность за то, каковы мы есть. И, что, наверное, еще важнее, мы склонны чувствовать, что нашей эксплицитной рефлексивной (self-conscious) осведомленности о самих себе как агентах, которые способны рассуждать о том, что делать в ситуации выбора, достаточно для того, чтобы рассматривать нас как морально ответственных свободных агентов в сильном смысле слова, что бы там ни говорил Базовый аргумент.
Под публикуемым в настоящем номере названием текст опубликован как глава 13 книги: Idem. Real Materialism and Other Essays. Oxford, UK: Oxford University Press, 2008. P. 319–331. В венгерскую версию статьи были внесены некоторые авторские изменения: Idem. „A hiányzо́ alap érve.” Ford. Bárány Tibor // Vétkek és választások. A felelősség elméletei / A. Réz (szerk.). Budapest: Gondolat Kiadо́, 2013. O. 116–136. Русский перевод следует исправлениям, внесенным в венгерскую версию, и некоторым новым добавлениям автора.
В этом разделе для удобства чтения ссылки на источники даны от цитируемых фрагментов, а не в одном примечании, как в оригинальном тексте – Прим. пер.
Приведенные выше цитаты вызывают много вопросов, которые я не буду рассматривать. Часто бывает, например, трудно понять, что именно имеет в виду Сартр. Но упоминание процитированных фраз важно для любой правдоподобной интерпретации его взглядов. Что до Канта, то может показаться странным, что он говорит то, что говорит, поскольку он фундирует возможность нашей свободы в обладании непознаваемой, невременной ноуменальной природой. Правдоподобно, однако, предположить, что он считает, что если существует истинная моральная ответственность, то радикальное, или предельное, самодетерминирование должно иметь место именно в ноуменальной сфере каким-то непостижимо невременным образом.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе