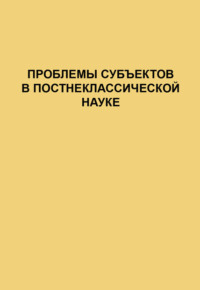Читать книгу: «Проблемы субъектов в постнеклассической науке», страница 3
1.3.2. Представление о рефлексии в работах В.А.Лефевра и Г.П.Щедровицкого
«Объективность исследования как основная установка науки достигается каждый раз только благодаря соответствующему уровню рефлексии, а не вопреки ему».
В.С.Степин41
Рефлексия и ММК
История представлений ММК о рефлексии связана с яркими личностными и содержательными конфликтами. Это история формирования оригинальных трактовок рефлексии, порой вступающих между собою в непримиримый конфликт, а порой снова сходящихся в общих концепциях учеников и последователей ММК. Не будет преувеличением сказать, что именно благодаря работам ММК идея рефлексии вошла в отечественную науку намного раньше, чем на Западе, а ее разработка была существенно лучше оснащена методологически и методически. Сегодня именно эти разработки в значительной степени определяют стратегические направления развития современной психологии: как возможности ее интеграции с другими областями знаний, так и ее практические приложения.
По рассказам очевидцев, в 1960-е годы в Московском методологическом (тогда – логическом) кружке произошел бунт: молодой математик Владимир Лефевр стал требовать введения в состав базовых понятий ММК блокановых понятий. Предлагались понятия: рефлексия, рефлексивная система, рефлексивный процесс, субъект рефлексии, сознание и др.
Данное предложение следует рассматривать в двух аспектах. Во-первых, это призыв к расширению представлений о формально-логическом подходе, включению в него специфических рефлексивно-структурных детерминант и специфических механизмов, определяющих динамику рефлексивных структур. Фактически указанный аспект позволял развить представления о мышлении как объективном процессе и последовательно продолжать на новом витке линию ММК на рассмотрение мышления как деятельности (формально-деятельностное представление).
Во-вторых, это попытка включить в контекст рассмотрения носителей рефлексии (индивиды, группы, организации, государства и др.) – идея крайне революционная, поскольку она нарушала важнейшие исходные посылки Щедровицкого о бессубъектности методологического подхода.
Реакция Щедровицкого на предложения Лефевра была крайне негативной, прежде всего из-за принципиальной неприемлемости второго аспекта его предложения. Сгоряча был проигнорирован и первый аспект.
В 1970-е годы Щедровицкий вынужден был признать необходимость рефлексии в деятельностном подходе и тем самым пересмотреть свою теорию деятельности. Фактически была признана конструктивность первого аспекта предложения Лефевра, а в глоссарий ММК включено как ключевое понятие «рефлексия».42
Созданные Щедровицким и кружком в конце 70-х годов организационно-деятельностные игры (ОДИ) в основе своей строились как рефлексивные. «Рефлексивный выход» из деятельностной позиции стал ключевым моментом ОДИ, а технологии его обеспечения являются новаторскими и крайне актуальными для многих областей практики (проектировочная деятельность, управленческое консультирование, психотерапия, педагогика и др.). Рефлексия стала знаменем системо-мыследеятельностного подхода и игротехнического движения. Новые генерации методологов и игротехников уже не различали взгляды на рефлексию Лефевра и Щедровицкого, считая их классикой.43
По образному выражению Г.Л.Смоляна44, «В.А.Лефевр и Г.П.Щедровицкий оказались настоящими оригиналами, в смысле Ницше, поскольку назвали вещи, до них не названные: рефлексивные процессы, рефлексивные структуры, рефлексивные системы. Ради объективности стоит заметить, что Щедровицкий сделал это после Лефевра, когда искал выход из тупиков, разрабатываемой им содержательной логики».
Рефлексия в понимании Щедровицкого
«Рефлексия – один из самых интересных, сложный и в какой-то степени даже мистический процесс в деятельности; одновременно рефлексия является важнейшим моментом в механизмах развития деятельности».
Г.П.Щедровицкий45
Щедровицкий рассматривал рефлексию в контексте процедур преобразований различных видов деятельности. Рефлексия понималась им как сугубо деятельностная позиция, без учета специфики субъекта деятельности.
«…рефлексия интересует нас, прежде всего, с точки зрения метода развертывания схем деятельности, т. е. формальных правил, управляющих конструированием, или, при другой интерпретации, изображением механизмов закономерностей естественного развития деятельности. Однако в этом плане она оказывается слишком сложной. Представления, накопленные в предшествующем развитии философии, связывают рефлексию, во-первых, с процессами производства новых смыслов, во-вторых, с процессами объективации смыслов в виде знаний, предметов и объектов деятельности, в-третьих, со специфическим функционированием а) знаний, б) предметов и в) объектов в практической деятельности. И, наверное, это еще не все. Но даже этого уже слишком много, чтобы пытаться непосредственно представить все в виде механизма или формального правила конструирования и развертывания схем. Поэтому мы должны попытаться каким-то образом свести все эти моменты к более простым отношениям и механизмам, чтобы затем вывести их из последних и таким образом организовать все в единую систему.
Таким более простым конструктивным принципом служат связи кооперации. Уже из них или на их основе мы выводим потом специфические характеристики функционирования сознания, смыслов, знаний, предметов и объектов. Значит, должна быть создана схема такой кооперативной связи, которая могла бы рассматриваться как специфическая для рефлексии. В этой роли у нас выступает схема так называемого «рефлексивного выхода» [с.49]46.
Осознанное упрощение Щедровицким представлений о рефлексии, в частности, абстрагирование от роли субъектов, позволило сконцентрировать внимание на обобщенных технологиях продуцирования знаний в широком классе социальных систем. Рефлексия, в понимании Щедровицкого – это, прежде всего, процедура, лежащая в основе технологий порождения и интеграции знаний в социальных системах и развития различных видов деятельности, в контексте его деятельностного подхода, это рефлексия деятельностных позиций, функциональных мест.
Как заметил В.М.Розин, у Щедровицкого:
«…тип рефлексивной работы представляет особый тип дедукции. Есть классические работы Г.П.Щедровицкого, где он разворачивает схемы деятельности за счет рефлексии. Задается клеточка деятельности, затем механизмы рефлексии и организации деятельности, что позволяет вводить разные позиции (практика, методиста-ученого, методиста-педагога), виды знания, структуры коммуникации. По сути, это тип дедуктивного теоретического мышления… но осознавался он как рефлексия» [с.20]47.
Рефлексия в понимании Щедровицкого имеет антипсихологический характер, вместе с тем она «порождает» структуры и механизмы взаимодействия субъектов различных типов, на которые психологические знания могут проецироваться, что позволяет осмысленно включать их в широкие системные контексты, в том числе и практические. Она продуцирует онтологические схемы для различных областей знаний, в том числе и для психологии; это – социальная рефлексия, отвлеченная от специфики конкретных субъектов. И ее актуальность особенно возрастает в контексте современных представлений об управлении и развитии социальных систем.
В последнее время появилась трактовка рефлексии в понимании Щедровицкого как рефлексии мышления.48 Она, безусловно, имеет определенные основания в контексте работ ММК, где было постулировано «.признание мира мышления как особой субстанции, существующей в социокультурном пространстве, то есть в пространстве между людьми, а не в голове отдельного человека» [с.347]49. Щедровицкий утверждал, что мир мышления должен быть положен как новая реальность, противопоставленная реальности материи [c.10]50. «.Г.П. проделал огромную работу по конструированию онтологических картин мира мышления, существующего не как психический процесс, а объективно, как субстанция особого рода» [с.350]51.
Рефлексия в понимании В.А.Лефевра
«Любопытно, что Фалес, родоначальник философии физики, и Сократ, диалоги которого дошли до нас благодаря Платону, говорили на языке рефлексии. Всем известны их афоризмы: «Познай самого себя» (Фалес) и «Я только знаю, что ничего не знаю» (Сократ). Кстати, последний является прекрасной иллюстрацией к одной из теорем Лефевра, выведенных из его булевых алгоритмов: «Совершенный индивид не может считать себя совершенным».
Л.Б.Рапопорт [с.47]52
В самом общем виде рефлексия в понимании Лефевра – способность некоторых систем строить модели себя и одновременно видеть себя строящими такие модели. На этом пути удается провести конструктивные различия между знанием о себе и осознанием себя как носителя такого знания.
В многовековой философской традиции рефлексия понималась как способность анализировать собственные мысли. Лефевр существенно расширил это понимание рефлексии. Еще в 60-е годы прошлого столетия он ввел понятия рефлексивной системы и рефлексивного управления, существенно изменившие парадигму исследования сложных социально-культурных объектов. Лефевр показал, что теория, описывающая такие объекты, являясь их внутренней компонентой, способна разрушить собственную истинность. Поэтому изучение рефлексивных систем требует пересмотра традиционных отношений между исследователем и объектом исследования.
Рефлексивные процессы включены во все механизмы регуляции функционирования рефлексивных систем. Рефлексией могут обладать любые типы субъектов: индивид, группа, организация, государство, человечество и т. п. При таком понимании рефлексии ею потенциально могут обладать системы любого происхождения, в том числе и системы искусственного интеллекта.
Ориентация Лефевра на исследование механизмов рефлексии независимо от морфологии ее носителей предопределяет изначально ярко выраженный междисциплинарный характер его подхода. Продуктивное использование конструктивных исходных установок позволило автору внести серьезный вклад в математическую психологию, а также обеспечить интересные научные прорывы, связанные с новыми типами морфологий носителей рефлексии, в частности, высоко оцененные оригинальные постановки проблем в области космологии.
Созвучные представления о сознании мы встречаем в идее И.Канта о наличии устойчивых, инвариантных структур, схем сознания, накладывающихся на непрерывно меняющийся поток сенсорной, поступающей от органов чувств информации и организующих его определенным образом. Согласно И. Канту и В. Лефевру, сознание всегда эгоцентрично: оно выталкивает человека в центр мироздания и заставляет взять на себя (в пределе нравственного императива) всю полноту ответственности за этот мир.
Принципиальные различия в понимании рефлексии у Щедровицкого и Лефевра сегодня могут быть проинтерпретированы и в контексте введенных В.С.Степиным этапов развития науки: классическая, неклассическая, постнеклассическая.53
Г.П.Щедровицкий был созвучен в большей степени с идеалами и нормами неклассической науки. Рефлексия в понимании Щедровицкого связана, прежде всего, с осмыслением соотнесенности характеристик объекта с особенностями средств и операций деятельности, с преобразованием деятельности.54
В.А.Лефевр последовательно развивает представления о рефлексии, соответствующие идеалам постнеклассической науки. В центре его внимания оказывается рефлексия конкретных субъектов (индивидов, групп, организаций, государств и т. д.), в том числе осмысление ценностно-целевых ориентаций субъектов в их соотнесении с социальными целями и ценностями.
Очевидно, что три типа научной рациональности (классическая, неклассическая и постнеклассическая) взаимодействуют и, более того, органично связаны. Появление нового типа не отменяет предыдущего, а лишь ограничивает его, очерчивает сферу его действия.
1.3.3. Заключение
Георгий Петрович Щедровицкий и Владимир Александрович Лефевр – крупнейшие отечественные мыслители. Разработка проблем рефлексии, деятельностного и рефлексивно-субъектного подходов определила методологическую основу для актуальных направлений современной психологии.
«Ортогональные» идеи Г.П.Щедровицкого и В.А.Лефевра порой разводили их в разные стороны, но талант и интуиция всегда задавали стратегичность выбранных направлений, что приводило к интеграции разработок на новых уровнях развития науки. Их имена тесно связаны со становлением неклассического и постнеклассического этапов развития науки, именно в ее рамках снова встречаются и взаимно обогащаются их идеи.
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ММК в лице Лефевра и Щедровицкого инициировал рефлексивное движение в России, которое имеет громадное значение как для науки, так и для практики.55 Нельзя считать случайностью, что первые шаги в этом направлении были сделаны в России, где влияние бихевиоризма было неизмеримо слабее, чем в Америке.
Работы Лефевра оказали существенное влияние и на зарубежную мысль. Не случайно такие выдающиеся философы как Карл Поппер и Анатоль Рапопорт сочли необходимым принять участие в широкой дискуссии вокруг работ Лефевра, развернувшейся на Западе. В частности, Карл Поппер сказал Лефевру: «Я бы на вашем месте начал книгу словами: Я думаю, что я сделал крупное психологическое открытие, состоящее из нескольких ступеней. Говоря упрощенно, оно принадлежит психологии морали, понимаемой в новом смысле» [с.142]56.
1.4. К философии естествознания как метафорической антропологии
В постнеклассической науке в центре внимания оказываются функции обеспечения взаимодействия субъектов научного познания:
• коммуникативная – обеспечение эффективной коммуникации субъектов
• репрезентативная – обеспечение рефлексии субъектов;
• онтологическая – связь субъекта познания с реальностями бытия;
• интегративная – интеграция пространства знания.
Реализация этих функций требует построения выходов субъекта знания из дисциплинарных в трансдисциплинарные пространства и оснащения его трансдисциплинарной позиции соответствующим трансдисциплинарным инструментарием.
Мы привыкли, что такую позицию науке дают философия и методология, которые берут на себя обеспечение указанных функций. Однако наиболее общим таким пространством является культура. Формальная логика научного знания и его точные определения создают образ кажущейся замкнутости и отделенности науки от широкой культуры.
Если такая замкнутость системы научных истин и заложена в конструкцию науки, то для конкретного человека это совсем не так. Даже очень рафинированное и формализованное знание остается представленным словами, где почти каждое принадлежит культуре и является культурным посредником – медиатором, выводящим субъекта научного знания из замкнутой конструкции науки. Возвращаясь после такого выхода в пространство точного научного знания, субъект не оставляет это знание неизменным, а структурирует и реструктурирует его на основе открывшихся ему способов видения исследуемого предмета.
Культурные медиаторы, включенные в научное знание, создают поток креативности – порождения новых формальных схем, конструкций, определений. Эти же медиаторы позволяют разным субъектам научного познания, находящимся в разных научных дискурсах, найти общие точки для построения коммуникации через метафоры.
Сегодня уже существует практика конструирования культурных микросред, через которые возможна коммуникация разных научных дискурсов. И если для классической модели науки такие практики лежали вне научного знания и относились к индивидуальному коммуникативному мастерству ученого, то постнеклассическая наука переводит конструирование культурных микросред в поле науки.
Сложность такого конструирования заключается в том, что осуществлявшие его ученые всегда сами были вхожи в мир живописи, музыки, поэзии, театра – реального художественного творчества. Они чувствовали звук, слово, цвет и форму, ощущали жизнь и красоту. Для постнеклассики возникает ситуация, когда эта способность должна сознательно включаться в сложную коммуникативную научную ткань, обеспечивающую сшивку множества результатов человеческого познания. То есть наука для обеспечения реальной эффективности создаваемого ею пространства знаний должна вобрать в себя и развить как метод ранее отделенные от нее опыты конструирования коммутирующих целостное знание культурных медиаторов.
Высказанные здесь соображения подсказаны автору В.Е.Лепским и В.А.Буровым57 и удачно совпали с тем, что последует далее. А далее последует вот что: культура как среда, в которой творилась вся моя исследовательская жизнь и что из этого получилось.
1. Тема, поставленная так, как она поставлена, вынуждает представить философию естествознания неотъемлемой частью философии науки как целого, а философские вопросы естествознания как частные специализации философии естествознания. Обозначенный контекст возможен лишь в том случае, если представить культуру в модусе гуманитарного знания, взаимодействующего со знанием естественнонаучным. И тогда философское осмысление этого комплекса могло бы подвигнуть мысль к постижению оснований естественных наук как феноменов культуры в их историческом первородстве, творческих замыслах и прогностических возможностях.
2. В конкретных философско-исторических реконструкциях раритетные образцы предстают живыми образами культуры, актуальными и после их исторической исчерпанности. В качестве таковых взяты связанные между собой сюжеты, сущностно значимые в интеллектуальной летописи европейской культуры. Это: западная алхимия, учительско-ученическая культура раннего средневековья, корпус так называемых оккультных наук, ars moriendi в истории культуры, русский авангард. Изучение этих сюжетов – существенная часть моей многолетней работы как автора.
3. Историческая реконструкция западной алхимии как феномена средневековой культуры – этой синкретической полифункциональной деятельности – в ее одновременном оперировании с веществом и размышлении по поводу его природы «предвосхищает» образ и судьбу научной химии, осуществляющей средостение, казалось бы, всемогущей физики и, казалось бы, всеобещающей биологии в образе «жизненной смерти» (vita mortua), «моделирующей» образ новой науки, теоретического мышления и науки Нового времени.
4. Паракультурная, в сущности, алхимия как исторически определенный вид деятельности выявляет суть магистрального средневековья и, взаимодействуя с ним, сулит возрожденческое обновление. Но вместе с тем свидетельствует, загадывая наперед, возможные исторические формы взаимодействия науки и ее паранаучных антиподов. Отстаивание гносеологически безупречного статуса собственно науки от паранаучных посягательств в настоящее время особенно актуально. Исторический опыт, опыт всей европейской культуры в этом отношении сущностно необходим.
5. Историческая реконструкция книгочейской – учительско-ученической – учености раннего средневековья актуально и для реформирования нынешнего образования (не только гуманитарного, но естественнонаучного и технического). Преподавание знания как истории знания – надежный путь гуманитаризации образования. Опыт истории в модусе образования может быть представлен образованием-обучением и образованием-воспитанием, то есть образованием самого себя не только как знающего, но и как культурного человека.
6. Изучение проблемы жизни и смерти не только как проблемы гуманитарной, но и как естественнонаучной в исторической развертке позволяет по-иному представить знание о естестве и культуру – историей встреч способов обдумывания предельного вопроса бытия: как свою конечную, ограниченную датой рождения и датой смерти, жизнь приобщить к вечности. Но смерть предстает метафорой, понятой как «дизайнер культуры», как формообразующий принцип культур в их единстве и единственности.
7. Реконструкции явлений русского авангарда воспроизводят еще один образ культуры – как творчества в его нескончаемых начинаниях. В этой связи уместен контекст пространственно-временных соотнесений «другого» искусства и «другой» науки (физики) с ее принципиально иным пониманием времени и пространства.
8. Так представленные здесь исторические реконструкции, осуществленные на границе образа и понятия, складываются в новое и продуктивное направление современной философии естествознания в его ориентации на «метафорическую антропологию» по пути от массовой культуры к культурам индивидуальных миров с иными образами науки, воспринимаемыми в противовес мертвенным образцам живыми образами культуры.
9. Многолетний опыт автора запечатлен в проекте «Человек в культуре (Образы и образцы)», обобщающем основные идеи, изложенные в данных пролегоменах.
2002. N2. Том 2. С. 23–47. www.reflexion.ru
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе