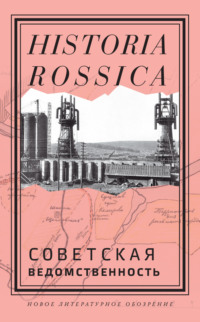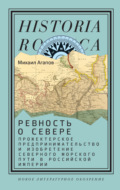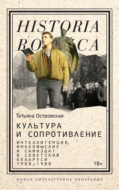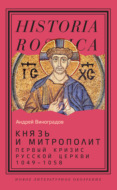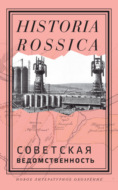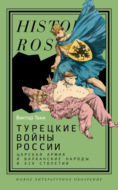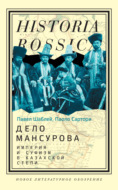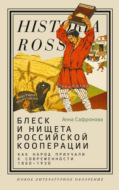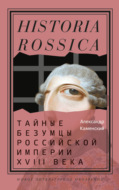Читать книгу: «Советская ведомственность», страница 7
Игорь Стась
Глава 2. Ведомственность в советской истории
Гувернаментальность, государственные интересы и публичный дискурс 222
История ведомственности – это история рационализации. На первый взгляд это кажется весьма спорным утверждением. Что рационального может быть в борьбе интересов между различными предприятиями, министерствами или учреждениями? Такие конфликты скорее отсылают к архаичным формам редистрибуции, в которых происходили отклонения в нормированных взаимодействиях экономических агентов. Можно предположить, что ведомственность в Советском Союзе была еще одним феноменом упорядочивания и минимизации издержек и рисков планового распределения экономических ресурсов. Соответственно, с точки зрения сути вещей она являлась следствием социалистической версии рыночных отношений. Если использовать подобное экономико-антропологическое описание, история ведомственности предстанет необъятным нарративом о непрерывной войне экономических субъектов и поиске рыночных механизмов в советских реалиях. Даже если это именно так, то непременно возникает вопрос о восприятии ведомственности самими современниками, которые регулярно использовали этот термин, но, очевидно, не интерпретировали его указанным выше способом. Как мне кажется, без понимания того, как именно советские граждане, функционеры и политики артикулировали феномен ведомственности в социалистической системе, вряд ли возможен ответ на вопрос: что такое ведомственность в СССР?
Основная гипотеза этой главы строится на исходном соображении, что в советском публичном дискурсе современники использовали термин «ведомственность» и предикат «ведомственное» для рационального объяснения различных административных, экономических, социальных или политических конфликтных взаимоотношений. «Ведомственность» фиксировала несоответствие декларативной норме интеракций между различными государственными агентами. По крайней мере, в публичном дискурсе современники отчетливо видели в ведомственности негативный эффект и нередко рассматривали ее как оппозицию государственным интересам. Проговаривание и осуждение ведомственности должно было искоренить конфликты в административной или экономической системе и привести их к разумному виду, то есть одобряемым отношениям, которые не вредят государству. Учитывая, насколько часто в публичном дискурсе «ведомственность» употреблялась в контексте противопоставления государству, вопрос о ее рационализации неизбежно становился проблемой рационализации государства. Исследуя то, как современники объясняли «ведомственность», мы непременно приходим к тому, как они определяли государство, поскольку для многих из них «ведомственность» наступала там, где правили бюрократы и не учитывались государственные интересы.
Обозначение государственных интересов не менее сложная проблема, но именно она позволяет сформировать теоретическую рамку в исследовании советской ведомственности. Чтобы понять ведомственность, нам нужно сначала разобраться с тем, что такое государственные интересы. Здесь логично сослаться на концептуализацию Мишеля Фуко, которую он разработал при анализе отношений власти и эволюции представлений о государстве в европейской мысли Нового времени. Фуко детально описал свое видение «государственных интересов» (Raison d’État, Ratio Status, Reason of State) в лекции в Коллеж де Франс 8 марта 1978 года. Он указывал, что оно – Ragion di stato – впервые сложилось у итальянцев. В конце XVI века Джованни Ботеро определял государство не через территориальное измерение, но в качестве господства над людьми/населением. В этом смысле государственный интерес был для него знанием о средствах, которые создавали, сохраняли и расширяли это господство. Фуко предлагал следовать интерпретации Ботеро и рассматривать государственный интерес исключительно как тип рациональности, который поддерживал и сохранял государство в повседневном функционировании и управлении населением223.
Ключом к пониманию этой рациональности являлись два исследовательских понятия, которые Фуко использовал при анализе представлений о государстве и государственном интересе в Новое время. Первое понятие – это искусство или практика (у)правления (gouvernement, L’art de gouverner, art of government)224. Оно означает способ руководства поведением, разновидность социального взаимодействия, когда действия одного направлены на действия другого или самого себя. Практики (у)правления не являются специфической формой поведения правителя, руководителя или государственного служащего, а выступают реляционными связями внутри самых разных человеческих групп. Как указывает В. Каплун, в основе базового методологического принципа в фукианском анализе отношений власти лежит отказ мыслить «власть» через «государство»225. Поэтому практики (у)правления – это отношения власти, которые существуют в самых различных ячейках общества: в семье (отношения родители – дети), в медицинских учреждениях (врачи – пациенты), в образовательных учреждениях (учителя – ученики), на заводах (начальники цехов – рабочие) и т. д.226 Государство было всего лишь частным случаем таких практик (у)правления227, они не являлись его неотъемлемым инструментом228.
Второе фукианское понятие – это гувернаментальность (gouvernementalité, governmentality)229, которое означает концептуализацию и рационализацию, то есть осмысление, объяснение и представление этих практик (у)правления другими и самим собой в публичном дискурсе230. Под гувернаментальностью Фуко понимал совокупность институтов, процедур, анализов, рефлексий, расчетов и тактик, посредством которых власть дискурсивно реализовывалась231. В своих лекциях Фуко показал становление гувернаментальности на примере рационализации пастырства, государственного интереса, полиции и либерализма. В этом анализе государство являлось примером гувернаментальности как артикуляции специфической практики (у)правления над населением, сложившейся в период Нового времени. В каждом конкретно-историческом случае гувернаментальность определяла сферы и границы государственного, что являлось его частью, а что государственным быть не могло232. Таким образом, государство выступало мифологизированной абстракцией233, а точнее одной из множества практик (у)правления, но рационализированной в виде целостной системы управления, которая осуществляла централизованное распределение власти. Говорение и рассуждение о государстве формировали и рациональный язык его описания. Государство появилось тогда, когда его начали осмыслять. Этот процесс Фуко назвал гувернаментализацией государства234.
Современная наука пока мало знает о типах рационализации практик (у)правления в Советском Союзе. Ученые, которые пытались применить оптику гувернаментальности к социалистическим обществам, находились в заложниках сложившегося в первой волне Governmentality Studies определения гувернаментальности как формы либеральной и неолиберальной власти235. Тем не менее ученым удалось показать, что неолиберальные практики государственного управления сформировались в социалистических странах независимо от капиталистической системы236. В их видении гувернаментальность была не типом рациональности, а некой политико-управленческой «структурой», для которой был характерен «уход от чрезмерности контроля и избыточности „ручного“ управления»237. В этой интерпретации гувернаментализация государства – это исторический феномен, когда центральное государственное управление делегировало регулятивные полномочия негосударственным организациям238. Поэтому ученые находили советскую версию гувернаментальности исключительно в послесталинской эпохе, привязывая ее к практикам либерализации239.
Эти исследования определяли гувернаментальность не в качестве дискурсивной аналитической категории – тип рациональности о самых разнообразных искусствах (у)правления, – но политической практики. Этот взгляд на гувернаментальность нашел отражение в анализе советской системы управления: 1) системно-кибернетического подхода240; 2) деятельностно-игровой, оргуправленческой и мыследеятельностной методологии241; 3) решений проблем глобальной земной системы242; 4) поддержки неформальных отношений и институтов государственной собственности через внутрипартийную дисциплину243; 5) техники интеграции социалистического государства и гражданского общества, противопоставленной насилию, суверенной власти и дисциплинарным режимам244. Наиболее продвинутыми представителями советского гражданства были журналисты, которые выступали социалистическими управленцами (governors) и создали гувернаментальную систему прессы245. Из дискурсивных практик рационализации в СССР вышла постсоветская неолиберальная гувернаментальность, связанная с пространственными и материальными измерениями, артикуляцией или дегувернаментализацией городского хозяйства, предпринимательской деятельностью246. В этой историографии первостепенным казался гувернаментальный послесталинский сдвиг в советской истории, которая, с точки зрения И. Кобылина, циклично развивалась от революционной суверенности к экономической гувернаментальности247.
В результате историография концентрировалась на либеральных формах гувернаментальности в СССР. Ученые, как правило, не разделяли уровень практической деятельности в (у)правлении и ее дискурсивную рационализацию. Исследовательский фокус также нередко искажал фукианскую «антигосударственную» модель отношений власти. Она рассматривалась через призму государства, якобы стремившегося сформировать политически лояльные сообщества, а «государственные интересы» наделялись реальной сущностью. Так, А. Т. Бикбов обозначил население позднего СССР носителями государственного интереса, которые в допустимых формах контрвласти могли критиковать государственных чиновников и производственных управленцев248. Вместо деконструкции государственных интересов как типа рационализации, подобный анализ объективизировал их в советской версии либеральной гувернаментальности.
Следует указать и на другую проблему анализа гувернаментальности в советской истории. Исследователи рассматривали сталинскую эпоху исключительно как время суверенитета – правовой модели власти одного правителя, противоположенной парадигме гувернаментальности. Сам Фуко понятию «суверенитет» противопоставлял понятие «практики (у)правления», а не гувернаментальность249. В то же время необходимо отметить, что некоторые современные авторы выдвигают гипотезу о советском гувернаментальном насилии и его синтезе с моделью суверенитета при реализации биополитики в эпоху Ленина и Сталина250. По моему мнению, под сталинизмом мы должны понимать не только режим «суверенитета», но сложную эпоху разных типов рациональности отношений власти. Фуко предлагал примерять к СССР как минимум четыре такие рациональности – пасторальную, бюрократическую, полицейскую и Raison d’État251. В этой оптике сталинский дискурс исключал публичную репрезентацию инструментов насилия и скорее лавировал между разными гувернаментальностями, предпочитая формировать реципрокную связь государства и населения.
В данной главе я исхожу из того, что гувернаментальная практика не являлась практикой (у)правления, а была тем, что обычно называют дискурсивной практикой, конституировавшей эти (у)правленческие техники. Гувернаментальность – это аналитический термин и методологический инструмент дискурсивного анализа. Нет каких-то уникальных типов гувернаментальности, они все воспроизводились через дискурсивную рационализацию практик (у)правления, которые при этом могли быть совершенно различными. Соответственно, исследователи должны говорить о множестве гувернаментальностей, отражающих множество практик (у)правления252, являвшихся при этом типичными для различных экономических и политических систем. Как прекрасно показал Д. Кола, для Фуко отношения власти в Советском Союзе не отличались от отношений власти в капиталистических странах253.
Поэтому Фуко скептически относился к существованию гувернаментальности, которая бы «строго, внутренне и автономно» была рождена самими социалистическими текстами254. То есть он не верил в социалистов как сообщество, воспроизводящее собственную гувернаментальность, то есть по-социалистически рационализирующее различные практики (у)правления. Фуко не исключал, что они были группой, способной думать только об одной такой практике – государстве255. По его мнению, социализм создал экономический, исторический и административный типы рациональности, но вряд ли сформировал социалистический тип рационализации практик (у)правления: «Но я не думаю, что существует автономная социалистическая гувернаментальность. Не существует гувернаментальной рациональности социализма. На самом деле, и история показала это, социализм может быть реализован только в сочетании с разнообразными типами гувернаментальности»256. Таким образом, Фуко не только ставил под вопрос чисто социалистический тип гувернаментальности, но обращал внимание на множественность гувернаментальностей в Советском Союзе. И в целом он считал, что предстоит еще выяснить, с какими гувернаментальностями был связан социализм257.
Фуко перечислил несколько форм рационализации, которые формировали гувернаментальность в социалистических странах. Все были связаны с европейским опытом258. Фуко действительно настаивал, что социализм использовал либеральную гувернаментальность Нового времени259. Он также использовал применительно к СССР другие типы рационализации отношений власти: «бюрократизация партии» и «пасторализация власти»260. Например, он объяснял на примере диссидентов, что их отказ быть ведомыми (being conducted) означал осознанный уход от пастырской гувернаментальности, установившейся в СССР261. Фуко также говорил, что социализм функционировал в рамках гувернаментальностей, сложившихся в полицейском или сверхадминистративном государстве, в которых слились гувернаментальность и администрация262. По его мнению, формы рациональности в социализме воспроизводились как противовесы, как корректирующие и как паллиативы для его внутренних опасностей. Это была скорее административная рациональность, иначе – рациональные техники административного вмешательства в социальные сферы государства263. Таким образом, Фуко сомневался в чисто социалистической гувернаментальности, поскольку в системе социализма она формировалась исключительно как административная рациональность: «В этом моменте, в гувернаментальности полицейского государства, социализм функционирует как внутренняя логика административного аппарата»264. При этом, согласно Фуко, в социализме отношение соответствия тексту заменило отсутствие внутренней гувернаментальной рациональности. Тексты социализма определяли его ограничения и возможности265. Как следствие, советское общество было обществом тотальной текстуальности266, созданной административными институтами и отношениями.
Итак, фукианский подход выстраивал весьма интересную схему интерпретации гувернаментальностей в Советском Союзе. Рационализация практик (у)правления в социалистических режимах сращивалась с рациональностью административного аппарата. Это выражалось в преобладающей роли двух типов рациональности: 1) гувернаментализации государства, когда постижение государственных интересов было первостепенной задачей дискурсивной рационализации; 2) гувернаментализации бюрократизма или административной рациональности, когда советский дискурс конструировал новый эффективный административный аппарат. Две базовые тенденции также согласуются с тезисом Пьера Бурдьё, что бюрократы создали государство и государственные интересы267. Советские администраторы последовательно выстраивали дискурс о Советском государстве.
Однако эти рациональности не исключали и другие модели. В некоторых случаях можно говорить о суверенитете в СССР, при котором рационализировались интересы суверена и его юридическая власть. В то же время в советской системе сложно разделить суверенитет и пасторализацию власти, выводившей на первый план руководителя-пастыря, владевшего истиной, делившегося ею с народом и ведущего его за собой к коммунизму. Наряду с этим советский дискурс воспроизводил полицейскую гувернаментальность, которая напрямую шла от суверенитета, регламентировала повседневные, преимущественно городские практики и устанавливала дисциплину. И наконец, Советскому Союзу была присуща экономическая гувернаментальность, соответствовавшая советскому гражданству и легитимирующая его практики (у)правления как естественность (naturalness) жизни людей сообща. В основном все эти формы рационализации сопротивлялись или обходили друг друга. Как подметил И. Кобылин, в послесталинском СССР было противостояние между подключениями к двум типам гувернаментальности – полицейского административного рационализма и консервативными экономическими практиками, когда вопрос о государстве занимал центральное место в управленческих проектах268. Гувернаментализация Советского государства и рационализация его административного аппарата оставались основными процессами осмысления практик (у)правления в публичном дискурсе.
В этой связи административный аппарат, навязывавший разговор о государстве, пронизывал фактически все отношения власти в советском обществе и формировал тотальное дискурсивное поле, которое воспроизводило типы паллиативов для административных проблем и конфликтов. Следовательно, интерпретация дискурсивных текстов является ключом к пониманию гувернаментальностей в СССР. Публичное дискурсивное производство осуществляли представители административного аппарата, в первую очередь функционеры и партийцы разного уровня и из различных сфер советской общественно-политической жизни. Они делали государство именуемым и осуществляли его прозопопею269. Это могли быть не только политики, чиновники, наркомы, министры, начальники управлений и трестов, но и активисты, служащие, рабочие, инженеры, интеллигенция, деятели искусства, литераторы, корреспонденты и редакторы газет. Применяя определение Фуко, их можно назвать советским «гражданским обществом» или «гувернаментализирующим обществом» (governmentalized society), которое организовывало социалистическое государство270.
Как эта фукианская гувернаментальная концептуализация помогает проанализировать феномен ведомственности в истории СССР? В советском публичном дискурсе артикуляция ведомственности всегда была частью административной рациональности. Осмысление, осуждение или критика этого явления в различных дискурсах выступали таким паллиативом, временным решением или полумерой в урегулировании самых разнообразных конфликтов в практиках (у)правления. При этом, как и указывал Фуко, в советском контексте практики (у)правления и процесс администрирования были фактически неразделимы. Административный аппарат проникал во все сферы общества. Ведомственность рационализировалась во множественных формах отношений власти внутри многообразных сфер и институтов: советских органов, партии, наркоматов, трестов и главков, заводов и предприятий, колхозов и совхозов, санаториев и курортов, статистик и переписей, образования, литературы, прессы, театра, кино. Поэтому трудно уловить дискурсивные пространства социальности, где практики (у)правления были независимы от советского и партийного администрирования.
В этой главе выдвигается тезис, что обсуждение и определение ведомственности было важнейшим сегментом гувернаментализации Советского государства. Дискурсивный анализ показывает, что Фуко был прав в том, что большевики рассуждали о практиках (у)правления преимущественно в рамках проблематизации государственности. В советском публичном дискурсе ведомственность как понятие практически всегда противопоставлялась государству. С начала 1920‑х годов рефлексия о ведомственности сопутствовала интенции, ведущей к познанию государственности и государственных интересов в СССР. Этот тип рационализации был изначально интегрирован в государственные институты, особенно в органы контроля, но к предвоенному времени эта «ведомственная» форма гувернаментализации Советского государства была усилена. Таким образом, если одни отношения власти подчинялись дискурсивной норме, то есть соответствовали государственным интересам, то другие, нарушавшие ее, определялись как ведомственность. Ведомственность – это такой же тип рациональности практик (у)правления и одновременно административного аппарата, как государство и государственные интересы, но только оцениваемый как их антипод.
Соответственно, понятие «ведомственность» использовалось в процессе дискурсивной рационализации административных/(у)правленческих практик конфликтного взаимодействия между работниками и служащими в различных учреждениях, институтах, предприятиях и организациях, между работниками этих организаций и обычным населением, а также в сфере междуорганизационных и междуинституциональных связей. Определяя ведомственность, советские администраторы рационализировали процессы бюрократизации и гувернаментализировали советское государство. Я не утверждаю, что ведомственность была практикой (у)правления, а указываю, что существовали такие проблемные практики (у)правления, или, если угодно, отношения власти, спаянные с администрированием, которые пронизывали все публичное советское общество и которые в советском дискурсе назывались ведомственностью.
Таким образом, данная глава посвящена не просто истории артикуляции ведомственности как рационализации административного аппарата и практик (у)правления, но и истории гувернаментализации Советского государства. Эволюция этих двух – административного (бюрократического) и государственного – типов рациональности реконструируется посредством анализа обширного корпуса публичных текстов. Насыщенное описание гувернаментальности подразумевает выяснение того, как о ведомственности говорили современники, как осмысляли ее и как опознавали. Моя интерпретация основана на герменевтике текстов центральных советских газет «Правды» и «Известий», материалов партийных съездов, пленумов ЦК и заседаний Верховного Совета. Я не стремлюсь охватить все случаи говорения о ведомственности, но пытаюсь показать, как о ней высказывалось советское гувернаментализирующее общество, то есть те публичные граждане, которые формировали и наполняли советский дискурс. В каждом конкретном случае эти акторы дискурсивной рационализации определяли, какая практика администрирования/(у)правления являлась ведомственностью, а какая ею не была.
Ведомственное
Что в контексте советского публичного дискурса обозначало «ведомственное»? Базовые варианты использования этого предиката получили распространение в центральных газетах с установления советской власти. При любой прагматике означаемое этого прилагательного всегда оставалось устойчивым – принадлежность к ведомству как административному органу. В раннесоветскую эпоху таким административным органом, чьи явления, элементы или агенты наименовались ведомственными, могло быть любое учреждение – Советы, партия, наркоматы, предприятия, газеты и т. д. То есть вне языкового и дискурсивного поля у понятия встречались самые разнообразные референты. Тем не менее «ведомственное», оставаясь устойчивым означаемым, обладало близкими, но все же разными социальными контекстуальными смыслами. Их можно выделить три.
С началом советской власти авторы самых различных текстов на страницах центральных газет использовали «ведомственное» в качестве предиката, указывающего на административную подчиненность и связанность с каким-то ведомством. Десятки тысяч отделов, учреждений и лиц были «подведомственными» тем или иным вышестоящим управленческим структурам и начальникам. Чаще всего этим прилагательным наделялись различные аппараты, учреждения и организации и их внутренние отделы, канцелярии, институты, советы, союзы и комитеты. Иногда они противопоставлялись «общественным» организациям. Некоторые создававшиеся органы, как правило комиссии и совещания, которые занимались особо важными вопросами, могли быть не только ведомственными, но и междуведомственными. Когда появлялась необходимость сделать акцент на делопроизводственной деятельности, свойственной учреждению, ведомственными становились контроль, отчетность, учет, перепись, расчеты, акты, распоряжения, задания, бумаги, работа. В большинстве случаев такой контекст «ведомственных» определений был нейтральным.
Однако в тех моментах, когда газетчики описывали не просто административное дело, но примеры чиновничьего произвола, «ведомственное» переставало быть безобидным предикатом. В решении самых разнообразных экономических и организационных задач тысячи служащих и партийцев, руководителей и обычных граждан сталкивались с ведомственными рутиной и бюрократизмом, преодолевали ведомственные трения и претензии, запутывались в ведомственных взаимоотношениях. Одной из самых страшных бед становилась ведомственная волокита. Утверждение бюджетов или выработка других решений осуществлялись по «ведомственной линии» и в «ведомственном порядке», то есть без какого-либо широкого общественного контроля, внешнего участия, инициативы или взаимодействия. «Ведомственная волокита» и «близорукость некоторых руководителей» иногда становились «возмутительной ведомственностью», когда бесконечная переписка вела к гибели начатых дел в народном хозяйстве271. Прагматика такого употребления всегда отсылала к самым всевозможным проявлениям бюрократизма и «канцелярщины». В таких случаях нейтральный смысл часто сменялся неодобрительным и негативным.
Вместе с тем уже тогда этот предикат оформлялся в яркое обозначение доминирования интересов органов, учреждений или иных управленческих структур над государственными интересами. В этом контексте административная лексема «ведомственное» обретала четкую критическую коннотацию. Когда большевикам казалось, что дело государственной важности было под угрозой из‑за агентности организаций и учреждений, они легко категоризировали их действия как ведомственные. При этом контексты такого значения были самые разнообразные. Так возникали «ведомственные забастовки», которые вели «государственную машину» к полной негодности272. Нередко объектом критики могли выступать сами большевистские и советские структуры. Например, московские большевики ругали народные комиссариаты, которые в условиях Гражданской войны осуществляли «свою, особую, ведомственную политику, не всегда совпадающую с линией ВЦИК», и предлагали вообще ликвидировать Совнарком273. Распространены были призывы подходить к решению экономических вопросов с точки зрения общегосударственного плана, а не «ведомственных задач». Показательна здесь история о том, как разработка проекта о землеустройстве из «ведомственного вопроса» Наркомзема должна была стать государственной проблемой274.
Таким образом, в первые годы советской власти «ведомственное» как предикат было лексемой, применяющейся в трех ситуациях организационного и социального взаимодействия: 1) административной подчиненности; 2) бюрократической исполнительности; 3) государственно-ведомственных конфликтных отношений. При этом эмоциональный спектр ведомственного обозначения соответственно нарастал от нейтрального к негативному и критическому. Если в первом случае контекст означаемого фиксировал только оттенок административной субординации или специфического делопроизводства, то во втором и третьем значениях авторы использовали его в осмыслении «бюрократических» и «государственных» практик (у)правления. «Ведомственное» становилось важным маркером гувернаментализации бюрократии и государства.
Ведомственность vs государственные интересы
В 1920‑х годах впервые понятие «ведомственность» получило употребление в контексте рационализации государственных интересов, которые противостояли ведомственной точке зрения. На страницах центральных газет количество упоминаний о таких конфликтах нарастало в условиях становления новой экономической политики. В эмоциональных текстах многие советские аппаратчики взвешивали между «ведомственностью» и «государственностью» иногда собственные, а чаще чужие (коллег из других организаций) решения в сфере экономики. Одновременно с этим оценочное разграничение на правильное «государственное» и ошибочное «ведомственное» зависело от субъекта высказывания, который мог быть любым – от советского аппаратчика до деятеля искусства.
Государственные интересы определяли норму экономических интеракций, но вместе с тем они всегда оставались абстрактным образцом, который каждый руководитель воображал по-своему. Сложно было уловить это государство с его интересами в конкретных органах власти. Чем было государство – Советами, партией, наркоматами? Какая из этих структур формулировала и определяла государственные интересы? Где заканчивался интерес государства и начиналась заинтересованность ведомства? Вряд ли кто-то мог дать четкий ответ на эти вопросы. Ведомственной могла стать любая операция, будь то исходящая из кабинетов партии либо прописанная в циркулярах наркоматов. В период нэпа обвинение в отступлении от государственных позиций было излюбленным риторическим приемом в борьбе между экономическими субъектами. Вместе с тем в новой социалистической реальности этими субъектами с двух противоборствующих сторон выступали институты одного и того же государства. Раннесоветская эпоха – это время рационализации нового государства, в которой артикуляция «ведомственности» позволяла обозначить его границы.
В начале нэпа одним из наиболее ярких примеров такой рационализации был спор об интеграции управления снабжением и торговли солью после отмены на нее государственной монополии. Руководитель Государственного соляного синдиката, известный большевик М. И. Лацис предлагал передать отдел Солеторговли Наркомпрода в структуру своего объединения и создать «мощный торговый аппарат». Он считал, что тем самым «пострадает ведомственный интерес, но выиграет государство»275. Естественно, в этой связи не имело значения, что и Солесиндикат, и отдел Солеторговли являлись государственными структурами. В условиях отмены госмонополии и введения сбора соленого налога взамен нее централизация власти становилась принципиальным выбором между «ведомственностью» и «государственностью»: «Это еще было бы понятно, если бы это не были госучреждения и если бы государство не вынуждено было брать акциз с соли. Но сейчас это убийственно для государства. Ведомства стали бороться за первенство и в этой борьбе общегосударственные интересы забывают»276.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе