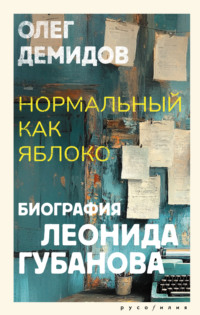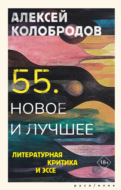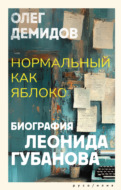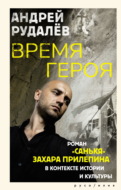Читать книгу: «Нормальный как яблоко. Биография Леонида Губанова», страница 3
В прокуренции
Поиски свободы и единомышленников продолжались. Возраст уже позволяет скопить денег и отправиться в кафе, где можно выпить, закусить, почитать стихи, а в «прокуренции» поспорить о прочитанном и об услышанном.
Тот же Владимир Черкасов-Георгиевский называл несколько важных точек, где можно было встретить юных баловней муз:
«Самая вольная тогдашняя тусовка Москвы была в молодёжных кафе. “Кафе молодёжное” – “КМ” – “КаэМ” на улице Горького (теперь снова Тверская), “Аэлита” на Оружейном переулке, за его пересечением Каляевской улицы (теперь снова Долгоруковской); “Синяя птица” в переулочке от улицы Чехова (теперь снова Малая Дмитровка). Всё это в одном столичном пучке, на “центровой” площадке, которую юными худыми ногами прошагаешь за 20 минут. Мы орали друг другу свои стихи за столиками вперемешку с портвейном»49.
Ещё одно важное для той поры кафе – «Националь» – описывает Лев Прыгунов:
«…было как бы три поколения, каждое из которых смотрело на более младшее с некоторым пренебрежением, а младшее, наоборот, с восхищением на старшее. Старшее со средним, как правило, перемешивалось, в зависимости от талантов и способностей тех и других. Врачи, адвокаты, подпольные цеховики, “каталы”, т. е. профессиональные картёжники, литераторы и поэты всех возрастов, художники и скульпторы, режиссёры, драматурги, фарцовщики-валютчики-иконники, кагэбисты и стукачи, которые могли быть одновременно всеми перечисленными, проститутки, сутенёры и прочее, и прочее. И почти все почти про всех почти всё знали или догадывались, но предпочитали в чужие дела не вмешиваться. “Наша” компания как-то сразу перешла в “середняки”, а самыми младшими были в основном студенты факультетов журналистики и психологии; последний находился прямо за углом, за “Интуристом”, и двор их назывался “психодромом”, потому что там уже тогда вовсю курили анашу, глотали кодеин, тазепам и кололись чёрт знает чем»50.
Мы знаем, что будущие смогисты как раз-таки были с «психодрома»51. Пускались ли они во все тяжкие52 (ну по советским меркам – так уж точно пускались! но тут вопрос в наркотиках), сказать нельзя. Губанов выбрал стакан. Всё остальное, если и появлялось (от нескольких друзей поэта доводилось слышать о траве), то было несерьёзным, баловством, небольшим экспериментом.
А в «Национале» между тем собирались Роман Каплан (человек, который при участии Бродского и Барышникова откроет в Нью-Йорке самый знаменитый русский ресторан во всём мире – «Русский самовар»), Леонид Виноградов, Михаил Ерёмин, Евгений Рейн, Сергей Чудаков и многие другие.
Дадим ещё один эпизод, чтобы прочувствовать атмосферу. Рейн рассказывал о встрече с Юрием Олешей. Тот был не в лучшем состоянии. Ему оставалось полгода до смерти. То есть это – январь 1960 года. Он в тот раз сидел в «Национале» в одиночестве. Его приметил Рейн с товарищем. Подсели. Представились. Разговорились. Заказали одесскому гению бутылку коньяка. Думали, что вместе и разопьют, но Олеша оставил её для похода на день рождения Катаева.
А дальше у них случился прекрасный и показательный диалог54:
– Как вы думаете, молодые люди, кто лучше пишет, я или Катаев?
Я ответил честно – так думал тогда, так же думаю и сегодня, хоть я считаю Катаева замечательным художником, выдающимся пластиком слова:
– Конечно, вы, Юрий Карлович.
Мой приятель стал что-то говорить о роли Олеши в русской прозе. Я помню, что мелькало малопонятное слово «имажизм». Олеша остановил его, он сделал какое-то неясное движение рукой, обозначающее знак внимания. Тишина надвинулась на наш столик. Сдержанно гудело кафе в этот непоздний час.
– Да, я лучший писатель, – сказал Олеша, – но у Катаева демон сильнее.
Здесь важен, во-первых, «имажизм», который не совсем к месту употребляет приятель Рейна (и мы делаем вывод, что в оттепель теория и практика имажинизма всё-таки, несмотря ни на что, находились в актуальной литературной повестке), а во-вторых, демон, который управляет гением. Но об этом мы ещё поговорим отдельно.
Как вы видите, в «Национале» компания собиралась отменная. Заходи в любое время дня и ночи – обязательно на кого-нибудь наткнёшься.
Вся эта ситуация, конечно, не походит на кафейный период русской поэзии, но подражание великим да пусть и мнимая, но преемственность – ощущаются. А на первых порах это очень важно.
В одном из перечисленных кафе происходит знакомство с Владимиром Шлёнским, который ещё сыграет свою роль в жизни Губанова. Читаются и обсуждаются стихи футуристов. Совершаются прогулки по Москве, по её сакральным литературным местам и по кладбищам.
Вильям Мейланд рассказывал, как они небольшой компанией, затарившись бутылкой вина и батоном хлеба (о, какие это несерьёзные закупки! что такое бутылка вина на компанию ребят?), отправились в ночь на Ваганьковское кладбище. Искали могилу Сергея Есенина. Нашли. Помянули, выпили, почитали наизусть и его, и свои стихи. И в самый разгар этого действа… пришли милиционеры.
Что они забыли на кладбище? Может, сторож испугался и от греха подальше решил их вызвать?
Отвели молодых людей в помещение похоронного бюро и стали расспрашивать: кто они, откуда, что тут забыли? Парни, конечно, представились поэтами и назвали свои домашние адреса. Один Губанов съязвил, что живёт на улице под названием «Матросская тишина». Но стражи порядка, кажется, его не поняли. И попросили, раз уж перед ними возникли поэты, почитать что-нибудь.
И, конечно, началось небольшое представление. Только вообразите себе эту обстановку! Ваганьковское кладбище, дело близится к полночи, молодые поэты в компании милиционеров, кладбищенского кота и, конечно, незримого присутствия великих и не очень соотечественников.
Губанов уже «заходится»55:
Сварганенный комок несчастия
Ваганьковским зовётся кладбищем.
Все знают – я не рвусь на части,
и не хочу быть вашим классиком.
И та есенинская роль
на бархатный мой шарф не тянет.
Мне хорошо, что я король,
а буду нищим, лучше станет.
Я выпью водки на углу,
где церковь эта и ворота.
Я не на улице умру
среди бесстыдного народа,
а книжных полок посреди,
черновиков где рваный ворох.
А смерть Ходжою Насреддин
засыплет снегом поговорок.
«И панихиде грустной внемля»,
я вам скажу не так, а сяк —
Любил поэзию, не землю,
Как море истинный рыбак!
Стихотворение написано 13 ноября 1963 года на Ваганьковском кладбище. Можно предположить, что и история с чтением стихов (наверное, всё-таки не этих, но не менее магических!) могла происходить плюс-минус в этот же период.
Борис Пастернак
Губанов, конечно, знал о Пастернаке: когда на весь мир разворачивается травля за роман «Доктор Живаго» и происходит шумная история с получением Нобелевской премии, трудно всего этого не замечать.
И всё-таки надо учитывать возраст. К 30 мая 1960 года Губанову было всего 13 лет.
Андрей Журбин в своей монографии, конечно, пишет, что, «как и в случае со сведениями о том, что Лермонтов присутствовал на похоронах Пушкина, есть неподтверждённые данные о посещении Губановым похорон Бориса Пастернака»56, но надо признать: ситуация маловероятна. Если бы это случилось, отразилось бы в стихах или же отложилось в мемуарах.
Есть лишь отголоски – в стихотворении «На смерть Бориса Пастернака»57:
А кладбище покрыто копотью,
и нет спасенья от копыт,
с окостеневшим криком – кто тебя?! —
тюльпаны лягут на гранит.
Мы треугольники вбиваем,
чтоб камень с камнем породнить,
мы даже смелыми бываем,
когда зовут похоронить.
Но здесь не прямое видение похоронной процессии, а скорее взгляд на современников и на советских людей в целом.
Датировка текста вызывает вопросы. Название – названием, но точных данных, когда стихотворение было написано, – нет.
Зато есть другие свидетельства. Проходит год-другой – и Губанов становится завсегдатаем переделкинской дачи. Всё началось со встречи с Евгением Пастернаком.
Тот пришёл на могилу отца и обнаружил мальчишку, мирно спящего на лавочке. Растолкал его. Они познакомились и разговорились. Юный поэт58 поведал, что вместе с классом отправился в туристский поход по ближайшему Подмосковью, но отбился от группы и решил заночевать на могиле своего кумира.
После этой встречи Губанов регулярно приезжал в Переделкино. Как правило, на мемориальные даты. Но мог выбраться и спонтанно. Помогал ухаживать за могилой, высаживал на ней цветы.
Евгений Пастернак вспоминал, что были и знаменательные встречи59:
«Он приходил несколько раз на какие-то общие праздники; встретился у нас с Андреем Донатовичем Синявским60, который, сидя на корточках на полу (так сидели, рядышком), долго его слушал [а после сказал: «Очень талантливый мальчик»61. – О. Д.]; ну и как литературный требовательный критик сказал ему, что нужно работать, нужно усовершенствоваться62 <…> тогда мы <…> были с [Синявским] знакомы, потому что он писал предисловие к первому серьёзному посмертному изданию Пастернака в Большой серии “Библиотеки поэта”63».
Примерно в это же время Вадим Делоне, тогда ещё студент МГПИ им. Ленина, прогуливая семинар по истории КПСС, поехал 10 февраля (в день рождения Пастернака) в Переделкино. Когда с него спросили за пропущенное занятие, он сказал, что был там, где должен быть любой русский поэт.
У Губанова же восприятие чуть сложней – у него прослеживается более интимное отношение к Пастернаку. В доме по улице Красных Зорь в Кунцево висит целая фотогалерея любимых поэтов: Есенин с трубкой, Цветаева с бусами, Пастернак (в профиль). Позже к ним прибавятся Хлебников на Тверском бульваре64, Пушкин. Понятное дело, что не в виде фотографий, а в виде рисунков65. Затем последняя фотография Мандельштама – из следственного дела. И наконец, портрет Наполеона Бонапарта обосновался на двери.
В творческом наследии Губанова насчитывается как минимум девять стихотворений, где были упоминания Пастернака, посвящения ему, реминисценции и аллюзии на его тексты и эпиграфы из них. Из неназванных выше стоит отметить «Двадцать восемь строчек Борису Пастернаку»66; «Темпераментная темпера»67 (посвящено Пастернаку); «Сорока церквей не строил» (с эпиграфом из Пастернака)68; «Подражание Игорю Северянину» (с упоминанием Переделкино69), а также поэмы «Мой сад» (1964)70 и «Разговор с катафалком»71.
Что же мы видим на данный момент?
С учёбой Губанов распрощался: он оставался на второй год (1962–1963), а после и вообще вылетел за неуспеваемость из 9-го класса, но уже не из престижной школы № 144, а из ШРМ № 101. То есть дальше судьба уготовила ему только поступь молодого гения – по русской литературе.
Поступь лёгкую, но по раскалённым углям да по битому стеклу.
Как красиво пишутся три шестёрки,
Только красивее – Христос Воскрес.
Я окончил небо на пятёрки,
А в девятый класс еле пролез.
2. «Юность»
От фонаря мои светлые планы.
От фонаря моя шаткая жизнь.
А. А. Вознесенский «На маяке»
Феномен
Начнём, собственно, с разговора о лёгкой губановской поступи.
Есть два поэта, которые в Серебряном веке, скажем прямо, не состоялись, однако в последующие годы нашли непроторенные тропки в русской поэзии. Один – эмигрант, другой – неподцензурный поэт. И именно они задали два самых отчётливых вектора развития, волей-неволей наплодив безумное количество учеников (эпигоны не в счёт).
Первая линия пошла от акмеиста72 Георгия Иванова. Понятно, что самиздат и тамиздат вливал в оттепель ещё и Осипа Мандельштама, но для того чтобы поддерживать начатую им линию, необходимо быть конгениальным ему. А таких не нашлось (и не найдётся). Ещё одна (пост)акмеистическая линия идёт от Анны Ахматовой – Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев, отчасти Александр Кушнер. Но это линия заканчивается на этих же именах. Продолжения нет. Наш последний нобелиат стал камнем преткновения. Есть только те, что топчутся на освоенном пятачке и не могут сделать шага в сторону. Зато неожиданно взошла иная поросль – ивановская: Сергей Гандлевский, а позже Борис Рыжий и Денис Новиков. Последний как раз-таки писал73:
А мы, Георгия Иванова
ученики не первый класс,
с утра рубля искали рваного,
а он искал сердешных нас.
Вторая линия идёт от протоконцептуалиста Евгения Кропивницкого7475. Он – на минуточку! – родился в один год с Вадимом Шершеневичем и Владимиром Маяковским. Сочинял и стихи, и музыку, рисовал картины. Его тексты 1910–1920-х годов написаны под влиянием имажинистов и новокрестьянских поэтов. Видимо, Кропивницкий отдавал себе в этом отчёт, поэтому начал искать нечто новое. И вышел к предельно честному бытописанию. За ним пошли лианозовцы, за ними – концептуалисты, за теми – несть им числа.
И в этом контексте особенно удивительно выглядит феноменальная лирика Леонида Губанова. Поэт одинаково далёк и от постакмеизма, и от концептуализма, чуть ли не физически привязанных к реальности. Для него настоящее чудо происходит в иной плоскости, в ирреальности, за гранью, в инобытии.
При жизни его часто называли внуком (или внучатым племянником) Сергея Есенина и учеником Маяковского. Это несколько неверно. Губанов сложней. Его поэтика – это верлибр образов, каталог образов (что говорит о влиянии в первую очередь Вадима Шершеневича76 и Анатолия Мариенгофа) и поток сознания (что позволяет сопоставлять с близкими по времени американскими битниками Джеком Керуаком, Алленом Гинзбергом и Уильямом Берроузом); при этом образная система дисгармонична, то есть зиждется на противоположных понятиях или попросту не коррелирующих меж собой.
В своей декларации имажинисты писали:
«Мы, настоящие мастеровые искусства, мы, кто отшлифовывает образ, кто чистит форму от пыли содержания лучше, чем уличный чистильщик сапоги, утверждаем, что единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов. О, вы слышите в наших произведениях верлибр образов. Образ, и только образ. Образ – ступнями от аналогий, параллелизмов – сравнения, противоположения, эпитеты сжатые и раскрытые, приложения политематического, многоэтажного построения – вот орудие производства мастера искусства. Всякое иное искусство – приложение к “Ниве”»77.
Губанов мог бы подписаться под каждым словом.
Более того – в отличие от «опростившегося» Мариенгофа и вечного экспериментатора Шершеневича – он, что удивительно, наиболее последователен имажинистской декларации.
Кублановский в частной беседе с нами говорил, что Губанов либо самостоятельно находил книги «образоносцев»78, либо читал их стихи в самиздате. В одном букинистическом магазине появился сборник Мариенгофа «Развратничаю с вдохновением» с дарственной деньрожденческой надписью Генриха Сапгира – жене Губанова: «С любовью Алёне Басиловой – поэту от роду 25 лет и 2000 тысячелетий от Генриха Сапгира. 28/VII. 68 г.»
Губанов где-то интуитивно, где-то по мановению судьбы встречался с родственниками имажинистов и с ещё живыми членами Московского Ордена: приятельствовал с Александром Есениным-Вольпиным, ходил в гости к Рюрику Ивневу, выпивал в одних компаниях с молодым художником Андреем Судаковым, племянником Мариенгофа (правда, о родственных связях даже не догадывался!).
Судаков рассказывал, что Губанов и вся честная смогистская компания – это самый настоящий бедлам: молодые ребята, но такие охотники выпить, что просто святых выноси; и ему, практически непьющему, раз от раза – и в особенности зимой! – приходилось на себе растаскивать гениев по домам.
Но это быт – а теперь к поэзии!
Собственно, влияние «образоносцев» становится заметно с первых стихов. Когда появилась поэма «Полина», читатели начали улавливать имажинистские нотки. В частности, Владимир Батшев говорил о косвенном влиянии Шершеневича: «Поэма оглушила, но я был ещё крепок, я был воспитан на Сельвинском и Шершеневиче; и хотя, как и все, воспринимал неуловимую вторичность, – дикость образов, ломание падежей, – густота красок навалилась на меня»79.
Есть и прямые реминисценции. На них, кажется, никто ещё не обращал внимания. Рассмотрим парочку самых ярких примеров. Первый касается известной истории Серебряного века: на одном из поэтических концертов во время чтения Шершеневича из зала поднялся Маяковский и во всеуслышание заявил, что имажинист украл у него штаны. К радости зрителей, началась великолепная словесная пикировка.
Случилось это из-за схожести образов. У Шершеневича в одном стихотворении получилась такая строфа80:
Из Ваших поцелуев и из ласк протёртых
Я в полоску сошью себе огромные штаны
И пойду кипятить в семиэтажных ретортах
Перекиси страсти и докуренные сны.
А у Маяковского штаны преобразились, ибо материал для них он выбрал иной81:
Я сошью себе чёрные штаны
из бархата голоса моего.
Жёлтую кофту из трёх аршин заката.
По Невскому мира, по лощёным полосам его,
профланирую шагом Дон Жуана и фата.
На деле же, всё было совсем наоборот: Маяковский позаимствовал образ у Шершеневича. Но это совсем другая история82.
Важно, что Губанов, прочитав обо всём этом, видимо, в «Романе без вранья», решил вклиниться в образовавшийся литературный ряд (помимо обозначенных поэтов в нём ещё Саша Чёрный83, Георгий Иванов84 и Булат Окуджава85):
Я надену вечернее платье моего легкого почерка,
Посажу на голову белого голубя,
А потом отнесу на твою почту
Афоризмы своего разрезанного горла.
<…>
Застегнусь ли я опять на алмазные пуговицы,
Буду водку с кем-то пить, дерзкий и мраморный,
Ничего я не хочу в вашей жуткой путанице —
Я давно уже не ранний, но все же раненый!..86
Вторая реминисценция – из Мариенгофа, он когда-то обронил87:
И числа, и места, и лица перепутал,
А с языка все каплет терпкий вздор.
Мозг дрогнет
Словно русский хутор
Затерянный среди лебяжьих крыл.
А Губанов подобрал этот образ, построенный на политически обелённом хуторе («Затерянный среди лебяжьих крыл») и внутренних органах, и сделал из него целое стихотворение, которое начинается строчками88:
Сердце болит, как хутор, отбитый у белых,
Где плач матерей, убитые, кони вразброд,
Где имя моё, словно чёрная гроздь Изабеллы,
Со сладкою мякотью память пускает в расход.
Но феномен юного гения в другом. Верлибр образов и поток сознания заставляют работать Губанова со всем его бэкграундом (оттого-то он после ухода из школы так глубоко зарывается в книжки). А дальше всё случается почти как у Пастернака: «Чем случайней, тем вернее…» И – поэта уже не остановить. Короткая строка (как правило, классические четырёхстопные ямб или хорей) с оригинальной рифмой, которая порой превосходит не то что Вознесенского или Маяковского, а рифмы (и образы) имажинистов: что ни говори, а Мариенгоф, Есенин, Шершеневич работали до седьмого пота над ними89. Ожидание чуда – ожидание рифмы – благодаря скованной строке становится сверхкоротким – и из ожидания как такового переходит в предвосхищение. А тут один шаг до прямого поражения – раз и навсегда.
Плюс к этому Губанова надо прочесть, пропеть, прочувствовать – от начала до конца. Тогда будет эффект. И встретятся (часто – в одном и том же разбираемом тексте) отсылки и к Есенину, и к Мандельштаму, и к Маяковскому, и к Пастернаку, и к Гумилёву, и к Цветаевой и т. д.
Для Губанова важна связь со всей литературой.
А эффект… Его удобней описать через один современный роман. Есть такой писатель Михаил Елизаров (полный тёзка одного из смогистов). Он стал широко известен после романа «Библиотекарь» (2007). Сюжет там строится на книгах забытого советского писателя Д. А. Громова (понятное дело: вымышленного писателя): «Нарва» (1965), «Тихие травы» (1977) и т. д. Каждая обладала определённым воздействием: «Это в обычной жизни книги Громова носили заглавия про всякие плёсы и травы. Среди собирателей Громова использовались совсем другие названия – Книга Силы, Книга Власти, Книга Ярости, Книга Терпения, Книга Радости, Книга Памяти, Книга Смысла…»90 И, соответственно, каждая наделяла своего читателя какой-то сверхспособностью. Надо было только прочитать её за один присест, от корки до корки. Таков эффект.
С самиздатскими сборниками Губанова дела обстоят точно так же. Прочитаешь «Волчьи ягоды» – и сможешь без остановки несколько дней гулевать; прочитаешь «Таверну солнца» – и тебя не будут замечать блюстители правопорядка; прочитаешь «Иконостас» – и за тобой, как за Жаном-Батистом Гренуем, будут ходить восторженные толпы, уверенные в твоей святости.
Вот только беда: изданы эти сборнички либо не полностью, либо с ошибками, либо тексты местами перепутаны. Так что надо искать оригинальные самиздатовские книги. Найдёте – попробуйте. Эффект обязательно будет. Может, не такой, как описано выше, но точно будет.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе