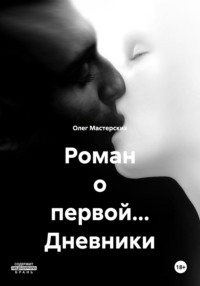Читать книгу: «Роман о первой… Дневники»
Глава 1.
У дневника множество ликов и судеб.
Он – словно волшебное зеркало, день за днем кропотливо копирующее отражение пишущего, бережно храня события и даря упоительную возможность вернуться в прошлое, вновь пережить мгновения. Погружаясь в лабиринт собственных мыслей, мы словно раздваиваемся, обретая зоркий взгляд со стороны. И в этом трепетном зазоре, между реальным "я" и призрачным отражением на страницах, зарождается нечто большее – глубина понимания, кристальная ясность чувств, обостренное восприятие мира. Дневник становится не просто молчаливым хранителем тайн, но и искусным алхимиком души.
Каждый личный дневник – осколок времени, запечатленный неповторимым росчерком пера, уникальный слепок ускользающей эпохи. Мне чудится приоткрытая дверь в иные миры: детский восторг от наивных мечтаний юного отпрыска обедневшего дворянского рода, нашедшего верного друга в пожелтевших страницах, в отчаянной попытке скрасить унылое заточение в далеком от лицейской вольницы родовом поместье; задушевные откровения свидетелей Ренессанса или лаконичные заметки новгородского купца XVIII века! Может показаться, что сегодня таких свидетельств предостаточно, что все они сливаются в безликую массу. Но кто знает, как преобразится мир завтра? Отражения истории, неповторимые в своей искренности, а потому – бесценные.
Память – это зыбкий мост, соединяющий поколения, дарующий возможность прикоснуться к сокровенной внутренней вселенной, к истокам нашего нынешнего "я".
Я всматриваюсь в это зеркало и вижу в своем лице печать прожитых лет, отблески принятых решений, отзвуки встреч и расставаний, эхо свершенного выбора. Мой дневник – ах, как же я пренебрегал тобой! Сколько значимых событий, ярких эмоций, судьбоносных решений канули в Лету, так и не удостоившись хотя бы беглого упоминания. И как пригодились бы сегодня эти строки, чтобы наладить хрупкий внутренний диалог, унять гнетущую тревогу, обрести столь желанное понимание и умиротворение.
Дневник позволяет разложить все по полочкам, увидеть себя отстраненно, оценить и отфильтровать бушующие переживания; он учит беспощадной честности с самим собой, в противовес наглой лжи, культивируемой социальными сетями и навязчиво проецируемыми извне нарративами. Он, как ни парадоксально, вдохновляет на действие. Мысли, облеченные в живое слово, обретают силу, превращаются в мощный импульс к созидательным переменам.
Ведите дневники сами, вдохновляйте на это своих детей. Они станут вашими верными спутниками в настоящем, а когда "зима тревоги нашей" отступит (а час этот, несомненно, пробьет), превратятся в бесценный документ эпохи, проникновенную летопись вашей бессмертной души.
Понимаю, что отпущенный мне срок тает быстрее, чем уже прожитый. Ощущаю себя ребенком, получившим в подарок сладости: он с радостью поглощает их, но, заметив, что запас подходит к концу, начинает наслаждаться каждым кусочком с особым чувством.
У меня нет желания тратить время на бесполезные разговоры о законах общества – все равно ничего не изменится. Не хочу вступать в споры с недалекими людьми, ведущими себя неразумно. Нет сил на борьбу с посредственностью. Я избегаю собраний, где тешат самолюбие, и не выношу тех, кто пытается манипулировать. У меня слишком мало времени, чтобы обсуждать пустые темы – моя душа стремится к большему.
Мне близки люди, в которых есть человечность. Те, кто отстаивает достоинство и стремится к правде, справедливости, честности. Это то, что придает смысл жизни. Я хочу видеть рядом тех, кто умеет затронуть сердца других, кто, несмотря на жизненные трудности, сумел сохранить доброту.
Да, я тороплюсь, я живу с той полнотой, которую дарит только зрелость. Я использую все возможности, которые у меня остались – они будут ценнее, чем то, что уже было. Моя цель – пройти свой путь в согласии с собой, своими близкими и своей совестью.
Я полагал, что у меня в запасе две жизни, но оказалось, что она всего одна…
И чем ближе горизонт, тем ярче отблески заката. Каждая прожитая минута – драгоценный камень, отшлифованный опытом и озаренный мудростью. Я больше не ищу одобрения в чужих глазах, не стремлюсь соответствовать навязанным идеалам. Важно лишь то, что отзывается эхом в моей душе, что наполняет ее светом и теплом.
Я учусь видеть красоту в простых вещах: в шепоте ветра, в пении птиц, в улыбке случайного прохожего. Эти мгновения – как искры, разжигающие пламя благодарности за возможность просто быть, дышать, чувствовать.
Ошибки прошлого больше не гнетут меня. Они – лишь ступени, ведущие к пониманию себя и окружающего мира. Я принимаю их как неизбежную часть пути, как уроки, которые помогли мне стать тем, кто я есть сейчас.
И хотя время неумолимо, я не испытываю страха. Я смотрю в будущее с надеждой и предвкушением, зная, что каждый новый день – это шанс оставить свой след в этом мире, подарить тепло тем, кто в нем нуждается, и просто быть человеком.
Ведь в конечном итоге важна не продолжительность жизни, а ее глубина.
***
– Ты погляди на этих бульбашей, все как один родились на картофельном поле, а в баланде, сколько ложкой не води, ни намёка на паслёновые. Помню, в «Праге», что на Арбате, соляночкой меня потчевали…
Неровные, бугристые стены, тёмные от влаги и плесени. На каменном полу камеры – чёткий контур прямоугольника окна, спроецированного ранним майским солнцем. Он разрезан на равные части толстыми прутьями решётки – звёздные кубики сахарного рафинада.
Утро, четверть пятого. Караульный, откашливаясь и матерясь, пытается раскурить первую сигарету, чиркая о коробок отсыревшими за ночь спичками.
Сосед-сокамерник, ёжась под куцей шинелью, пытается переменить положение затекшего на грубой шконке тела, поддерживая со мной затянувшийся разговор в жалкой надежде забыть о холоде. Скоро подъём. «Посетителям» гауптвахты много спать не положено.
– …а я ей и говорю: ты, милая, колготки бы надела, а то лапки замёрзнут. Как передвигаться-то станешь? Она щеками трясёт, зуб на зуб не попадает и за трусы держится. Мы с парнями тогда так смеялись, не поверит ведь никто – в сугроб с балкона…(смеется) если бы пьяная не была, убилась бы – точно тебе говорю, веришь? Вот бы сейчас пару рюмок, а то холод такой, что кости трещат. Слышь, Казанова, курить у тебя не осталось?
– Не, москвич, сигареты кончились, ещё вчера всё выкурил…
Взгляд туманится, скомканная влажным, пронизывающим холодом бессонная ночь отступила, и сознание стало меркнуть в лихорадочной попытке урвать последние перед подъёмом минуты отдыха…
Утонувшая в тополином пухе улица Герцена, прогретый июльским солнцем асфальтный пятак автобусной остановки и жёлтый, в пятнах битума и ржавчины, старый «Икарус №34», жмущийся трясущимся бортом к уставшим от жары и города дачникам.
Вижу их лица – суровые, напряжённые, в ожидании «кровавой» битвы за пятьдесят квадратных сантиметров на протёртом до дыр линолеуме задней площадки. Створки дверей открылись, издав полное презрения шипение, и схватка началась.
Слежу за последним «бойцом», с разбега влетающим в выпуклые края копошащейся массы, выпирающей из обеих дверей автобуса, словно поднявшееся дрожжевое тесто. Пара мгновений, и злорадно оскалившийся немолодой водитель, глядя в треснувшее зеркало заднего вида, тянется к заляпанным грязью и машинным маслом тумблерам, сработанным из двойного настенного выключателя, надёжно смонтированного поверх заводской панели управления. Створки медленно смежаются, утрамбовывая выдыхающих дачников, и, не дожидаясь окончательного смыкания, водитель начинает движение, резко притормаживая, уплотняя и сдавливая людскую массу.
«Икарус №34», набрав ход, покачиваясь и приседая, медленно тонул в клубах выхлопа от льющейся сверх меры смазки в давно требующие внимания цилиндры. Ещё миг, сизое облако укроет прозрачную гладь заднего стекла, и только теперь, за этой гладью, я рассмотрел знакомое до трепета лицо, в ореоле вьющихся каштановых волос. Тело напряглось, готовясь к стартовому рывку, а из открывшегося рта сорвался крик:
– Ксюша…
– Казанова, твою мать! Ты чего орёшь? Я чуть под шконку не напрудил. А говорят, что бабы только духам и слонам по ночам снятся. Ты завязывай с этим, а то караул бояться начнёт, осерчает и сигаретами делиться перестанет.
Здание гауптвахты военного гарнизона города Слоним не располагало к визуальному изучению. Переделанная из конюшен ещё царской таможни, постройка не таила в себе каких-либо излишеств и спустя век оставалась всё тем же стойлом, быть может, чуть более охраняемым. За его неказистые, приземистые стены я попал по собственной глупости и теперь расплачивался: ограниченной видимостью, ограниченным сном и ограниченным питанием.
– Эй, сержант! Как там тебя? Казанова. Дуй давай в штаб, там тебя уже ждут.
Мордатый ефрейтор, добавив пару слов с местным колоритом, отпер дверь камеры и, поправив на ремне штык-нож, отошёл, освобождая мне проход.
– Не знаю, чего ты ерепенишься? Хорошо же у нас в Беларуси: и погода тёплая, и еда, не то, что у вас в Сибири, – пропустив меня и запирая дверь камеры, продолжил караульный. – А присяга, чего? Ну, нет теперь СССР вашего, чего уж теперь.
– Деньги у вас с кроликами, а я жуть как Ленина люблю, – улыбаюсь в ответ. – А еды я пока так и не попробовал.
– Ну, ну…
Дорожка до штаба, выложенная из жёлтого кирпича, как в незабвенной сказке про мудрого волшебника, тянется вдоль полуразрушенных казарм, наскоро облитых белилами для придачи «надлежащего» вида армейскому хозяйству только что обретшей нечаянную независимость республики. У ещё ожидающего «преображения» штаба толпились офицеры, гомоня и выпячивая напоказ новёхонькие петлицы и шевроны на всё той же болотной форменной ПШ погибшего недавно государства.
– А, перебежчик! Проходи, – радостно встретил меня рослый майор в дверях пропахшего насквозь «Шипром» и «Родопи» кабинета под номером 13.
– Здравия желаю, господин майор!
– Вот никак не пойму, сержант, ну чего ты кобенишься? Можно же было и по-хорошему всё решить. А ты в бутылку лезешь. Мало тебе двенадцать суток в холодной?
– Четырнадцать сегодня…
– Как время-то летит, две недели, а Германа всё нет. Не надумал ещё выдать нам великую буржуинскую тайну?
Майор жестом выпроводил караульного и, указав мне на гостевой стул, устроился за рабочим столом, перебирая разложенные на нём бумаги.
– Вот они, твои запросы, – он взялся за пару листков с ровными рядами печатных букв и крупными печатями в верхнем и нижнем углах. – Пришли сегодня, гляжу, и вправду у тебя рука волосатая есть, первый раз вижу, что на запрос так скоро ответили, ну, или ты шпион, тут ведь как поглядеть.
– Бумаги в порядке? Я могу домой ехать?
– Куда ты так спешишь? А факт пересечения границы куда девать? А отсутствие документов…
– А пересечения, возможно, и не было никакого, в комендатуру я сам пришёл, и всё, что произошло, вы услышали из моих уст.
– Да, да. Слышал я уже и не раз: ВЧ 16456, отдельный батальон охраны при КГБ СССР, базировались в ГДР в городе Дрезден, отвечали за передачу немцам территорий, на которых располагались воинские части ЗГВ после вывода. Только вот всё, что случилось позже, не бьётся ни по каким документам.
Майор поднялся и, обогнув стол, подошёл вплотную ко мне.
– Ты говоришь, что после завершения передачи, вы с остальными сослуживцами, используя полученные от немцев сопроводительные документы и билеты на поезд, отправились к месту дислокации своей части, той, что, якобы, вывелась в наш город?
– Так точно…
– Только вот никакой информации, что часть ваша попала в Слоним, нет, ни одного упоминания ни в одном документе. Как ты это объяснишь?
– Возможно, это связано с распадом страны..?
– Ну, предположим, а как ты объяснишь, что из всех двадцати военных из вашей части, только ты один явился в нашу комендатуру?
– Вот тут я, конечно, дал маху.
– Поподробнее.
– Куда ещё подробнее, – пробурчал я и, повернув голову в сторону окна, за которым располагался плац, продолжил. – Говорил мне взводный: «Вали домой, страна развалилась, КГБ после путча не в чести, а с твоей ксивой только в вагонном туалете отсиживаться». А когда он узнал, что я в комендатуру собрался, вовсе на меня как на психа поглядел.
– Почему? – начальник штаба улыбнулся и потянулся за сигаретами. – Курить будешь?
Я кивнул, взял из мятой пачки сигарету.
– Он сказал, что задачу мы свою выполнили, документы от немцев получили. Часть вывели в Слоним десять месяцев назад, а связь с командирами пропала уже полгода назад. Последнее, что было слышно – её расформировали. Страна развалилась, Слоним теперь в чужой стране, и единственный путь – это двигать по месту призыва и восстанавливать документы дома, а не пойми где.
– А что не так с документами?
– Рассказывал ведь уже, – прикуривая, огрызнулся я. – Военник забрал начштаба для оформления сверхсрочной службы, взамен выдали офицерскую книжку, и по ней составляли все документы у «фрицев». А когда всё с путчем закрутилось, наши штабные в 24 часа испарились, как их и не было, а я остался без документов в чужой стране. Спасибо немцам, билеты купили, да сухпай на неделю выдали. Вот я и приехал по месту вывода части узнать, что да как.
– А мы тебя на нары! – рассмеялся майор.
– Ага, – улыбаюсь.
– Ладно, вернёмся к нашим баранам, к документам твоим, черт бы их побрал, – офицер затушил наполовину выкуренную сигарету и вернулся за стол. – Смотри какая штука: в этом предписании, что сегодня прибыло из твоего военкомата, нет отметки таможенной службы. Отметка военных есть, паспортный стол подтвердил, а таможня добро не дала.
– А как мои сослуживцы без этой отметки уехали?
– У них прямой поезд был – «Берлин-Москва», а у нашей страны теперь договор есть с Германией о прямом сообщении. Если бы твои товарищи, как ты, вышли бы из вагона в транзитной стране, к ним бы тоже возникли вопросы, но самым умным оказался лишь ты.
– Понятно, можете не продолжать. Что делать-то теперь?
– Возьмёшь ефрейтора Чебало и пойдёте на переговорный пункт. Вот тебе шесть тысяч, позвонишь домой, пусть новую бумагу шлют, с отметкой таможни…
Тяжёлый дух кабинета в распахнутом окне переплетается с летним воздухом снаружи, и воздух теряет прозрачность, вибрирует, словно тает в жару. Край оконной рамы оптически соединяется с новым флагштоком вдалеке – дежавю. Тонкая нить сигаретного дыма, поднимающаяся от пепельницы на подоконнике, тоже знакома. Она растворяется в утреннем ветерке, как воспоминания на страницах дневника.
После холода и серости камеры город кажется волшебным видением. Хотя старинные городские укрепления не дошли до наших дней, ни от древнего городища, ни от более позднего Замчища не осталось никаких следов.
Мы оказываемся на площади. Прямо перед нами возвышается фарный костёл. Пересекая мост через канал, попадаем в сердце старого города. Вот и переговорный пункт.
Сегодня, впервые за два с половиной года, услышу Ксюшин голос. Почему-то я точно это знаю, как тогда, давным-давно, в зимний морозный вечер, знал, что она ждёт меня, сидя на широком подоконнике в своей комнате и прислушиваясь к случайным звукам из-за закрытой входной двери.
– Номск! Кто вызывал Номск? Четвёртая кабина.
– Алло…
Её голос. Чуть погрубевший, наверное, плохо себя чувствует. В груди ком, секунду-другую борюсь с волнением.
– Пустынной улицей вдвоём, с тобой куда-то мы идём, а я курю, а ты конфеты ешь…
– Привет, ты откуда звонишь?
Голос удивлённый, сдержанный.
– Привет, любимая. Мне нужна твоя помощь.
Глава 2
21 марта 1989 года Президиум Верховного Совета СССР принял решение о сокращении советской армии и оборонных расходов в течение двух последующих лет. Армия должна была уменьшиться на полмиллиона военнослужащих, а военный бюджет – на 14,2%.
Эти события стали отправной точкой для вывода Западной Группы войск из Германии, ранее известной как ГСВГ. Процесс вывода разворачивался следующим образом.
12 сентября 1990 года представители шести государств (ФРГ, ГДР, США, Франция, Великобритания и СССР) подписали соглашение об объединении Германии. Фактически, ФРГ присоединила к себе ГДР. В этом договоре оговаривалось временное пребывание советских войск на территории Восточной Германии. Москва обязалась полностью вывести войска до конца 1994 года.
Генерал Борис Снетков, командующий Группой войск, отказался выполнить приказ о выводе войск в Советский Союз, заявив о нежелании разрушать созданное маршалом Жуковым.
За неподчинение приказу он был отстранен от должности, и его сменил Матвей Бурлаков, ранее командовавший Южной Группой Войск (Венгрия).
Перед новым командующим стояла сложная задача. Западная Группа войск, дислоцированная в ГДР, была самой крупной группировкой и должна была прикрывать границу в случае войны на время мобилизации сил СССР и других стран Варшавского договора. В состав ЗГВ входили три общевойсковые, две танковые и одна воздушная армии.
Общая численность личного состава превышала 330 тысяч человек. Вместе с семьями на родину необходимо было переправить более полумиллиона человек.
Кроме того, ЗГВ располагала огромным количеством современной военной техники и 2,6 млн тонн материально-технических ресурсов, включая более 650 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ядерные боеголовки, подлежащие первоочередной отправке в СССР.
Для перевозки людей, техники и грузов планировалось использовать железнодорожный и морской транспорт в течение четырех лет, с 1991 по 1994 год.
Однако от железнодорожных перевозок едва не отказались из-за требований Польши о ремонте всех мостов по пути следования воинских эшелонов и оплаты за проезд каждой оси вагона.
Размер требуемой суммы был совершенно запредельным. Для компенсации всех затрат на транспортировку военнослужащих и техники, Германия предоставила лишь 1 миллиард немецких марок.
Немецкому правительству удалось склонить Польшу к снижению своих финансовых претензий. В итоге, 30 сентября 1994 года, последний, пятнадцатый тысячный, воинский состав триумфально отбыл с берлинского вокзала Лихтенберг.
***
Дорога к вокзалу казалась бесконечной. Я впервые за этот месяц был предоставлен самому себе. И хотя я был облачён в парадную форму (моя импортная гражданская одежда была с радостью и безвозвратно экспроприирована в стенах узилища), сшитую по последнему писку местной армейской моды, её строгий и угрюмый вид навивал на меня уныние, столь неуместное при сегодняшнем событии.
Местная штабная свора всё же вняла моим доводам, а скорее телефонному звонку, поступившему на прямой телефон начальника Слонимского гарнизона от кого-то очень важного в местной армейской иерархии. Меня срочным образом доставили в одну из местных ВЧ, отпарили в офицерской бане, переодели и поставили на временное довольствие.
И вот теперь, ещё раз проверив правильность написания своей фамилии в полученной в штабе увольнительной, я выдвинулся встречать маму, решившую самолично доставить столь драгоценное для меня предписание со всеми подписями, печатями и разрешениями.
Слонимский вокзал – яркая жемчужина, украшающая город, заслуженно почитающаяся за свою историческую ценность и неповторимый облик. Первые поезда к его стенам начали прибывать ещё в конце XIX века по стальной нити, связавшей Барановичи и Варшаву. Однако свой законченный, исполненный величия архитектурный облик здание обрело лишь в начале XX столетия.
В архитектуре вокзала, словно в зеркале, отразились изящные черты модерна и пышность необарокко. Фронтон над входом, подобно короне, увенчан богатым декором, заслуженно приковывая взгляды и навсегда врезаясь в мою память.
Я стоял на каменном перроне станции и ждал поезда. Не один, конечно. Три десятка встречающих составляли мне довольно шумную компанию, подтверждая известную идиому, что в маленьких городах – каждый житель либо родственник, либо знакомый. Горожане громко приветствовали друг друга, издали размахивая руками, кивали в знак уважения, обсуждали новости и погоду, смеялись и ругали опаздывающий поезд.
Состав наконец появился на горизонте. Он приближался медленно, приветливо посвистывая громким гудком и слепя встречающих, тут же повернувших головы в его сторону, мощным лучом головного прожектора. Его яркий свет был виден издалека, у самой границы слияния рельсов. Люди щурились и прикрывали ладонями глаза, но уже не выпускали поезд из виду. Горожане всё еще что-то говорили друг другу, еще обсуждали какие-то новости, но по-настоящему их мысли уже были с этим поездом и с его пассажирами.
Я не знал, в каком из вагонов едет мама, и только сейчас понял, что встречаю её впервые за всю свою жизнь. Отец, мама и брат путешествовали часто, объехав всю страну вдоль и поперёк. Я в этих поездках участвовал редко, ссылаясь на занятия спортом и учебу. И вот теперь проникся духом странствий, подспудно представляя обратный путь домой, пусть даже и с неинтересным, но всё же родным попутчиком.
Мама, как же я соскучился.
Я всматривался в закопчённые окна вагонов, скользивших мимо меня, пытаясь высмотреть её лицо в тёмных купе, среди копошащихся в финальной лихорадке пассажиров, а в душе нарастал щемящий ком счастья. Сейчас она появится в узком просвете вагонных дверей, в тёмно-зелёном своём свитере, в строгих серых брюках, сшитых подругой-закройщицей по выкройкам журнала «Бурда», в туфлях-лодочках из чёрной кожи (мама всегда стеснялась своего роста и поэтому предпочитала туфли без каблуков), и всё станет по-прежнему: работа, учёба, помощь по саду и дому, редкие разговоры на маленькой кухне, сетования на мою безалаберность, встречи с друзьями и улыбка Ксюши…
Мама вошла в комнатку, где я спал эту ночь, еле слышно отворив приземистую дверь. Этот дом она арендовала у смешной старушки, забавно коверкающей русские слова в вялой попытке получить у редких приезжих «немного на жизнь» за пару комнат в её старом частном доме. Она долго стояла в дверях, не решаясь заговорить, боясь, наверное, потревожить мой сон. Смотрела на меня, прислонившись к косяку, сложив на груди руки, и улыбалась. Я тоже тайком разглядывал её через смежённые веки, притворяясь спящим, как в детстве.
– Проснулся, – проговорила она с усмешкой. – А я смотрю, веки подёргиваются. Как спалось, не замёрз?
Я открыл глаза. Улыбнулся в ответ.
– Не замёрз. Чего ему будет-то.
Я уселся на кровати, поводя носом, учуявшим запах яичницы. Так делает любой пёс, когда жарят мясо. Я даже представил пару жёлтых глаз в белой глазури на раскалённом диске чугунной сковороды и чуть не подавился тут же выступившей слюной. Сделав пару шагов, мама присела на край кровати.
– Даже в тюрьме есть свидания, – всё так же улыбаясь произнесла она. – Я не видела тебя два с половиной года. Ты стал очень взрослым, хоть и похудел…
– Местная кухня, мадам, так и не смогла найти путь к моему желудку. То ли дело твоя яичница.
– Болтун. А кому-то не нравилась моя тушёная картошка. Ты не помнишь, как сам начал готовить? А я помню. Твой младший брат до сих пор вспоминает, как ты лагман делал и картошку фаршировал.
– Эх, знала бы ты, сколько раз я мечтал о твоём борще и о твоей картошечке с мясом из скороварки.
Мама покачала головой, рассматривая мои пальцы с жёлтыми пятнами никотина.
– Ты начал курить?
– Пришлось.
– Это как?
– В армии, как и в тюрьме – если ты не куришь, значит, в перекур работаешь.
– Бросишь?
– Очень на это надеюсь. Но ничего нельзя утверждать, – я опять улыбнулся. – Зато я бросил пить.
Мама строго смотрит на меня. Вьющиеся волосы, нос с горбинкой, мелкие морщинки в уголках карих глаз. Я уже и забыл, какая она у меня красивая.
– Опять шутишь?
– Почти нет. Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся.
– Отец на уши поставил весь город, чтобы бумаги тебе выправить. После того как их эти местные забраковали, пришлось ещё один круг по кабинетам сделать, Бог весть, что ему это стоило. Хорошо, Ксюша твоя пришла сразу. Рассказала, что звонил и отца своего попросила помочь. Он вроде знает кого-то… Красивая такая и одета хорошо.
– Спасибо!
– Отцу скажи, – поднимается. – А теперь марш на кухню, еда стынет. Документы у нас на руках, билеты нужно обратные купить, поезд отправляется ночью. Сегодня вторник, в субботу утром будем дома.
Глава 3.
17 января 1989 года.
Дневник 1.
Я начал вести тебя, чтобы сохранить мельчайшие детали моего СЧАСТЬЯ. Да, я счастлив! Каждое мгновение приобрело смысл, я наконец по-настоящему родился, я живу, я стал ВИДИМЫМ!!!
И нас двое! Мы – две половины одного целого.
Не важно – бродим ли мы молча по городу, готовимся ли к учёбе, сидя в комнате каждый со своим учебником или конспектом, рассматриваем ли наши вытянутые тени, размазанные по тёмному асфальту под блеклым неоновым светом уличного фонаря. Тепло.
Ходили в парк Пионеров, бегали по лабиринту ледяной крепости. Целовались до боли в отмороженных губах, потом неслись как угорелые домой, пили волшебный чай Виктории Александровны, ужинали, любовались алыми от мороза щеками (зря я их натёр колючим снегом), читали вслух Дюма, придумывая «французские» слова.
А ночью я видел Ксюшу во сне. Курносое чудо с горящими в темноте глазами. В цветастом платье и модных лоферах с большими золотыми гербами.
Время остановилось 17 января 1989 года.
***
Трудно себе представить, что были времена, когда не существовало возможности просто пойти и купить модную обувь. Её доставали с трудом и риском через спекулянтов, обменивали на дефицитные талоны, часами простаивали в очередях, либо покупали у знакомых, которым обновка не подошла – результат долгих ожиданий, приобретенный лишь бы не уйти ни с чем, а затем выставленный на перепродажу.
Основная масса стильной обуви поступала из стран социалистического блока: Венгрии, Румынии, Чехословакии и Болгарии. Югославская обувь, более мягкая и элегантная, считалась особенно престижной.
В конце 80-х годов прошлого века, когда сквозь однообразие пробивались первые признаки перемен, многое стало доступнее… при наличии денег.
Ни прилавков, ни столов – только живой коридор из торгующих с товаром в руках и медленно двигающийся поток покупателей, жадно ищущих нужную вещь. Туфли Salamander (Салома), Scorpione (Скорпы), мокасины с бахромой из тонко нарезанной кожи (Лапша), Адики и Пума – сверхдорогой и самый редкий товар, обувь из Западной Германии, Франции и Австрии оставалась заветной мечтой, вершиной желаний.
***
Я открыл глаза, и первое, что пришло в голову – свобода! Не нужно ждать криков дневального, построения и команд офицеров, думать о влажном и мрачном холоде стен, за которыми меня «поселили» собственные решения и действия. Состав, явно сбавив ход, нехотя катился сквозь утреннюю пелену тумана, цепляющегося за посветлевшие окна купе непроглядной плотной ватой.
Мысли были свежи, как лёгкий сквознячок, струившийся через небольшую щель в неплотно прикрытой створке окна. Я лежал на верхней полке, под шерстяным и пыльным одеялом, точно таким же, как в любой солдатской казарме – видимо, их производили на одной и той же фабрике. Скорый фирменный поезд № 14 «Берлин – Москва» упрямо стремился попасть в конечный пункт назначения, сохранив минимальное (в один час) отставание от расписания.
– Граждане пассажиры, – раздался всепроникающий голос проводницы, заставивший вздрогнуть каждого, кто имел возможность слышать. – Поезд въезжает в санитарную зону. Через сорок минут мы прибудем на Белорусский вокзал столицы нашей родины – города-героя Москвы. Туалеты я закрываю.
Последнюю фразу она произнесла с особым удовольствием, и мне тут же захотелось добавить:
«Кто не спрятался, я не виноват!»
Вагон в одно мгновение превратился в улей, нечаянно потревоженный беспечным бортником. Дремотность и тишина сменились хаотичной и шумной кутерьмой, словно люди только и ждали «волшебных» слов проводника.
Состав застыл у заасфальтированного перрона. Двери отворились, и людское море хлынуло из них, разливаясь вдоль серых стен вокзальных зданий. Редкие встречающие суетливо копошились в этом потоке, стараясь разглядеть знакомое лицо, часто «выныривая» над движущейся поверхностью.
– Мам, во сколько у нас поезд? – дождавшись, когда наши попутчики выдвинулись в сторону выхода, спросил я.
– В 16:40 с Казанского, – отозвалась мама, стягивая наволочку с жидкой подушки, набитой комковатой ватой. – У нас есть три-четыре часа на разграбление города.
– Тогда на Арбат и в Александровский сад?
– Лучше в ГУМ, нужно тебе что-нибудь из одежды купить. Всё, что я тебе привезла, кроме футболки и носков, мало, а в военной форме, я думаю, ты и сам не пойдёшь.
– В этом ПШ я словно с Великой Отечественной вернулся. Боюсь, что каждый встреченный нами патруль будет интересоваться, откуда такой бравый партизан взялся.
– Одень мою кофту, брюки сверху прикрой. Ремнём их затяни, чтобы не спадали, – протягивая мне свой свитер с высоким воротником, заговорила она. – Хорошо, что кроссовки тебе впору, хотя и в ботинках вроде ничего… Как же я не догадалась твой спортивный костюм взять! Бегала по военкоматам и в КГБ, он теперь ФСБ называется, а про одежду не подумала.
– Мне в комендатуре деньги какие-то дали, дорожные, тысяч шесть, на российские что ли? – натягивая мамину кофту, поинтересовался я. – Может, хватит на штаны?
– На сигареты хватило бы. Сейчас ценники такие, что не знаешь, на хлеб хватит или нет.
Мы вышли на уже опустевший перрон. Я тут же потянулся за сигаретами, отметив, что пачка купленной в Слониме «Магны» почти пуста. В Германии я плотно подсел на «HB», меняя выдаваемые в части «Охотничьи» и ярославскую «Приму» у местного деда, служившего в сороковых в вермахте и попавшего в русский плен. Обмен проходил один к двум в мою пользу, к великой радости обеих сторон.
– Сигареты купить нужно, – пробурчал я. – А в ГУМ мы с тобой не поедем. Доберусь до дома в том, что есть. Не голый, и слава богу.
– Правда, доедешь?
– Доеду! Дома есть что надеть, не всё перед армией продал. Да и привёз я из Дойчланда кое-что…
– Куда привёз? – остановилась мама.
– Взводный мои вещи вывез, – увлекая её за собой, ответил я. – Он в Кокчетаве живёт. Гнал машину себе и вещи мои заодно увёз.
– Кокчетав теперь в другом государстве, как и сослуживец твой. Так что сильно на него не надейся. Он хоть русский, взводный этот твой?
– Русский! – буркнул я, направляясь ко входу в метро.
Сигареты я всё же купил на площади Трёх вокзалов в неказистой коммерческой палатке, сваренной из железного листа и кое-как покрашенной половой краской цвета милицейской шинели. Блок «Магны» потянул на три тысячи, вдвое уменьшив мои транспортные.
Трое суток до дома тянулись целую вечность, усугубляемую вонючим и тесным застенком старого, раздолбанного плацкарта, в котором усилиями предприимчивых работников железной дороги были распроданы даже самые верхние полки, раньше используемые исключительно под багаж.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе