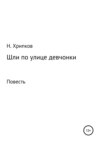Читать книгу: «Зачем ты воскрес», страница 9
Охранник провожал долгим плотоядным взглядом каждую молодую симпатичную женщину. Когда они проходили мимо, он буквально преображался. Это был другой человек, полный огня и страсти. Жизнелюбец, плотолюбец, брызжущий энергией. Подскакивал, сам вертел вертушку и обязательно отпускал какой-нибудь комплимент или шутку. При этом глаза его сияли, ножками он перебирал как застоявшийся жеребец.
Пузатый охранник был очень неравнодушен к слабому полу. И не использовать это было бы просто преступлением по отношению к нему.

Подруга Ударника как раз подходила на ту роль. Классная фигурка, смазлива. А кокетка еще та! И покойника могла бы завести с пол-оборота и вселить в его душе ненужные надежды. В искусстве заигрывания ей не найти равных. Звали ее Надей. Ударник к ней обращался «моя Надежда». Он был уверен, что такое обращение должно было ей льстить.
Надя работала секретаршей. Шефом у нее была суровая пожилая дама. Так что в анекдоты про секретарш она никак не вписывалась. Соблазнять ее было некому. По крайней мере, в рабочее время. Что вполне нравилось Ударнику. Ведь ревность отнимает столько энергии!
В нерабочее время ее единственным соблазнителем был Ударник. По крайней мере, он верил в это. Что делает ему честь как мужчине, который уважает женщину и видит в ней человека.
Надежда была не только симпатична и соблазнительна. Еще она была и авантюристкой, любившей всякого рода розыгрыши. И это облегчало задачу Ударника.
Ее даже уговаривать не пришлось. Она сразу загорелась и стала предлагать различные варианты соблазнения женолюбивого охранника. Ударник охладил ее:
– Не забывай, что я ревнив, как Отелло. Надеюсь, ты не забыла, как закончилась жизнь Дездемоны? Удушение жен, даже невинных, еще никто не отменял.
– Ах, я уже жена? Наконец-то дождалась! Знаешь, сколько я ждала этого момента!
– Я уже говорил, что пока не стану доктором наук, не женюсь. Зачем такой девушке нужен рядовой докторишка?
– Выходит, что я стану женой дряхлого старичка.
– Ты станешь женой лауреата Нобелевской премии, самого молодого академика, полного сил, красивого, как Аполлон. И все твои подруги подавятся слюнями.
– Тогда ладно! Я отказываюсь от охранника. Можешь даже не ревновать! Он и пальцем ко мне не прикоснется. Самое большое, что я ему позволю, это похотливые взгляды.
Он поцеловал ее.
– Ты не только красавица, но и умница. Что большая редкость для вашего брата. Но иногда случается. Очень редко, правда. И какое счастье, что это оказалась ты.
– Ты женофоб.
– Но тебя-то я люблю.
– Если бы любил, то давно бы женился, а не отделывался легкомысленными обещаниями.
– Тебе же обязательно нужен муж-академик, а на меньшее ты не согласна. Или я что-то путаю?
– Я согласна просто на мужа.
– Да будет, будет тебе, Надюша, муж. Любящий, внимательный, заботливый и хорошо одетый. Меня очень этот инкогнито задел. Что-то мутят с ним непонятное. Извини за высокопарность, но это наш человеческий долг помочь ему. Так что миссия наша благородна, хоть и с душком авантюризма. Но без этого никак.
– Мы сделаем это. А ты разрешишь мне надеть ту сексапильную юбочку, на которую ты так клюнул, когда увидел меня в первый раз. Я никогда не забуду твоего взгляда.
– На такую юбку любой клюнет. Этот охранник про все забудет и на все будет согласный, когда ты предстанешь перед ним в этой юбке. Но переигрывать тоже не нужно.
Операцию назначили на следующий день, потому что в этот день женолюбивый охранник заступал на дежурство. Обсудили в последний раз детали. Всё-таки риск был.
ХОМЕНКО
Хоменко отвели в палату.
– Эх, немтырь, ты немтырь! – сокрушался Василий Иванович. – Даже не узнаешь, куда и зачем тебя водили. Скучный ты человек, иисусик. Вот Бог послал же такого соседа.
– С соседом нам не повезло, – согласился Кумыс. – Одно только и радует, что не буйный. Хотя для буйных другая палата. Представляете, мужики, что там творится?
– Братцы! Повезло нам! Повезло! – забубнил Баранов. – Он еще покажет себя, раскроет. Поверьте мне, ждать нам осталось недолго. И будет явление! Будет! Помяните мое слово! Иисус молчал двадцать с лишним лет, копя в себе божественную силу. А потом как всё это выплеснул на людей. Сначала нужно создать в себе внутреннюю силу.
– Тебе обеспечено пожизненное пребывание в дурке, – буркнул Кумыс. – Ну, нормальный человек разве такую чушь будет пороть? Да и не всякий ненормальный додумается до такого.
– А я, знаешь, что думаю? Ты, Кумыс, дай ему снова свой ежедневник и авторучку, – сказал Василий Иванович. – Говорить он не может, а рисует-то во как! Как настоящий! Нарисовал же он тогда девушку. Да так, что понятно, что он ее хорошо знает. Ведь как всё в подробностях вывел! Каждую волосинку прорисовал!
– Можно!
Кумыс подошел к Хоменко и стал знаками разъяснять, разумеется, комментируя это и словами. Хоменко смотрел на него, улыбаясь, изредка хлопал глазами.
– Это… нарисуй, где ты был, кто там был, нарисуй!
Хоменко схватил ежедневник, погладил его толстую коричневую корочку и открыл на чистом листе. С ногами забился в угол кровати. Лицо его просветлело, стало радостным, как у ребенка, которому наконец-то разрешили заняться любимым делом. Тут же принялся рисовать.
– Да! Искусство даже сумасшедшего возвышает, уносит туда в заоблачные выси.
Василий Иванович покрутил рукою над головой.
– Да какой он сумасшедший! – воскликнул Кумыс. – Тогда надо всех глухонемых записать в сумасшедшие. Вот говорил бы, и был вполне нормальный, как мы с вами.
– Верно! – согласился Василий Иванович.
Их ожидания оправдались. Хоменко настолько увлекся, что остальной мир перестал для него существовать. Визит в кабинет заведующего поликлиникой был ярким событием в его серых больничных буднях. Там он себя почувствовал интересным и нужных для других.
Он изобразил молодого худощавого мужчину с маленьким молоточком в руке. Глаза человека с молоточком смотрели прямо на вас и просвечивали нутро словно рентгеном. За столом сидел пожилой мужчина. Себя он изобразил со спины. И был уверен, что именно так выглядела бы картина, если бы кто-то в этот момент зашел в кабинет. На подоконники стоял большой керамический горшок с геранью.
Соседи терпеливо ждали, тихо переговариваясь между собой. Они были уверены, что если заговорят громко, то помешают Хоменко.
Конечно, сгорали от нетерпения. Кумыс несколько раз порывался, вставал, вытягивал шею, но тут же одергивал себя и возвращался на место, понимая, что художника торопить нельзя.
– Рисует и пусть рисует! – сказал Василий Иванович. – Мы же поймем, когда он закончит. Да и какой художник не хочет, чтобы его картины увидели другие. Для этого они и рисуют. Дернешь раньше времени, и кто его знает, замкнет что-нибудь в голове. Это такие тонкие натуры. С ними обхождение нужно, как с дамами.
Рука Хоменко стала двигаться медленнее, потом почти остановилась, поднялась над ежедневником. Он отнес ежедневник на расстояние и стал его внимательно рассматривать, видно решая, всё ли он закончил или еще что-то можно добавить.
– Кажется, всё! Действуй, Кумыс!
Кумыс поднялся и стал жестами объяснять, что они хотят посмотреть рисунок. Хоменко посмотрел на ежедневник, потом на Кумыса и улыбнулся. Протянул ему ежедневник.
Уселись рядком.
– Ну, вот это за столом Иван Васильевич. Как похоже он хмурит брови. Просто вылитый. Вот этого мужика впервые вижу. Но в медицинском халате. Значит, тоже врач. Видно, не из нашей дурки. Значит, о чем-то консультировались на счет нашего иисусика. Вот со спины он нарисовал себя,– комментировал Василий Иванович. – Я был один раз в этом кабинете. Всё точно, как и есть. Копия. Художник, что тут скажешь!
– Видите у молодого молоточек, которым проверяют реакцию.
– Ну, я же говорю, что консультировались на счет нашего иисусика. Интересно, что они там наконсультировались.
– Что бы ему ни заговорить? – вспыхнул Кумыс. – Ведь рисует же! И как рисует! А ведь говорить проще, чем рисовать. Я вот и кружочек не могу толком нарисовать.
Хоменко замахал рукой.
– Наверно, чего-то хочет.
– Это он ежедневник снова просит,– сказал Баранов, который был уверен, что лучше всех понимает Хоменко.
Кумыс протянул ежедневник. Хоменко стал листать его, а потом повернул, показывая всем тот самый рисунок девушки. Лицо новоявленного художника озаряла счастливая улыбка. Он вытянул губы вперед, округлил и стал тянуть долгое О. троица с удивлением переглянулась. Чего это ему вздумалось выть, как голодному волку?
– Не хрипит же!
– О! Что он хочет сказать? Что значит это О? – вопрошал Василий Иванович. – Ведь что-то же хочет сказать! И почти чисто О тянет без всякого хрипа. Значит, всё у него там в горле в порядке.
Хоменко ткнул пальцем в рисунок и снова завыл:
– Ооо!
– О? Что это значит? Ее зовут Ольга? Эту девушку, которую ты нарисовал, зовут Ольга?
Хоменко обрадовался, улыбался, глаза его блестели. Он с любовью поглядывал на своих соседей. На щеках его выступил румянец. Он закивал головой. С благодарностью погладил руку Василия Ивановича, который назвал это имя.
– Видите, братцы!
Василий Иванович потер ладони и подмигнул своим соседям. Они закивали, тоже обрадовавшись.
– Вот и раскрывается тайна. Он нарисовал некую Ольгу.
– Сейчас в интернете есть такие программы, – сказал Кумыс, который был самый технически продвинутый из них. – По фотографии или рисунку находят человека.
Василий Иванович скривился. Не любил он этих новшеств. Чем их больше, тем слабее человек.
– Говорят, в Москве кур доят. Тут к телефону даже не подпускают. Даже зэкам раз в месяц разрешают позвонить. А у нас тут строже, чем в тюрьме. Какой, к ядрёной фене, интернет!
– Подождите! У меня есть идея! – воскликнул Баранов.
– Баранов! Как у тебя только язык поворачивается говорить такое? Идея и Баранов – это вещи несовместимые. У тебя в голове только опилки, как у Винни-Пуха.
Одним из достоинств Баранова, если это можно назвать достоинством, было то, что он не обижался на те обидные слова, что звучали в его адрес.
Баранов отнес ежедневник Хоменко. И стал знаками показывать на себя и на ежедневник. Хоменко улыбнулся и кивнул. И принялся быстро рисовать, то и дело бросая взгляды на Баранова, который застыл как статуя древнеримского императора. Наконец рисунок был готов.
– Вылитый Баранов! – восхитился Кумыс. – Эх, если бы еще и в красках. Я цветные картинки люблю.
– Даже твое пустое внутреннее содержание сумел передать, – не удержался Василий Иванович. – Это и отличает настоящий талант: он рисует внешность, а передает сущность.
– Он художник, – сказал Кумыс.
– Или это его хобби, – добавил Василий Иванович. – Для некоторых хобби важней, чем основная работа.
– Еще мы знаем, что он любит Ольгу.
Это уже Баранов, который никак не мог оторвать глаз от собственного изображения.
– Не знаем самого главного. Кто он? Как его зовут? Откуда он взялся? Почему он оказался тут?
– У меня тоже есть идея, – сказал Кумыс.
Он полез в тумбочку. Возле каждой кровати стояла небольшая тумбочка, в которой пациенты хранили свои немногочисленные вещи.
В тумбочке у него лежала электрическая бритва в черном пластиковом корпусе. Станками пациентам не разрешали бриться. Все острые предметы держать было запрещено. Отбирали их. А электрические бритвы разрешали, такие, которые были на аккумуляторах, потому что в палатах не было розеток. Вдруг кому-нибудь взбредет что-нибудь туда затолкать. Санитары брали бритвы и относили их на зарядку. Щетина, бороды и усы не приветствовались. Обрезали и длинные шевелюры.
Кумыс достал круглое зеркало на подставке. Подошел к Хоменко. Хоменко поднял голову и улыбнулся. Поднес ему к лицу зеркало. Хоменко внимательно рассматривал свое отражение. Кумыс ткнул пальцем в зеркало, потом стал показывать Хоменко, что он должен нарисовать себя. Пусть глядит в зеркало и рисует.
Хоменко улыбнулся и кивнул.
– Понимает, черт головустый! – усмехнулся Василий Иванович. – Значит, не совсем того – самого. То уже списали человека: «Ничего не понимает! Полный овощ!» Мы его еще тут и вылечим. Он у нас еще, как Цицерон, заговорит. Еще лекции будет читать. Нельзя человека списывать, нельзя на нем ставить крест.
– Твоими бы устами, – вздохнул Кумыс.
Между тем Хоменко, поставив перед собой на тумбочку зеркало, увлеченно рисовал, то и дело поглядывая на свое отражение. Казалось, что сейчас для него весь остальной мир не существует.
– Художник у нас есть,– сказал Баранов. – Нам бы еще музыканта в палату. С инструментом, конечно.
– Балетную труппу не хочешь? – усмехнулся Василий Иванович.
– Нет, Василий Иванович, согласись, что хорошо, когда тебя окружают творческие люди. И сам обогащаешься и приобщаешься, так сказать, к духовным высотам.
– У нас в каждой палате, Баранов, творческие люди. И пушкины есть, и моцарты, и репины, и великие полководцы, и правители. Возвышайся по самое не хочу. Вон в пятой, говорят, поселили какого-то казаха, так он объявил себя Чингисханом и собирается со дня на день отправиться покорять мир. Одного только ему не хватает: коня.
– Василий Иванович, тебе бы только шутки шутить. А я ведь серьезно. Искусство – это высшая форма существования духа.
– Серьезное отношение к жизни больше всего портит жизнь.
Хоменко замер. Отодвинул от себя ежедневник. Потом поднес ближе к глазам и долго рассматривал.
Потом передал ежедневник Кумысу.
– Похож! – воскликнул Кумыс
Его товарищи тоже долго рассматривали рисунок. Особенно им понравилась улыбка на автопортрете.
– У молодых это называется селфи,– сказал Кумыс. – Ну, это когда сам себя фотографируешь.

Потом Хоменко рисовал своих соседей.
– Когда выйду из дурки, закажу рамочку под свой образ и повешу картинку на стене, – гордо сказал Кумыс.
– Подпись сделай «Я в дурдоме. Рисунок неизвестного художника».
– Еще неизвестно, когда мы выйдем отсюда и выйдем ли вообще, – вздохнул Баранов. – Всё это похоже на пожизненное заключение. Хоть бы приблизительно срок сообщали.
– Вот, Баранов, когда ты выйдешь отсюда, то чем займешься? Снова пойдешь на ферму или будешь нести слово истины? – спросил Василий Иванович не без издевки.
Но Баранов был невосприимчив к иронии. И казалось, что он даже не чувствует ее.
– Меня после дурки на работу не возьмут. Да и слушать не будут. Я же псих. Это пожизненное клеймо, крест, который мне суждено нести до конца земной жизни.
– Значит, дома будешь сидеть?
– А кто меня кормить будет? Если только манна небесная просыплется. Но может и не просыпаться. Жена получает хрен да маленько. Калымить буду. Дрова там переколоть, уголь перекидать, зимой снег, где что подремонтировать, построить. Поставить там дровяник или углярку, крышу перекрыть. В деревне всегда рабочие руки нужны. Хозяйство разведу. Как-нибудь выкручусь. На шее у жены сидеть не буду. Женщина она у меня терпеливая и добрая. Даже ругаться, как следует, не умеет.
– Мне-то что? Я пенсию получаю, – сказал Василий Иванович.
– А я первым делом разведусь и женюсь на своей ласточке, – мечтательно произнес Кумыс.
– Сказавший А, должен сказать и Б,– заметил Василий Иванович. – Но только, Кумыс, ласточка ни разу не заглянула в твое гнездышко. Может быть, уже с другим спарилась. Случившееся единожды может повториться и вновь. Ты же не будешь это оспаривать? Или имеешь что-то возразить? Готов тебя внимательно выслушать.
– Свидания же разрешают только с близкими родственниками, женой, матерью, детьми. А ведь она, сука, сама не приходит и ребят не приведет. На развод подала и бизнес мой забрала. Если бы Мариночка была мне женой. Наверно, уже сколько раз пыталась увидеть меня! Она меня понимает, я уверен в этом.
– Знаете, а у меня есть идея! – воскликнул Баранов. – Давайте устроим выставку картин нашего художника. Это просто свинство скрывать талант, тем более чужой. Пусть оценят нашего художника со стороны. Здесь же есть и весьма интеллигентные люди.
– Потом тебе устроят выставку в процедурной. Или не знаешь, что у нас любая инициатива наказуема? – заворчал Василий Иванович. – Так что сиди, как мышь под веником. И прежде, чем языком молоть, думай, что говоришь. Особенно в присутствии начальства.
– Что же тут такого? Это же искусство! Оно возвышает!
– Ага! – усмехнулся Василий Иванович. Скривил губы, как он всегда делал, когда разговаривал с неразумным человеком. – Один умный человек сказал: «Не надо прыгать выше головы. Всё равно ничего не получится». Тут музыкант был. Моцартом себя величал. Но рояля у него не было. И вообще никаких музыкальных инструментов. Ну, и как можно показать свой талант, не имея никаких средств? Он натаскал с кухни пустые консервные банки и давай на них разыгрывать симфонию. И каждая банка была у него особым музыкальным инструментом. «Это, – говорит,– для гармоничного сочетания звуков». Ему такую музыку устроили, что еле очухался. Трое суток пластом лежал и стонал. Тяжело было, бедолаге. Хорошо рядом были сердобольные люди, помогли ему в беде. Каких-то таблеток, облегчающих дали.
– Одна надежда, – вздохнул Баранов.
– Какая тут может быть надежда, – вопросил Кумыс, – в этом безнадежном месте? Хоть бы работой какой загружали, всё было легче. А мы даже права на труд лишены.
– На него надежда. Когда он разверзнет уста и изречет истину и покажет праведный путь. Это будет концом наших страданий и началом новой счастливой жизни.
– Не надоело, Баранов?
– Да, я понимаю. Люди обретают веру тогда, когда видят чудо. И в Христа многие поверили только после того, как он явил чудеса. Вы не верите. Но когда он совершит чудо, вы обретете веру.
– Баранов! Я убью тебя! – прошипел Кумыс. – Ты уже становишься невыносимым.
Разом почему-то взглянули на Хоменко. Он оперся спиною на стену и дремал. голова его наклонилась к плечу. Лицо у него было умиротворенным, как у человека, которого не мучает совесть.
– Ребенок! – умилился Василий Иванович. – Утомился, бедолага.
– Может быть, его положить? – предложил Кумыс. – Лучше спать лежа, чем сидя.
– Разбудим.
– А мы осторожно.
– Давайте я? – предложил Баранов. – Чего всем-то суетиться? Я и уложу его. Аккуратно.
– Баранов! Заискиваешь? Чтобы тебя он потом больше всех облагодетельствовал, – не удержался Василий Иванович. – Ну-ну! давай старайся! Будешь его первым апостолом.
Баранов повернул Хоменко и стал опускать его на подушку, придерживая за плечи. Лицо Хоменко оставалось всё таким же спокойным и умиротворённым. Он тихо сопел. Так опускают на стол драгоценную вазу, боясь, что она может выскользнуть из рук. Баранов делал это с таким видом, как будто он выполнял важное государственное поручение.
Губы Хоменко разомкнулись. И когда его голова коснулась подушки, из уст его вырвалось отчетливое «да». Баранов застыл. Сначала он даже не поверил. Может быть, ослышался?
– Он заговорил! – восторженно прошептал Баранов. – Вы слышали? Он сказал «да».
– Слышали мы! Слышали, Баранов! Это что же получается, что он умеет говорить, что у него всё там в порядке, ничего не сломано? Что же он не говорил до сих пор?
– Да! – Василий Иванович покачал головой. – Вот и узнали, что он может говорить. И никакой он не немтырь. Как мы с вами может говорить. Только заговорит ли он, когда проснется? Значит, дело там, в его голове. Что-то там нарушено.
– Вот если бы можно было заглянуть в голову человека и увидеть, что там и как, – сказал Кумыс.
– Со мной по молодости был такой случай, – заговорил Василий Иванович. – Работал я механизатором в колхозе. Закончили мы уборку, и меня, как ударника, послали в райцентр. Праздничное мероприятие, концерт, премии должны дать, грамоты, даже застолье обещали с закусками из ресторана и спиртным. Но с этим делом – предупредили – чтобы не налегали очень. Вот парторг вызывает меня и говорит: «Вася! Нам из райкома партии пришла разнарядка. Так всегда делают перед каким-то торжественным мероприятием. От нашего колхоза должен выступить молодой передовик. Ну, там тары-бары, что мы целиком и полностью поддерживаем, и одобряем политику партии и своим ударным трудом крепим мощь нашего социалистического отечества. И не пожалеем никаких сил ради победы коммунизма. Всё такое прочее. Ты парень молодой, языкастый, за словом в карман не лезешь. Вон на посиделках только тебя и слышно, и шутками сыпешь, и анекдоты травишь. Как в клубе лясы разведешь, так девки, как снеговики, под солнцем тают. Так что, Василий, тебе и вожжи в руки. Лучше кандидатуры не найдешь». Отказывался, отмахивался, а он всё своё и слушать меня не хочет. «Это же, – говорю, – не завалинке сидиеть, тут перед районом выступать, перед начальством. Сами говорили, что из области даже приедут. Не! Я не смогу, извиняйте!» Он говорит: «Вася! Не беспокойся! Я тебе и речь напишу и все слова, какие нужно вставлю: и ленинские цитаты и там из партийных съездов и пленумов. Подучи речь! Но и своего надо немного. От души, так сказать. Это очень слушателям нравится. И всем тогда понятно, что это речь живого человека, а не манекена. Да и к тому же политически подкованного и разбирающегося в общественных вопросах. И шутку какую-нибудь вверни! Только про девок не надо и срамных анекдотов, и частушек, которые ты по деревне исполняешь. А приличное, пожалуйста!» Мы что без понятиев что ли? Понимаем, где можно частушку ввернуть, а где «Коммунизм – светлое будущее всего человечества» или «Вот моя деревня! Вот мой дом родной». Завываю, где нужно, где мягкости в голосе подпускаю. Вставил две пословицы от себя, что «Терпение и труд всё перетрут» и что «Молодым везде у нас дорога». Всё, как парторг учил. Даже самому речуга понравилась. Матушка мне почистила и погладила пиджак. Сапоги начистил, блестят, как у кота яйца. Штаны парадно-выходные, два раза надеванные натянул. Портянки новые. Парторг свой галстук дал и самолично завязал на шею. А я этой удавки еще ни разу в жизни не носил. Всё чин-чинарем. «Ты, – говорит парторг, – только самое главное – не волнуйся. Держись уверенно, как на деревенской вечеринке. Там такие же люди, как и мы, а не небожители какие-нибудь. Так же едят, водку пьют, девок лапают, до ветра ходют. Так что, Вася, хвост пистолетом и вперед! Вроде как перед своими в клубе. Лица каменного не делай. Помни, что ты не статуя, а живой человек. Улыбку подпусти! Чтобы блеск в глазах был». И вот так меня всю дорогу поучает. Ему же тоже никак нельзя, чтобы я опозорился. Должен, так сказать, показать лицо колхоза. Приехали. Всё это дело в доме культуры проходит, поскольку это само большое здание в райцентре. И там всегда такие мероприятия идут. Народу тьма-тьмущая. И все одеты богато и красиво. Особенно дамочки. Такие напомаженные, нарумяненные, ухоженные, с маленькими сумочками. Мужики при галстуках и сапогами скрипят. А в эти сапоги как в зеркало смотреться можно. Ну, туда-сюда, выступает начальство один за другим. А потом приглашают простых работяг. Вот и до меня дошла очередь. Выхожу я к трибуне, откашлялся, открыл рот. Что такое? Не могу не единого звука издать, как будто у меня все парализовало во рту. Сам себя настраиваю: давай говори, чего стоишь как истукан. Рот шире открываю. Нет! Ни звука. Да что же это такое! Никогда со мной подобного не было. Кашлянул. Попробовал заговорить. Ничего не выходит. В президиуме уже глядят на меня. «Ну, что же вы, товарищ, говорите!» И в зале зашушукались. А я не могу. Вроде как на Голгофе стою перед казнью. Ни слова не могу выдавить. Не знаю, сколько времени прошло. Мне показалось, что целая вечность. Вспотел весь. Наконец один начальник поднялся, подходит ко мне и говорит в зал: «Товарищи, человек растерялся. Иногда это бывает. Давайте похлопаем и пригласим следующего оратора» похлопали. Я скатился в зал, как ошпаренный. Такая стыдобища. И из зала чуть ли не бегом. Не стал халявных закусок пробовать и водки пить. Парторг потом мне всю дорогу выговаривал. Больше мне выступать нигде не предлагал. Вот что случилось тогда со мной, до сих пор понять не могу. Видно, какой-то выключатель в башке щелкнул.
ОЛЬГА
Дежурная сестра подняла усталые глаза.
– Как вы сказали фамилия?
– Хоменко. Хоменко Евгений Васильевич.
– А когда он поступил в нашу больницу?
– Неделю назад.
Сестра стала листать журнал.
– Нет такого. Есть Фомин. А никакого Хоменко нет
– Еще раз посмотрите, пожалуйста! Может быть, пропустили.
– Девушка! Я всё внимательно посмотрела. Никакого Хоменко нет.
– Он поступил после избиения в бессознательном состоянии. Никаких документов у него с собой не было. У него с памятью проблемы и с речью. Вот такие вам поступали?
– В таких случаях мы сразу ставим в известность полицию. И она выясняет личность.
– Ну, а неустановленные личности у вас есть? Безымянные?
– Безымянных у нас нет.
– Но мне сказали, что он поступал именно к вам, в вашу больницу. Это точная информация.
– Кто вам мог такое сказать?
Ольга не посмела назвать Кузмина. Всё-таки она ему дала слово. Медсестра захлопнула и отодвинула журнал.
– Мне сказал об этом очень компетентный человек.
– Ой! Эти компетентные самые большие болтуны. Уж, поверьте мне, девушка. И не слушайте их!
– Могла бы я встретиться с главврачом?
– Ну, я могу позвонить в приемную, узнать у секретаря. Хотя зачем вам это надо? Не думаю, что он вам чем-нибудь поможет. Опять отошлет сюда же, ко мне. А в прочем, ваше дело. Мне позвонить не трудно. Если он не занят, то может и примет. Но главврач не обязан знать всех пациентов, которые поступают в больницу. Разве это не понятно. К тому же мы каждый день выписываем, каждый день поступают новые.
– Всё-таки позвоните!
– Как угодно.
Медсестра набрала номер, подняла трубку к голове, оттопырив наманикюренный мизинец.
– Иван Васильевич вас примет.
Рассказала, как найти его кабинет. Всё-таки медсестры пошли вежливые. Им постоянно напоминают о вежливом отношении к посетителям и пациентам.
Иван Васильевич вполне мог бы понравиться Ольге. Но взгляд у него был холодный. Уже один вид его показывал, что как ему надоели посетители, которые постоянно отвлекают его от главного. Он смотрел на вас, и вы чувствовали себя ненужным в этом кабинете, даже вредным элементом, который нарушает нормальное течение.
– Жалуетесь, девушка, на что-то? Или на кого-то?
– А к вам приходят только жаловаться? – усмехнулась Ольга и самовольно уселась на стул.
– Еще и просить приходят.
– Тогда у меня второе.
– Я весь внимание, – устало произнес Иван Васильевич, отодвигая от себя папку.
Он оценил девушку и признал, что она ничего. Если бы ему скинуть пару десятков лет, то он мог бы пофлиртовать с ней, как он всегда делал, встречаясь с симпатичными девушками.
Его взгляд был понятен Ольге. Ну, что же! Это даже хорошо. Легче будет договориться. Когда ты нравишься мужчине, он охотнее идет на уступки. Такова уж мужская природа.
– В больнице лежит человек, который почему-то не записан в журнале регистрации. Я только что от медсестры, которая никак не могла его найти. Хотя я точно знаю, что он в вашей больнице.
– Девушка! Такого быть не может.
– Однако это так, Иван Васильевич, – спокойно, почти равнодушно проговорила Ольга. – Неделю назад к вам поступил пациент в бессознательном состоянии. Он не мог говорить и, вероятно, потерял память. Документов при нем не было. Поэтому он не мог назвать себя. Врачам большое спасибо, что они спасли ему жизнь. Но как-то он должен быть у вас записан. «Неизвестный» или еще как-то. Я не знаю. Ведь он, вероятно, не первый такой пациент. И как-то вы их отмечаете в книге регистрации.
– Этот неизвестный вам родственник? Муж, брат, отец?
– Не буду лгать. Ни первое, ни второе, ни третье. Он мой возлюбленный. Или это противозаконно?
– Хорошее слово «возлюбленный». Оно возносит, возвышает, любимый человек над нами, как облако, как солнце, как звезды. Он вознесён в высоту. И мы глядим на него, задрав голову. Он выше нас… А скажи «любовник». Это нечто низменное, плотское, для постельных утех. Оно унижает наше чувство, мы выглядим неприглядно в глазах других.
– Вы философ, оказывается.
– Возраст обязывает. Но к делу! Если бы такой случай произошел, я бы узнал о нем первым.
– Он произошел.
– Не знаю, почему вы так решили, но уверяю вас, что вы ошибаетесь. Зачем мне вас обманывать?
– Чтобы убедиться в том, что я ошибаюсь, не соизволили бы вы распорядиться, чтобы я, разумеется, в сопровождении сотрудника вашей больницы обошла палаты и собственными глазами убедилась в вашей правоте? Не сочтите мою просьбу дерзкой, но просто иного способа я не нахожу. Так как же?
Главврач рассмеялся.
– Идея остроумная! Но, извините, я такого распоряжения не могу дать. Хотя мне так не хочется в чем-то вам отказывать.
– Я не ожидала другого ответа. Бюрократия, она и в Африке бюрократия. Я вас вполне понимаю. Бюрократ живет циркулярами, инструкциями, распоряжениями, а чувства реальных людей его не волнуют. и не могут волновать. Иначе он перестанет быть бюрократом.
– Сказано сильно! Когда женщина не только красива и умна, это настоящая бомба для мужского мозга. Пощадите меня, милая девушка!
– Вы же меня не щадите! Но я знаю, что делать. Вы же не хотите, чтобы в газете появилась статья о том, как в нашей больнице бесследно исчезают пациенты. Прямо какой-то Бермудский треугольник, феномен. Был человек и бесследно исчез.
– Мы уже перешли к угрозам?
– А что мне еще остается?
– Ладно! С каждой минутой я в вас открываю всё новые и новые грани. И поверьте, вы мне нравитесь всё больше. Ах, как я напугался! Я не побледнел? Лоб мой не покрылся потом? Ой, кажется, у меня коленки дрожат. Я даже слышу, как они ударяются друг о друга. Из-за стола вы не видите мои колени. Хоть это хорошо! А как это будет выглядеть? Вы представляете?
– А что тут представлять? Всё очень просто.
– Просто? Вы заходите в палату. Кто сидит, кто лежит, укрывшись с головой одеялом. Кто-то отвернулся к стене и не желает даже смотреть на белый свет, так ему всё обрыдло. Вы будете его разворачивать к себе? А тех, кто под одеялом, сдергивать с них это самое одеяло?
– Ну, при желании любое дело можно представить невыполнимым, найти всякие варианты.
– У меня другое предложение. В час начинается обед. Почти все собираются в столовой. Разумеется, кроме тех, кому разносят еду по палатам. Это тяжелые больные.
– Это, конечно, лучше.
– Ну, вот! До обеда осталось уж не так и много времени. Если, конечно, вы никуда не торопитесь. Прогуляйтесь, а к часу подходите. Я дам вам сопровождающего, чтобы вы не заблудились в наших лабиринтах. Он вас проведет в столовую и в палаты тяжелых. Если возникнет такая необходимость, разумеется.
Доктор, которого определили к ней, спросил:
– Вы из органов или из министерства?
По интонации, с которой он спрашивал, было понятно, что любовью у него не пользуются ни те, ни эти.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе