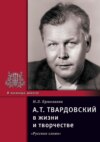Читать книгу: «Советская Новая Земля 69. Воспоминания», страница 3
Проинструктировав меня, он ушёл, но через некоторое время появился вновь.
– Ну как, все осмотрел?
– Так точно.
– Давай побеседуем ещё. Время у нас есть. Раз ты попал в наш отдел, то расскажу тебе о структуре системы управления изделием и телеметрии. Во-первых, мы как бы мозг полигона. За нами вся автоматика поля. Вон за Шумилихой видишь на бугре группу зданий. Вот. Это так называемая – «Высота». Это место, возвышается на 132 метра над уровнем моря. На этой «Высоте» располагается ЦСУ – центральное сооружение управления. Начальник ЦСУ подполковник В. Он тоже офицер нашего отдела. Служит на Новой Земле уже семь лет. Будешь с ним разговаривать, обрати внимание на его зубы. Когда он говорит, его зубы качаются. Он обычно в приватной беседе весело отмечает: «на зубы я себе заработал».
– На ЦСУ размещены все устройства управления и контроля за изделием. Там управляющий изделием программный автомат, радиостанции для передачи на объект управляющих сигналов, радиостанции для приёма сигналов телесигнализации. Визуально телеметрия отображается на специальных панелях, укреплённых на стенах внутри здания. Сигналы из ЦСУ бегут по радио к радиостанциям ЦСА – центрального сооружения автоматики. Из ЦСА дешифрованные сигналы уходят по кабелям в штольню к испытуемому изделию и запускают его автоматику. Отдельная группа сигналов запускает регистрирующую аппаратуру, установленную в МС. Предварительное включение и подача питания на всю аппаратуру в МС, происходит от аккумуляторов, что находятся в нашем ДС. При срабатывании изделия, возникающие электромагнитные излучения, а также вибрации грунта преобразуются датчиками в соответствующие сигналы, кратковременно отображаемые на экранах электронных осциллографов. Как ты понимаешь, электромагнитные сигналы длятся микро- и наносекунды, поэтому не могут быть переданы по радиоканалу с ограниченной полосой пропускания. Проблема решается фотографированием экранов скоростных осциллографов специальными фотоаппаратами. Развертка осциллографов ждущая и запускается самим сигналом. Сигнал для регистрации задерживается специальными линиями задержки. Для уменьшения искажения импульсных сигналов линии задержки выполнены на коаксиальных кабелях. Датчики соединены с осциллографами высокочастотными кабелями. Некоторые кабели обычные коаксиальные, подобные тем, что используются для телевизионных антенн. Другие кабели дорогие. Они бронированные. Их центральная жила поддерживается полистироловыми шариками. Внутренняя оплетка и центральная жила позолочены. Такие кабели – до тысячи рублей за метр. Их покупают за границей. Кабель – это трубка большой длины. Кабели уходят в штольню. А что будет в штольне при срабатывании изделия? Правильно. Ионизированный газ под высоким давлением. Этот газ по кабелям начнёт с некоторой скоростью натекать в сооружение с регистрирующей аппаратурой. А там фотоаппараты с фотопленкой. Где будет зарегистрированная осциллографическая информация? А нигде, так как вся пленка засветится или, в лучшем случае, сильно завуалируется. Чтобы избежать этого, нужно успеть снять кассеты с фоторегистраторов до проникновения в сооружение ионизированных газов. Это осуществляет группа бойцов, забрасываемых на гусеничных тягачах к соответствующим сооружениям сразу после взрыва. Все бойцы одеты на всякий случай в костюмы химической защиты и противогазы. Такая группа называется «Первый бросок». Снятые «Первым броском» кассеты вертолётом доставляют в Белушку для проявления плёнок. Вот так функционирует полигон в ходе испытаний.
– А как и где размещается само изделие?
– Ну, это тоже несложно. Что есть штольня? Это пробитый в скале тоннель длиной от одного и более километров. Все зависит от грунта и мощности изделия. Расскажу немного из истории. Первое подземное испытание было немного комом. Не контролировали форму штольни. Она оказалась в виде узкой воронки, обращенной широкой частью наружу. Установили изделие. Забетонировали. Забили грунтом. Дали подрыв. А из штольни, как из пушки, весь грунт выстрелился наружу. Теперь специально в проекте закладывают изготовление штольни в виде воронки, но узкой частью наружу. Для её самоуплотнения. Вот так.
Далее беседа продолжилась.
– Любое новое дело сопряжено с устранением некоторых недоработок конструкторов. Иногда возникают проблемы из-за творческого зуда людей, поставленных для использования новой техники. Вот был момент, когда катера стали вооружать ракетами. Пусковые установки размещали в носовой части катера. Ракета имела несколько степеней защиты от самопроизвольного взрыва. Во-первых, чека у взрывателя. Во-вторых, таймер задержки срабатывания взрывателя при выдернутой чеке. В-третьих, крыльчатка, раскручивание которой свидетельствует о полете ракеты. При этом кольцо чеки привязано к тросу, второй конец которого крепится к кольцу на корпусе катера. Катер вышел в море, пришёл в заданные координаты. Выдали приказ к боевому пуску одной ракеты. Произвели пуск. Ракета ушла, а через некоторое время в носовой части катера прогремел взрыв. Стали выяснять причины. Оказалось, что мичман, обслуживавший ракеты, внедрил самовольно рацпредложение: для экономии тросов он взял один, протянул его через кольцо на корпусе катера и привязал один свободный конец к чеке первой ракеты, а второй конец к чеке второй. Первая ракета ушла, но чека выдернулась у второй ракеты. Трос улетел с первой ракетой. Газы первой ракеты раскрутили крыльчатку второй, потом запустился таймер, и через заданное время активировался взрыватель ракеты, оставшейся на палубе. Вот к чему порой ведут рацпредложения, не прошедшие обсуждения специалистами.
Поговорив со мной, он ушёл в МС, а я продолжил осматривать аппаратуру, закреплённую по стенам ДС и систему энергообеспечения. Вскоре появились матросы, и начался процесс зарядки аккумуляторов, а также выдача сигналов на включение аппаратуры в металлическом сооружении.
Подошло время обеда. Прибыл Газ-66. Выключили аппаратуру, заперли сооружение, погрузились в кузов, и автомобиль запылил по дороге.
Спустя несколько дней в Зону пришел дизель-электроход ОС-30 и ошвартовался у пирса. Командование решило улучшить бытовые условия офицеров и переселить нас из береговой гостиницы казарменного типа в каюты ОС-30. Меня и лейтенанта Анатолия К. поместили в двухместный кубрик. Жизнь на борту ОС-30, по сравнению с береговой, улучшилась только с точки зрения наличия чистой воды и, может быть, более вкусного питания. (На берегу вода бралась из озерца на горе, причём, в воде была взвесь микропылевых частиц шиферного сланца. Это делало постельное бельё после стирки серым, а чай и суп менее вкусными, хотя при кипячении воды вся муть оседает на дно). На корабле, в отличие от береговой столовой, появилась жареная треска и балык из палтуса. Минус состоял в том, что на стальном корпусе корабля были укреплены колокола громкого боя, грохот которых и днём и ночью предупреждал команду о необходимости выполнить те или иные действие: «команде руки мыть», «команде чай пить», «смена вахты» и т. п. Причём, после сигнала колокола по громкоговорящей выдавалась голосом сама команда. Ночью это тотчас пробуждало, но в этом, видимо, была гарантия безопасности корабля, а для нас, офицеров береговой службы, был элемент знакомства со службой плавсостава ВМФ.
В один из дней пребывания на ОС-30 мы поднялись на борт для обеда. Обедать на корабле офицеры ходили в кают-компанию, где рассаживались за длинным столом, который возглавлял командир корабля. Обслуживали обед матросы, доставлявшие пищу в больших никелированных кастрюлях и на специальных подносах, а офицеры обслуживали затем себя сами, используя раздаточные ложки.
Поднявшись по трапу на палубу, мы с моим соседом прошли в отведённый нам кубрик, сняли спецпошивы, вымыли руки и пошли в кают-компанию. Кубрик не запирался. Возвратившись, я обнаружил пропажу моего спецпошива, в кармане которого были ключи от ДС. Поискал, но нигде в кубрике спецпошив не обнаружил. Обратился к кому-то из корабельных офицеров. Тот порекомендовал побеседовать с матросами ОС-30, занимавшими соседний кубрик. Поговорил, объяснил, что в спецпошиве ключи от режимного сооружения, спросил, куда мог задеваться спецпошив. Просил поузнавать у других матросов, не видели ли они чего-либо. Гарантировал отсутствие преследований. Матросы этого кубрика просили подождать и куда-то удалились. Через некоторое время они появились в сопровождении нескольких других матросов. Один из вновь пришедших подошёл к кожуху, закрывающему вертикальный трубопровод, открыл вертикальную дверцу и вытащил из-за идущей снизу вверх трубы мой спецпошив. Я проверил карманы – ключи были на месте. Показал все ключи – инцидент исчерпался. Почему украли именно мой спецпошив? Да, я думаю, что меня поселили в матросский кубрик, а матроса переселили в другое место. Он обиделся и в отместку стянул мой спецпошив.
Мне позже объяснили, что воровство присутствует на флоте, так как призыву подлежали не только законопослушные граждане, но и отбывшие сроки наказания. Я в этом убедился по матросскому фольклору, в котором присутствовали блатные песни и песни, сочинённые местными поэтами-матросами из числа граждан, ранее ограниченных в правах на определённое судом время.
Наше пребывание на борту корабля длилось недолго: недели две. Разгрузившись, ОС-30 ушёл в Белушку, а мы заняли свои места в береговой гостинице, в которой до этого проживали без всяких приключений.
Деревянное сооружение
Итак, в Зоне я должен был осуществлять руководство работой матросов по техническому обслуживанию аккумуляторных батарей катерных аккумуляторов 6СТК-180, мотор-генераторов, щитов исполнительных реле и обеспечивать взаимодействие с наладчиками аппаратуры в МС. Аккумуляторные батареи обеспечивали электроэнергией всю регистрирующую аппаратуру в МС; исполнительные реле включали и выключали эту аппаратуру, а также имитировали некоторые сигналы в режимах отладки этой аппаратуры; мотор-генераторы преобразовывали трехфазное напряжение 220/380 Вольт переменного тока в постоянное напряжение 24 Вольта, которым заряжались аккумуляторные батареи. Для связи с руководством, с Центральным Сооружением Автоматики и с МС использовались полевые телефоны, которые были соединены с соответствующими пунктами по выделенным линиям из пар скрученных проводов П-272, проложенных на поверхности тундры с опорой на специальные деревянные козлы. Телефонов в ДС было три. Сразу же выявилась организационная проблема: когда звонит один из трёх телефонов невозможно сразу взять тот, по которому пришёл запрос. Звонок звякнул и замолчал. На стадии отладки комплекса все заняты работами в отдалении от телефонов. Услышав звонок, матрос или офицер спешит к аппарату, но вызов к этому моменту уже прекращается, и нужно перебирать все трубки по очереди, чтобы попасть на нужного абонента. А абонент ждёт и нервничает. Так как все заняты своей конкретной работой, которую каждый считает самой нужной, то обстановка становится скандально-нервозной. Здесь появилось мое рацпредложение. Звонок в полевом телефоне работает от напряжения, формируемого при вращении ручки специального генератора переменного тока. Напряжение генератора зависит от скорости вращения ручки и может достигать в амплитуде 100 Вольт. Я поступил просто: взял полупроводниковый диод, конденсатор, резистор и неоновую лампу. При наличии запроса по какой-то из линий конденсатор заряжается выпрямленным током до соответствующего напряжения и неоновая лампа, на соответствующем аппарате начинает светиться. Время свечения лампы после исчезновения напряжения вызывающего сигнала в линии определяется величиной ёмкости конденсатора и значением сопротивления балластного резистора в цепи неоновой лампы. Яркость свечения лампы также зависит от величины сопротивления резистора. Эту рационализацию оценили и матросы и офицеры.
Я стал расспрашивать матросов о существующих проблемах. Проблема была с мотор-генератором, который использовался для зарядки аккумуляторных батарей. Разобрались, что к чему, добились его устойчивой работы. Одновременно по требованиям инженеров из МС мы ретранслировали сигналы включения и выключения их регистрирующей аппаратуры – так имитировалась выдача управляющих сигналов из центрального сооружения автоматики (ЦСА). Рабочий день приближался к концу. Я вышел на крыльцо, стал разглядывать горы, рассмотрел пролив, поглядел на дорогу.
Вскоре подошёл Герман Александрович, бросил взгляд на гору и возмущенно проговорил:
– Вот сукины дети! Ну, я им покажу.
– Что такое? – спрашиваю.
– Да ты вон посмотри, – и указывает на середину горы. – Опять в посёлок пошли по горам. А я их предупреждал. Не могут понять того, что там на склонах очень неустойчивая поверхность. Каменные осыпи лежат на ледяной подстилке. В любой момент может быть оползень или камнепад. В лучшем случае искалечит, а то и того хуже… А ведь я их неоднократно предупреждал.
– Где это? – опять поинтересовался я.
– Да вон, смотри на середину горы. Вон перед тем овальным рыжим валуном.
Я присмотрелся и увидел едва заметную тёмную фигурку, перемещающуюся поперек склона. Намётанный глаз у начальника. Хотя тут удивляться было нечему, ведь он был охотником. Я удивился его зоркостью. Посмотрев некоторое время на карабкающегося по горе матроса, мы направились к кольцу дороги, на которой уже стоял ГАЗ-66.
К автомобилю подходили офицеры, работавшие в металлическом сооружении. Через некоторое время мы уже подпрыгивали на трамплинах, которые водитель грузовика постоянно выискивал на дороге.
После обеда я отправился вдоль пролива на промплощадку пешком, а остальные – на часовой послеобеденный отдых.
Сооружения были оборудованы всем необходимым. В них уже работал личный состав части. Матросы, расписанные в другие отделы, работали со своими офицерами в МС с электронной аппаратурой. Два матроса нашего отдела работали в ДС, обеспечивая зарядку аккумуляторных батарей и выдачу разовых сигналов в МС. Наши матросы активно взаимодействовали с инженерами МСМ, работавшими с аппаратурой в своём сооружении. Работы по отладке аппаратуры часто требовали больше времени, чем предусмотрено восемью часами рабочего дня, поэтому матросы часто задерживались вечером, заряжая аккумуляторы, энергию из которых отобрали днём. Порой они самостоятельно готовили себе ужин, используя «электроплиту», изготовленную из киловаттного ТЭНа, укреплённого на асбоцементной плите, которая служила основанием этого нагревателя. К основанию ТЭН крепился с помощью четырёх стальных полос. Это поднимало его над полом сантиметров на пятьдесят. От стен нагреватель также был отдалён, так как размещался в середине комнаты. При этом асбоцементная плита лежала на полу и придавала всей конструкции хорошую устойчивость: на нем можно было разместить даже большую кастрюлю. Казалось, все элементы необходимой безопасности соблюдены. При похолодании нагреватель использовался как отопитель помещения ДС, а в случае необходимости разогрева пищи его использовали в качестве кухонной плиты.
В один из рабочих дней, когда за дверью сыпал лёгкий снежок, матросы включили нагреватель и выполняли предусмотренную расписанием работу в других комнатах. Вдруг дверь нашего сооружения отворилась, и в помещение вошёл полковник Пучков. На нём была запорошенная снежком уставная шинель (30 сантиметров от полу) и фуражка. Видно было, что тепло в нашем сооружении полковнику по душе. Я представился и приветствовал полковника правой рукой, поднесённой к козырьку фуражки.
Докладываю, что подразделение проводит работы по зарядке аккумуляторных батарей и выдачу разовых сигналов в МС для отладки специалистами эМ-эС-эМ регистрирующей аппаратуры. Приняв мой доклад, Пучков пожал мне руку и прошёл по комнатам, осматривая фронт наших работ.
Осмотрев сооружение, он подошёл к нагревателю погреться и задал при этом ещё несколько вопросов, касающихся наших функций. Во время этой беседы комната наполнилась запахом горелой шерсти. Аркадий Александрович не заметил, как пола его шинели прикоснулась к ТЭНу, и в ней появилась горелая полоса на расстоянии около 20 сантиметров от нижнего края полы. Он посетовал на свою оплошность и покинул ДС, а мы после этого провели доработку нагревателя, огородив ТЭН широкой стальной полосой по наружным бокам. Так что, конструкция любой, с виду простой, самоделки должна быть детально проанализирована и с точки зрения безопасности её применения.
Часовой у шлагбаума на промплощадку
Весь личный состав НИЧ отправлялся после завтрака к объектам промплощадки на автомобиле ГАЗ-66. Кузов был крыт брезентовым тентом с небольшими стеклянными окошками по бортам. Садились и выгружались через задний борт. Борт не опускали, а использовали в качестве ручек пару стальных скоб, укреплённых по краям борта и, держась за них, забирались в кузов или спрыгивали с борта. Для защиты от дорожной пыли полог у заднего борта свешивался и крепился к заднему борту кузова. Люверсы, запрессованные в брезент, вставлялись в стальные проушины, что были на заднем борте и фиксировались ремешками. Поперек кузова стояли дощатые скамьи, на которых рассаживались пассажиры. Как обычно, матрос-водитель срывался с места и гнал автомобиль по пыльной дороге на предельной скорости, чтобы пассажиры почувствовали все трамплины на дороге и оценили его лихость. Действительно автомобиль иногда зависал в воздухе на доли секунды, а затем падал на дорогу и продолжал свой бег вперёд. Перед въездом на промплощадку располагался КПП со шлагбаумом. Нормальное положение шлагбаума – закрытое. У шлагбаума часовой с автоматом. Часовой всегда требовал: «Всем выгрузиться из машины». Это процедура достаточно длительная и выходить никому не хотелось, особенно при плохой погоде. Ворчали, но выгружались. Пока все не покинут кузов, шлагбаум не отрывали. С ворчанием проходит выгрузка. Часовой смотрит, не осталось ли кого в кузове, а затем, просматривая пропуска, пропускает офицеров по одному опять в кузов. Все делается по инструкции, но все друг друга знают, и шпион или диверсант не может быть в этой компании.
Жалобы высокому командованию не давали эффекта: все же делалось по инструкции. Но вот однажды произошли изменения. Подъехали к шлагбауму. Остановились. После недлительного шуршания откинулся угол брезента, свет фонарика пробежал по лицам, и голос произнёс: «Все свои?». В ответ прозвучало хором: «Да», и опять зарокотал мотор, и заклубилась пыль шиферного сланца у заднего борта. Порядок проверки на КПП изменился. Того матроса, что дежурил ранее у шлагбаума КПП на промплощадку, поставили у трапа «Буковины», где великодушные эмэсэмовцы на время подготовки и проведения испытаний потеснились и морские офицеры разместились в каютах третьего класса. Теперь при подходе к трапу предъявляли пропуска в развёрнутом виде без всяких пререканий, и поднимались на борт дизельэлектрохода по трапу, спущенному вдоль борта к пирсу. Все было нормально, так как и офицеры, и мичманы, и гражданские лица, имели пропуска установленной формы.
Причина смены часового у шлагбаума оказалась довольно интересной. Был в Зоне автомобиль для индивидуальных поездок офицерского состава. Это был старенький «козлик» – ГАЗ 69. Видимо он давно отслужил свой срок, но специалисты автороты решили его повторно ввести в эксплуатацию и приложили для этого всю свою смекалку. Во-первых, чтобы сделать тёплой крытую брезентом кабину, её обшили изнутри байковыми старыми одеялами. Во-вторых, они усовершенствовали переключатель скоростей автомобиля: приладили вместо потерянного рычага переключения стержень из обрезанного стального прутка толщиной миллиметров десять. Надёжность такой замены была невелика, но автомобиль мог довольно лихо перемещаться. Другие доработки были скрыты под капотом, но они наверняка существовали, хотя и не бросались в глаза. Обычно этот вездеход использовали для оперативных разъездов в Зоне офицеры, которым срочно необходимо было добраться либо до штольни, либо до какого-то сооружения. Все эти поездки, несмотря на состояние автомобиля, проходили безупречно.
Однажды, как рассказывали очевидцы, этим транспортным средством воспользовалась группа офицеров, посланных проконтролировать на месте состояние объектов перед доставкой изделия. Едут как обычно по известной дороге. Впереди закрытый шлагбаум. Нужно тормозить. Молодой матрос-шофёр пытается поставить скорость на нейтраль, но его эрзац-рычаг выскакивает из коробки, а водитель растерялся и, убрав ногу с акселератора, пытается рычаг вставить обратно в коробку скоростей. Автомобиль тем временем сбивает шлагбаум и катится с дороги по уклону в сторону пролива. Часовой кричит: «диверсанты», падает на землю и выдает в сторону автомобиля очередь из автомата. Автомобиль тем временем упирается в валун на берегу. Мотор глохнет. Автомобиль обстрелян, но никто из него не выходит. Все сидят и ждут. Второй часовой из будки вызывает караульную роту. Прибывшие матросы растянулись цепью и залегли. По приказу старшего группы захвата пассажиры автомобиля покинули кабину. Все свои, офицеры НИЧ. На этом инцидент был исчерпан, тревога прекращена, и были сделаны оргвыводы. Это событие и привело к перемещению службистого бойца с КПП промплощадки на причал проверять пропуска на «Буковину».
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+2
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе