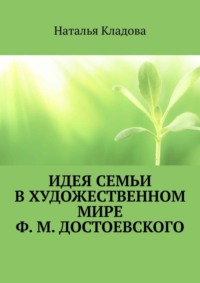Читать книгу: «Идея семьи в художественном мире Ф. М. Достоевского. Монография», страница 4
О «перевернутой» духовной реальности в сознании Раскольникова свидетельствует и , художественную функцию которого раскрыла Т. А. Касаткина. Нам важна следующая мысль. «Проснувшись после сна об убийстве лошадки, Раскольников говорит так, как будто отождествляет себя с убивавшими, но дрожит при этом так, как будто все удары, обрушившиеся на несчастную лошаденку, задели его. <…> Он действительно и „лошаденка“, и убийца-Миколка, требующий, чтобы запряженная в непосильную для нее телегу лошадка „вскачь пошла“. Это его дух, своевольный и дерзкий, пытается принудить его натуру, его плоть сделать то, чего она не может, что ей претит, против чего она восстает». При этом добавим: доброта сердца Родиона, открытая для него самого в этом сне, символизирует возможность светлого разрешения внутреннего конфликта героя. сон о лошади 104
, подтекстово отсылающее читателя к «Трем пальмам» М. Ю. Лермонтова, также имеет двойной смысл. Так, Р. Г. Назиров пишет: «Сюжетная функция двояка: оазис и ручей, по контрасту с вонью Петербурга, дают ощущение того, как жаждет Раскольников чистой жизни; с другой стороны, по скрытой ассоциации с путниками, срубившими пальмы, видение парадоксально предсказывает трагедию». Видение об оазисе 105
– частый атрибут библейского повествования. Первый камень, упоминаемый в ветхозаветном предании, сосредоточивал в себе благодать Божию. Иаков на том месте, где во сне видел лестницу, по которой восходили и нисходили Ангелы Божии и на которой стоял Господь, поставил камень памятником и назвал место это , что значит «». Раскольников прячет преступные деньги под камень, и это есть проявление в нем, против воли его разума, Божественной мудрости. В художественный мир романа входит евангельский эпизод, в котором камень отнимают от пещеры, где лежал Лазарь. Соответственно, полагаем, не нужно объяснять символизм того факта, что камень лежит на проспекте. Камень Вефиль Дом Божий Вознесенском 106
как символ перехода из одного мира в другой, с позиций народного миропредставления, в романе также соединяет два плана духовного бытия, истинного и ложного; то есть становится символическим мостом между истинным бытием и существованием, оторванным от этого бытия. В момент перехода через мост Раскольников то в мир дьявольский, по образу теории своей, то в мир истинной жизни. Первый раз герой оказывается на мосту после сна «о лошади», возвратившего ему ощущение своей Божественной человеческой сущности, неспособности «переступить». ««Господи! – молвил он, – покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой… мечты моей!» Мост переходит 107
Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!» [6, 50]. После сделанной , т.е. после непосредственного (не только в мечтах) соприкосновения с искаженным миром духовно-нравственных ценностей, герой возвращается в мир нормальный. При этом мы видим синкретизм двух символов – мост и закат, что повторится в романе еще несколько раз. пробы
При переходе второй раз через мост (уже после убийства, то есть после того, как он позволил себе «переступить») Раскольников совершает духовный поворот в обратную сторону, при этом происходит осмысление онтологической сути своего убийства как разъединения себя с миром.
«Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение» [6, 89—90]. «Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду; затем повернулся и пошел домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту» [6, 90]. Он отверг проявление милосердия и сострадания к нему другого человека (пожилая купчиха дала двугривенный). Хотя причина этого действия не только (а может быть, и не столько) в осознании своей недостойности принять сострадание, но и (сколько) в заговорившей вдруг гордости: будущему «Наполеону» по рангу не позволительно принимать нищенское подаяние. Однако даже в этом случае, бросив монетку, он почувствовал не величие гордого Наполеона, а отъединенность свою от людей, от «собора» верующих душ.
Эту сцену на мосту Достоевский много редактировал. В первой редакции «великолепная панорама» обладала свойством, «которое всё уничтожает, всё мертвит, всё обращает в нуль, и это свойство – полнейшая холодность и мертвенность этого вида. Совершенно необъяснимым холодом веет от него. Духом немоты и молчания, дух «немой и глухой» разлит во всей этой панораме» [7, 39—40]. Во второй редакции исправлено: «как бы разлит был в этой панораме (курсив мой. – Н.К.)» [7, 125]. Исправление знаковое: разлит только , так воспринимает панораму (при этом , т.е. высшую, небесную, недосягаемую) именно Раскольников. Окончательный текст: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина… Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее» [6, 90]. Это восприятие человека, потерявшего смысл жизни… по евангельскому слову. Так случилось с европейским человечеством в XIX веке, так случилось с героем Достоевского. «Дух немой и глухой» – евангельская цитата, подразумевающая «духа нечистого», а выбор именно духа, то есть подчеркивание ощущения Раскольниковым немоты мира, также не случаен. Вселенная умерла для него, потому что он умер для Вселенной (разъединил себя с ней). В третьей черновой редакции появляется важный смысловой акцент: «У моста обморок: стал на мосту. Голова его начала кружиться, огненные колеса, закат, панорама» [7, 205]. «Огненные колеса» (так же как и «красные круги», которые завертелись в его глазах при переходе через мост в третий раз) – отзвук полемического восприятия Достоевским теории «тепловой смерти» Вселенной, согласно которой наш мир все равно умрет, – положение, обесценивающее всякие нравственные законы. Раскольников видит «красные круги» солнца именно потому, что смотрит на мир сквозь призму своей теории. Здесь и цветовая рифма к тому эпизоду, когда солнце освещает кровь, пролитую Раскольниковым, на носке, выглядывавшим из левого сапога. для него несравненной для него несравненную немого 108 109
Находясь на каторге, Родион вспоминал свои мучительные размышления на мосту:
«Он страдал тоже от мысли: зачем он тогда себя не убил? Зачем он стоял тогда над рекой и предпочел явку с повинною? Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти?
Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь» [7, 418].
В третий раз Раскольников оказывается на мосту в закатный час после следующих событий. Очнувшись от четырехдневного беспамятства, он вышел на улицу, «его почему-то тянуло со всеми заговаривать» [6, 122], он дошел до трактира, где признался в совершении преступления Заметову. За этим признанием отнюдь не стоит раскаяния. Неудивительно, что на мосту им овладела апатия, безразличие к жизни; внутренняя потребность признаться, с его точки зрения, лишает его полной жизни, т.е. единственно возможный путь к истинному бытию мыслится им как тупик, как жизнь на «аршине пространства». как бы
«Склонившись над водою, машинально смотрел он на последний, розовый отблеск заката, на ряд домов, темневших в сгущавшихся сумерках, на одно отдаленное окошко, где-то в мансарде, по левой набережной, блиставшее, точно в пламени, от последнего солнечного луча, ударившего в него на мгновение» [6, 131]. В данном контексте настойчиво подчеркивается сема «последний», которая репрезентирует переживание героем некой последней черты, у которой он находится. (Эта идея усилена сюжетным эпизодом с утопленницей.) Раскольников мучается над разрешением только одного вопроса: как жить в этом мире, что есть жизнь? Ведь… если Бога нет, «тогда жить нельзя» (аксиома для Достоевского). А для теоретического разума Раскольникова Бог потерян. В Подготовительных материалах к роману после вдохновенной проповеди чиновника (в будущем Мармеладова) о том, что Господь всех пожалеет, Раскольников задает вопрос: «А как Вы думаете, что, если б этого ничего не было, что, если этого никогда не будет?», на что чиновник отвечает: «Т. е. Бога-то нет-с, и пришествия его не будет… Тогда… тогда жить нельзя… Слишком зверино… Тогда в Неву и я бы тотчас бросился» [7, 87]. От разрешения данного вопроса, над которым герой размышляет почти всегда на мосту и при закате, зависит дальнейший жизненный путь: в духовном свете или в духовной тьме. Этот напряженный момент необходимости сделать духовный выбор символизирует и , на котором оказывается Родион сразу после перехода через мост и посещения им квартиры старухи: перекресток
«„Так идти, что ли, или нет“, – думал Раскольников, остановясь посреди мостовой на перекрестке и осматриваясь кругом, как будто ожидая от кого-то последнего слова. Но ничто не отозвалось ниоткуда; все было глухо и мертво, как камни, по которым он ступал, для него мертво, для него одного…» [6, 135]. Для него… Это подчеркнуто в тексте и конкретными эпизодами. В мировосприятии Сони, например, перекресток наполнен глубоким религиозным смыслом; именно на перекресток она посылает Родиона совершить признание, с которого начнется для него очищение. Когда же Раскольников шел за мещанином, произнесшим в его адрес: «Убивец!», это завершилось тем, что они подошли к перекрестку. «Мещанин поворотил в улицу налево и пошел не оглядываясь. Раскольников остался на месте и долго глядел ему вслед» [6, 209]. Однако на этом перекрестке перед Раскольниковым встает вопрос не «признаться или нет?», а «как скрыть свою вину?». Символ , коррелирующий с символом , в романе подчеркивает неосознаваемый героем истинный смысл признания. В нем живет подсознательное желание признаться «по-настоящему», не с целью подразнить Заметовых (то есть желание вернуться полноценным членом в человеческое общество), однако от него еще скрыт истинный, онтологический смысл признания как покаяния. перекресток крест
Действительность все же втягивает Раскольникова в свой круговорот, и он совершает добрые поступки: заботится об умирающем Мармеладове, оставляет все свои деньги на его похороны. Это дарит ему ощущение жизни, но (очередное !) понятой по-своему. Поэтому, оказавшись четвертый раз на мосту в одиннадцатом часу, «ровно на том самом месте, с которого давеча бросилась женщина», он разрешает главный для себя вопрос: духовная мука преодолевается возвращением в мир, созданный его теорией, то есть совершается духовный поворот к ложному бытию. «Царство рассудка и света теперь и… и воли, и силы… и посмотрим теперь! Померяемся теперь! – прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее. – А ведь я уже соглашался жить на аршине пространства!» [6, 147]. Подсознательно доброе дело вернуло его к жизни, но он хочет воскреснуть без покаяния. но
На Сенную, где Раскольников целует землю, он идет через мост. Идет от Сони, у которой взял ее крест и перекрестился несколько раз; идет, сомневаясь, нужно ли, но все-таки идет… На Сенной он дает пятак нищей. Конечно, он и раньше деньгами помогал, однако сейчас это сделать его побудили следующие размышления: «Баба с ребенком просит милостыню, любопытно, что она считает меня счастливее себя. А что, вот бы и подать для курьезу» [6, 405]. Этим действием метафизически он признает, что несчастнее нее – и не потому, что беднее… Эпизод является зеркальной параллелью к эпизоду с купчихой, которая дала Раскольникову двугривенный, после чего он, зайдя на мост, бросил монету вниз. Теперь он, сойдя с моста, монету «возвращает», метафорически восстанавливая связь с человеческим обществом – однако не полностью, потому что формально: он дал меньше, нежели дали ему, духовно: он не раскаялся, не признав еще неправоту своего преступления. Поэтому символична реакция . «Сохрани тебя Бог! – послышался плачевный голос нищей» [6, 405]. 110 берущей
Раскольников постоянно балансирует на грани двух миров – ложного и истинного, символом чего в художественной структуре романа и становится мост.
также связует разные планы хронотопической организации художественного текста. Солнце 111
Роман начинается с грехопадения главного героя, причем смысл греха Раскольникова в том же, в чем и первого человека, – в попытке стать равным Богу: «И рече Бог: се, Адам бысть яко един от Нас, еже разумети доброе и лукавое» [Быт., 3, 22]; Раскольникову очень хотелось быть в ряду управляющих миром, поэтому он сразу помещается «прямо рая Сладости» [Быт., 3, 24], на западе, там, где солнце закатывается, отсюда частое упоминание заката в романе. Духовная жизнь героя в ее самые напряженные моменты всегда происходит на закате и всегда так или иначе граничит с состоянием отъединенности от истинной жизни. Переживание солнечного света Родионом всегда коррелирует с его преступным замыслом, определяемом в структуре романа как отпадение от мира, от его гармоничного природного цикла и Божественного миропорядка. Очищение же от греха совершается на восходе, когда солнце поднимается с востока, и в этот момент герой оказывается буквально в «рае Сладости». «День опять был ясный и теплый», они сидели напротив «облитой солнцем необозримой степи» (такой же широкой, огромной и бездонной, как панорама, созерцаемая Раскольниковым с моста, но наполненной для него уже совсем иным – библейским – смыслом: «там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его»), «оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь» [6, 421]. Через метафорическую параллель с солнечной степью времен Авраама свет получает особую смысловую насыщенность. Здесь же аллюзия на Новый Завет, слова из Послания Петра: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» [2-е Петра. 1, 19]. Солнце, дающее аллюзии на библейское географическое пространство, организует в романе пространство духовное, и, соответственно, расширяет конкретный временной отрезок жизни, отображенной в произведении, до философско-религиозного осмысления бытия вне времени. 112
Световая символика эпилога коррелирует с эпизодом чтения евангельских строк о Лазаре. «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги» [6, 251—252]. Как здесь они убоги, «малы» в своей беде, так велки в своей духовной победе – в солнечных лучах новой жизни. Слово «странно», на наш взгляд, имеет здесь глубокий подтекст: сошлись, потому что Соня верит в воскресение по евангельскому слову, Раскольников же хочет воскреснуть без покаяния. Он сближает себя с Соней и Дуней по принципу самопозволения принести жертву; только Соня и Дуня жертвуют собой и ради конкретных реальных людей, Раскольников же жертвует другими (причем, их жизнями) и не только ради родных, но и ради абстрактной совокупности человечества. Дуня на критику брата по поводу ее готовности на жертву отвечает: «Если я погублю кого, так только себя одну… Я еще никого не зарезала!..» [6, 179]. и странно
Раскольников, оказываясь на перепутье двух реальностей, инстинктивно, чтобы не уйти в небытие, спешит «кончить всё» до заката солнца. Признание в преступлении он торопится сделать, пока светит солнце.
«Вечер был свежий, теплый и ясный; погода разгулялась еще с утра. Раскольников шел в свою квартиру; он спешил. Ему хотелось кончить все до заката солнца» [6, 398]. Это после того, как он попрощался с Пульхерией Александровной. Именно в этот момент ему было важно знать, что его любят, и важно сказать, что он любит. В первый день после беспамятства вечером, когда «солнце заходило», Раскольников выходит из своей коморки с мыслью «нужно всё кончить» [6, 120]. К Соне за крестом он вошел, когда «уже начинались сумерки. <…> Солнце между тем уже закатывалось» [6, 402].
А ведь на закате солнца совершались евангельские чудеса. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос» [Мрк. 1, 32—34]; см. также [Лк. 4, 40]. В ветхозаветные времена день («сутки») начинался с захода солнца. Пасха совершалась при захождении солнца. И был страх после солнца. Основная сюжетная линия романа Достоевского – путь главного героя к очищению своей души от греха, а весь роман – ожидание чуда, чуда озарения Божественным светом души человека, преступившего черту духовности и нравственности… и остро ощущающего своё нахождение за чертой. Когда Раскольников делает «пробу», солнце воспринимает так: «Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. «И , стало быть, так же будет солнце светить!..» – как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова» [6, 8]. – это когда мир будет прежним, но он будет уже другим… Вернуться в нормальное состояние можно, только восстановив Божественные нити, и как напоминание об этом в комнате «в углу перед небольшим образом горела лампада» [6, 9]. С самого начала романа образ солнца «размагничивается» с теоретическим миром Раскольникова: оно будет светить и (воплощая вечные духовные основы мира), и Раскольников не изменит мир по своим понятиям о справедливости. Придя к старухе, он «переступил через порог в прихожую» (курсив мой. – Н.К.) [6, 8]. Он переступил за черту солнечного, светлого, мира в темный мир своего преступного замысла. И далее в романе на закате особенно остро переживалась Раскольниковым его духовная драма. «Он бродил без цели. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего; но от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность на «аршине пространства». В вечерний час это ощущение обыкновенно еще сильней начинало его мучить. остаться грешным захода тогда Тогда тогда материальным темную 113
– Вот с этакими-то глупейшими, чисто физическими немощами, зависящими от какого-нибудь заката солнца, и удержись сделать глупость! Не то что к Соне, а к Дуне пойдешь! – пробормотал он ненавистно» [6, 327]. Идея вечности злит Раскольникова, потому что утрачены непреходящие нравственные ценности; для него закрыта та вечность, которая является смыслом земного человеческого существования. Он наедине со своей «холодной, мертвящей тоской», без духовной опоры, именно поэтому «не то что к Соне, а к Дуне пойдешь!».
К Соне он действительно идет, надеясь с ней вместе встать на путь «право имеющего» (она ведь тоже позволила себе переступить!). Но он обманулся в такой союзнице, которая не только не пошла с ним, но и повернула его на другой, спасительный, путь. Символично поэтому то, что к Соне он поднимался по лестнице и какое-то время бродил в и в … [6, 241]. темной темноте недоумении
В «темноте» мира Раскольников будет и в остроге, где «наиболее стала удивлять его та страшная, та непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом» [6, 418]. Однако, даже не понимая, почему в остроге его все ненавидят, герой осознает огромную пропасть в восприятии жизни между ним и заключенными: «Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца, дремучий лес, где-нибудь в неведомой глуши холодный ключ, отмеченный еще с третьего года и о свидании с которым бродяга мечтает, как о свидании с любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте?» [6, 418]. Такое восприятие луча солнца, антитезное видению Раскольниковым «красных кругов», есть праведное, приемлющее созданный Творцом мир восприятие.
Таким образом, семантическое наполнение символа в романе амбивалентно. Эту амбивалентность Достоевскому очень удобно было создать в эпоху активного бытования теории тепловой смерти Вселенной. Закат солнца в художественной стркуктуре произведения помогает отразить балансирование главного героя на границе двух реальностей. Духовная извилистая дорога Раскольникова свои повороты делает на закате, так как исход его внутренней борьбы может коррелировать и с солнцем умирающим, и с солнцем евангельских чудес, то есть тем, которое взойдет вновь. Духовное возрождение же может произойти только на , потому что противоположных смыслов здесь быть не может. закат восходе
Звуковой параллелью к является имя героини романа . Соня – из мира горнего. Мармеладов рассказывает о том моменте, когда он, украв из семьи деньги и пропив их, пришел к дочери просить на похмелье: «Тридцать копеек вынесла, своими руками, последние, все что было, сам видел… Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела… Так не на земле, а там… о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют!» [6, 20]. Тридцать копеек как тридцать серебряников, за которые был продан Христос. Заметим, когда Мармеладов предложил Катерине Ивановне выйти за него замуж, у него была дочь лет (Иисус – сын; о символическом смысле числа мы уже говорили). Соня дарит окружающим надежду на спасение, воскресение. Ее «миссия» в романе воистину подобна миссии Спасителя. солнцу Соня единородная четырнадцати единородный четырнадцать
«Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у нее на коленках простояла, ноги ей целовала» [6, 17]. Это после того, как она спасла семью от голодной смерти.
«Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени» [6, 421]. А это после того, как она воскресила Раскольникова, спасла в нем духовное начало. Когда Христос воскресил Лазаря, Мария, «взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его» [Ин. 12, 3]. Перед тайной вечерей Иисус омывал ноги будущим апостолам. Это знаменует особое уважение к человеку.
Но истинный свет на земле часто попирается, его не каждый видит. Спасать Соня вынуждена бесчестным с точки зрения норм общества поступком. Ее цветное платье, шляпа с ярким огненного цвета пером, дающие аллюзию на ангела Божия, выглядят нелепо и карикатурно у постели умирающего Мармеладова.
Особенность хронотопической структуры романа состоит в том, что разрешение вопроса о вечной жизни каждым из героев определяет его жизнь земную, особенно в кризисные ее моменты. Так, Раскольников несколько раз повторяет то, что в будущую жизнь не верует – в разговоре с Свидригайловым и в разговоре с Дуней. Вечность для него – это «аршин пространства». Для Свидригайлова вечность – комната с пауками. Исход духовной драмы Раскольникова он видит в том, чтобы уехать, скрыться, и даже денег для этого предлагает. Для него самого единственным исходом становится самоубийство. Иначе пространство за чертой земной жизни осмысливает Соня, веруя сердцем в то, например, что Лизавета «Бога узрит» [6, 249]. И себя не мыслит без этой веры: «Что ж бы я без Бога-то была?» [6, 248]. Если Раскольников не кончил самоубийством из-за гордости, то Соня на мысль Раскольникова о таком исходе для нее отвечает: «А с ними-то что будет?» [6, 247]. Сцены первого и второго посещения Раскольниковым Сони – это столкновения двух восприятий жизненного неблагополучия. Раскольников заводит разговор о бедственном положении Мармеладовых, выпытывая у Сони, что бы она сделала, тем самым пытаясь найти оправдание собственному преступлению. И не находит…
Таким образом, события романа существуют в двух временных планах: вечное, нетленное бытие и «перевернутый», искаженный мир, стараниями Раскольникова отъединенный от вечности.
За «земным» сюжетом выстраиваются отношения по Божьему слову, и сам Раскольников, вопреки воле своего разума, становится участником этих отношений. Аллюзии на библейскую историю о сотворении мира необходимы для воплощения замысла автора – дать образ не помутненной грехом, истинно христианской реальности – в душах людей. сверх
Художественная идея в «Преступлении и наказании» аккумулирована не только в деталях-символах, но и в самом расположении событий относительно друг друга, поэтому сопряжение сюжетных эпизодов образует объемный символический подтекст романа.
Многие ученые уже указывали на важную особенность сюжетосложения произведений Достоевского – некую событийную хаотичность, не-логичность, которые оказываются, однако, идейно значимыми. Так, в работе В. Б. Шкловского читаем: «Не только герои спорят у Достоевского, отдельные элементы сюжетного развертывания как бы находятся во взаимном противоречии: факты по-разному разгадываются, психология героев оказывается самопротиворечивой; эта форма является результатом сущности». О «зыбкости», калейдоскопичности сюжета и о символическом содержании этой особенности см. также в статьях Д. С. Лихачева, Р. Н. Поддубной, В. А. Мыслякова, в книге Т. М. Родиной «Достоевский. Повествование и драма». М. М. Бахтин определяет такой сюжет как авантюрный: «Авантюрный сюжет опирается не на то, что есть герой и какое место он занимает в жизни, а скорее на то, что он не есть и что с точки зрения всякой уже наличной действительности не предрешено и неожиданно. Авантюрный сюжет не опирается на наличные и устойчивые положения – семейные, социальные, биографические, – он развивается вопреки им. Авантюрное положение – такое положение, в котором может очутиться всякий человек, как человек. Более того, и всякую устойчивую социальную локализацию авантюрный сюжет использует не как завершающую жизненную форму, а как «положение». <…> 114 115 116 117 118
Авантюрный сюжет у Достоевского сочетается с глубокой и острой проблемностью; более того, он всецело поставлен на службу идее: он ставит человека в исключительные положения, раскрывающие и провоцирующие его, сводит и сталкивает его с другими людьми при необычных и неожиданных обстоятельствах именно в целях и с п ы т а н и я идеи и человека идеи, то есть «человека в человеке». А это позволяет сочетать с авантюрой такие, казалось бы, чуждые ей жанры, как исповедь, житие и др.». На авантюрность сюжета указывает и Н. Д. Тамарченко, полагая, что творческий метод Достоевского «сочетал реалистический анализ «положений» с проникновением в «глубины души», ибо его основой была ситуация кризиса всемирно-исторического значения». На наш взгляд, данная особенность художественного мира романа очень хорошо «работает» на авторскую идею. При этом, нам кажется, уместнее использовать термин сюжета, а не . В «Преступлении и наказании» сюжет насыщен символикой, воплощающей авторскую идею. Герои сталкиваются, встречаются, оказываются в неожиданных, парадоксальных, ситуациях «не нечаянно» (слово самого автора в романе!). У Достоевского – не принцип авантюрности, но принцип духовной логики, принцип символического указания, обнажающего то, что трудно выразить словами без потери глубинного смысла. 119 120 символичность авантюрность
В настоящей работе мы предприняли попытку раскрыть символизм последовательности и соотнесенности сюжетных элементов в романе «Преступление и наказание».
Раскольников, живя в своей «перевернутой» реальности, постоянно совершает в действительной реальности поступки. Пример первый. Его искреннее добро для одних оборачивается жестокостью для других. Он не хочет принимать деньги от матери и сестры, потому что знает, как тяжело эти деньги достаются его самым родным людям, но с легкостью отдает деньги Мармеладовым, создавая таким образом ситуацию, когда мать и сестра высокой ценой добывают деньги для чужих. Помогая одним, Раскольников жертвует другими, самыми близкими, которые его за это, конечно, не осуждают, но ведь он сам еще недавно бунтовал против тех мучений, которыми даются родным эти деньги [6, 38]. Раскольников самолично отмеряет каждому его долю милосердия. Однако в самые кризисные ситуации он помочь не может (судьбу Мармеладовых устроит Свидригайлов, Дуне по завещанию оставит деньги Марфа Петровна). Пример второй. Он старается тщательно скрыть все следы преступления, мысль о том, что его поймают, вызывает у него неимоверный страх, но в то же время он мучается главнейшим для себя вопросом «признаться или нет?». Если бы в сокрытии улик заключалось для героя решение проблемы, подобный вопрос просто не мог бы существовать. нелогичные эти самые (!) 121
Некоторые высказывания Раскольникова противоречат друг другу. То он говорит, что верует в Бога, и в воскресение Лазаря (в диалоге с Порфирием Петровичем), то утверждает, что Бога нет (причем два раза: разговаривая со Свидригайловым и с Соней). Второе происходит после того, как мещанин на перекрестке произносит страшную правду о том, что для Раскольникова в его теперешнем состоянии () закрыта дверь в будущую жизнь. Изменить же это состояние мешает жажда побороться еще за . буквально убивец! право иметь
Перейдем к событиям романа в той сюжетной последовательности, в которой о них рассказывается.
Когда Раскольников первый раз оказался у Мармеладовых, он сунул руку в карман, «загреб сколько пришлось медных денег (как потом он подсчитал, 47 или 50 копеек. – Н.К.), доставшихся ему с разменянного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко» [6, 25]. Он рубль, покупая стакан пива, который, образно выражаясь, вернул его к бесчеловечной идее: после выпитого стакана он счел свое отвращение к преступлению, которое испытал после своей , «просто физическим расстройством». Но ведь примерно половину рубля он на бескорыстное добро – и этот художественный эпизод, не случайно идущий непосредственно после сцены в распивочной, дает надежду на восстановление духовности в главном герое. Однако разум его активно сопротивляется делам сердца, не хочет принимать сердечные порывы (это мы увидим на всем протяжении развития сюжета). Проявляя милосердие, Раскольников одергивает себя: а нужно ли его проявлять? [6, 25]. Рассудком герой акт своей доброты расценивает гордо и надменно, мысля себя неким провидением, без денег которого (47—50 копеек – гигантская, конечно, сумма!) Мармеладовы останутся «на бобах». Следующий сюжетный эпизод романа – чтение Раскольниковым письма матери – раскольниковскую высоту, с которой он смотрит на бедную семью, так как эпизод оставления денег Мармеладовым становится зеркалом его собственной судьбы: он сам – на бобах без денег Пульхерии Александровны и Дуни, а они посылают ему не полрубля, а шестьдесят (в прошлом году) и тридцать пять рублей! При этом делают это без себялюбивых мыслей. Таким образом, расположение эпизода посещения Раскольниковым Мармеладовых между размениванием рубля в распивочной и чтением письма глубоко символично, поскольку такая последовательность отражает сложный, неоднозначный смысл поступка: в первом случае акт доброты указывает на возможность светлого исхода раскольниковской судьбы, во втором этот же акт ложно утверждает в ранге спасти мир любыми способами на свое усмотрение (в качестве примера берется семья Мармеладовых), при этом сознанием героя игнорируется тот факт, что он сам находится в роли (!), а не (и дает-то он из того, что берет). «Спасать» (поставим здесь это слово в кавычки) мир Раскольников собирается не только и не столько по доброте душевной. Этим его желанием движет непомерная . Под заголовком «ИДЕЯ РОМАНА» В Подготовительных материалах, под вторым пунктом читаем следующую запись: «В выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу. Его идея: взять во власть это общество» [7, 155]. разменивал пробы разменял ниспровергает дающего могущего берущего дающего благородным гордость его образе
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе