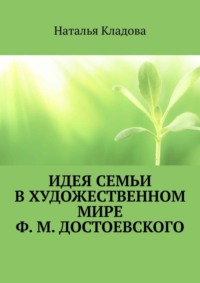Читать книгу: «Идея семьи в художественном мире Ф. М. Достоевского. Монография», страница 3
Заметим, народ тоже строил социальные утопии (например, крестьянские общественные ассоциации Ивана Петрова в Пошехонском уезде Ярославской губернии, Антипа Яковлева в Плесовой стороне Костромской губернии, Николая Попова тоже в Костромской губернии, Михаила Попова в Саратовской, Бакинской, а потом Енисейской губерниях, Ивана Григорьева в Самарской губернии и др.), но идейная направленность этих утопий существенно отличалась от чаяний народников-социалистов. А. И. Клибанов, автор объемного труда о подобных явлениях в России ХIХ в., так определяет отличие утопий от утопий : «Социалистическая мысль Огарева и Герцена, последующих народнических идеологов отталкивалась от поисков некапиталистического пути русского исторического развития. Социалистическая мысль народных утопистов отталкивалась от поисков идеалов и форм жизни, свободных от социальных антагонизмов как таковых». При этом «ни мессианизм руководителей и идеологов организаций народной утопии, ни их и их последователей религиозная экзальтация, мистицизм, фанатизм – весь этот „священный трепет“, вся атмосфера пророчеств, видений, откровений не были привнесенными и посторонними элементами по отношению к социальным начинаниям – общности имуществ, строю внутриобщинных отношений, формам быта, нормам семейно-брачных связей». Народными мыслителями-утопистами и их последователями руководило живое чувство Христа, желание видеть мир, преображенный евангельским светом, стремление приблизить жизнь к апостольским временам с их атмосферой братской любви. Идея всечеловеческого единства на основе принципа «трудами рук своих» – одна из заветных в сочинениях Тимофея Бондарева. Обряды, которые соблюдались в общине, основанной Михаилом Поповым, должны были выражать и укреплять духовное единство членов общины, их решимости и готовности быть «вкупе» и «влюбе» в дни грозных пророчеств о кончине света. Последователи Николая Попова считали, что «дело, которое они осуществляли, <…> является восстановлением того, что некогда уже существовало и освящено именем Христа и что, таким образом, они лишь возвращаются к исходным и исконным началам веры и жизни». Пытаясь преобразовать социальные формы жизни, народные утописты хотели посеять и взрастить в мире христианскую любовь, сострадание и милосердие, они лелеяли мысль о братском единении людей в мире. Этим живет человек, в этом и есть правда жизни. народных народников 84 85 86
Достоевский тоже знал, что нужно сделать, чтобы посеять в мире любовь и гармонию: «Если б и все роздали, <…>, свое имение „бедным“, то разделенные на всех, все богатства богатых мира сего были бы лишь каплей в море. А потому надобно заботиться больше о свете, о науке и о усилении любви. Тогда богатство будет расти в самом деле, и богатство настоящее, потому что оно не в золотых платьях заключается, а в радости общего соединения и в твердой надежде каждого на всеобщую помощь в несчастии, ему и детям его» [25, 61]. Народники мечтали восстановить справедливость на уровне социальном, поэтому и их внимание больше было направлено на народ – на тех, кто угнетен. Достоевский о том же мечтал на уровне духовном, а потому свое внимание направлял на интеллигенцию, которая обеднила себя, переродившись в европейца, отрекшись от своей национальной сути. По мнению Достоевского: «Ныне получился тип русского революционера до того уже отличный от народа, что оба они друг друга уже совсем, окончательно не понимают: народ ровно ничего не понимает из того, чего те хотят, а те до такой степени раззнакомились с народом, что даже и не подозревают своего с ним разрыва (как все же подозревали, например, петрашевцы), напротив, не только прямо идут к народу с самыми странными словами, но и в твердой, блаженнейшей уверенности, что их непременно поймет народ. Эта каша может кончиться лишь сама собою, но тогда только, когда восполнится цикл нашего европейничанья и мы все воротимся на родную почву всецело» [25, 26]. Долг русских интеллигентов – восстановить порванные связи – не просто с народом, но со своими историческими корнями, прошлым, т.е. с самим собой, почувствовать себя полнокровным членом . несправедливо несправедливо семьи национальной
Таким образом, еще в 40-е годы русской литературной и общественной мыслью был поставлен один основной вопрос – как сделать так, чтобы наступило время, когда все люди будут «братьями». «Благородные порывы» охватили и молодого Достоевского. Однако, используя мемуарные свидетельства, мы можем утверждать, что Достоевский, увлекаясь западными идеями, сознавал их «неприложимость» к русской жизни. И скоро в своем творчестве он разорвет этот замкнутый круг, оставлявший за своими пределами знание о том, что есть русский народ. Белинский – своеобразное знамя этой эпохи – оказал значительное влияние на идейное развитие Достоевского. Однако Достоевский будет упорно доказывать опасность безграничной веры в человеческие возможности, в справедливый мир без Христа.
В середине 50-х годов Россия переживает общественный подъем, вызревают планы народной революции, по-прежнему в обществе слышится негодование на социальные условия жизни народа. Достоевский же открывает другую правду о народе. На каторге он сознает себя русским и из народной души, православной в своем существе, принимает снова в свою душу Христа.
В 70-е годы, когда в поэзии революционных народников зазвучал призыв «отречемся от старого мира», Достоевский доказывал, что следует не только не отрекаться, но и принять в свою душу духовные ценности «старого мира», преклониться перед народной правдой, потому что эта правда – наша, русская. У интеллигента, считал Достоевский, был долг не только перед народом в плане улучшения его социального быта, но и перед самим собой в смысле духовного возвращения на родину после долгих лет европейского скитальчества; восстановить порванные связи – не просто с народом, но со своими историческими корнями, прошлым, т.е. с самим собой. И снова, в то время как народники думают о справедливом устройстве социального быта, в основе которого должны быть общинные порядки, Достоевский ищет в русской народной душе реальное объединяющее начало, способное преображать мир.
В публицистическом и художественном творчестве писателя эти идеи воплотились в устойчивую метафору истории о блудном сыне.
Так, в «Дневнике писателя» читаем: «Мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа; преклониться пред правдой народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти и из Четьи-Минеи. Одним словом, мы должны склониться, как , двести лет не бывшие , но воротившиеся, однако же, все-таки русскими, в чем, впрочем, великая наша заслуга. Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием, и это sine qua non: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой» (полужирный курсив мой. – Н.К.) [22, 45]. Условие заключается в «расширении взгляда». «Древняя Россия в замкнутости своей , – неправа перед человечеством, решив бездеятельно оставить драгоценность свою, свое православие <…>. С Петровской реформой явилось расширение взгляда беспримерное <…>. Это не просвещение в собственном смысле слова и не наука, это и не измена тоже народным русским нравственным началам, во имя европейской цивилизации; нет, это именно нечто одному лишь народу русскому свойственное, ибо подобной реформы нигде никогда и не было. Это, действительно и на самом деле, почти братская любовь наша к другим народам, выжитая нами в полтора века общения с ними; это потребность наша всеслужения человечеству, даже в ущерб иногда собственным и крупным ближайшим интересам; это примирение наше с их цивилизациями, познание и их идеалов, хотя бы они и не ладили с нашими <…>. блудные дети дома готовилась быть неправа извинение
Можно серьезно верить в братство людей, во всепримирение народов, в союз, основанный на началах всеслужения человечеству, и, наконец, на самое обновление людей на истинных началах Христовых. И если верить в это «новое слово», которое может сказать во главе объединенного православия миру Россия, – есть «утопия», достойная лишь насмешки, то пусть и меня причислят к этим утопистам» [23, 46—50].
Достоевский действительно верил в возможность единения людей всего мира. Веру писателя подкрепила русско-турецкая война 1877—1878 гг. Она стала войной за святыню, потому что «поднялась, <…>, народная идея и сказалось народное чувство: чувство – бескорыстной любви к несчастным и угнетенным своим, а идея – „Православное дело“» [23, 102], и далее: «Славяне уверятся наконец, если б состоялась даже всевозможная клевета, в русской к ним. На них подействует неотразимое обаяние великого и мощного русского духа, как начала им » (курсив мой. – Н.К.) [23, 115—118]. Служение России другим народам писатель называет « служением ее им, как дорогим детям» (курсив мой. – Н.К.) [26, 86]. братьям родственной любви родственного материнским
По мысли Достоевского, «стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите» [26, 148].
Интеллигенты как , должные вернуться в свой родной через единение с народом, образовав с ним духовную , – это та образность, которая станет основой символического подтекста всей совокупности художественного наследия писателя. блудные дети дом семью
Осмысление идейного содержания и художественных законов творчества Достоевского в контексте данной идеи / считаем наиболее плодотворным. дома семьи
Глава 2 – основная. Семья в художественном творчестве Ф. М. Достоевского
1. «Преступление и наказание»: разъединенность с человеческим целым и преодоление ее
…«Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же» [Лк. 10, 30—37]. В этой евангельской притче четко обозначен смысл понятия «ближний» и отражена норма человеческих отношений, предполагающая способность каждого быть «ближним» другому. Главный герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» отступил от этой нормы, отдалив себя от человеческого общества, что обусловило, на наш взгляд, интересную особенность хронотопической структуры романа. Художественный мир произведения вмещает в себя два плана бытия: первый – созданный теорией Раскольникова, отражающий «модное безверие», которым заражено общество; второй – истинный, мыслимый идеально, но мерцающий в существующей действительности. Именно этому второму миру постоянно «проигрывает» разум Раскольникова.
В проекции на мировоззренческий язык: первый план – это зло, творимое волей человека, оно – неонтологично, поэтому ведет к забвению онтологического статуса мира (ибо «помутилось сердце человеческое»); и «тысяча добрых дел», подразумевающихся раскольниковской теорией, – не истинно добрые дела, искаженное в своей сути добро; второй план – онтологически безгрешный мир, абсолютное добро.
Два хронотопических плана «Преступления и наказания» отражают и две ипостаси духовного бытия (истинная и «перевернутая» духовные реальности); они представляют собой два возможных исхода, которые зримо явлены в конце романа: 1) в сне Раскольникова о трихинах, 2) в сцене возрождения в новую жизнь Раскольникова и Сони. Пространство художественного мира произведения – это пространство духовное, наложенное на пространство реальной действительности. Сопряжение разных планов бытия происходит преимущественно через образы-символы и художественные детали-символы (солнце, мост, лестница, перекресток, деньги, числа , «обманные» предметы / ситуации). Идея двух «пространств» объясняет и многие сюжетные эпизоды (которые в прямом смысле не всегда логичны), подчиняя весь сюжет единому замыслу. Семантическое наполнение символов многопланово: они – либо с «перевернутым» / «обманным» смыслом (репрезентирующие модель мира по теории Раскольникова), либо с амбивалентным смыслом (подчеркивающие возможность и мира бесовского, и мира Божьего, возможность эта является результатом свободного выбора каждого человека). «Перевернутую» раскольниковскую реальность воплощают также образы Свидригайлова, Лужина, Лебезятникова. четыре / четырнадцать
Рассмотрим наиболее значимые символы, организующие хронотоп и расставляющие смысловые акценты в идейном содержании романа.
, с позиции теоретического мира Раскольникова, в структуре романа может прочитываться как обозначение восхождения вверх – к счастью родных, а шире, всего человечества, то есть к лучшему миру, по собственному, раскольниковскому, образцу (именно по ней он поднимается в квартиру Алены Ивановны, чтобы взять те средства, на которые можно осуществить замысел). Так как это ложно понятое счастье, на лестнице всегда . Эта темнота символически отражает духовную тьму героя (заметим, темнота на лестнице ему очень даже нравилась, поскольку так любопытный взгляд неопасен [6, 7]). Большинство других сцен романа освещает только «догоравший» огарок [6, 22] / огарок, который «уже давно погасал в кривом подсвечнике» [6, 251] / тусклый свет / лампа. В таком контексте слова Раскольникова при объяснении Соне причин убийства приобретают символический смысл: «Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать» [6, 320]. Этот смысл четко обозначен самим героем, правда, пытающимся переложить ответственность со своих плеч на плечи сверхъестественной силы. «Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне все представлялось, это ведь дьявол смущал меня?», «я ведь и сам знаю, что меня черт тащил» [6, 321]. Соня вынуждена ходить к Мармеладовым в , «средства посильные доставлять», то есть делать праведное, благородное дело бесчестным способом. Лестница темно сумерки 87 88
Примечательно, что несколько раз именно при с лестницы Раскольников выходит из духовной тьмы, то есть думает или действует вопреки своей теоретической логике. Так, после , спускаясь по лестнице от старухи, «он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. И наконец, уже на улице, он воскликнул: схождении пробы
«О боже! как это все отвратительно! И неужели, неужели я… нет, это вздор, это нелепость! – прибавил он решительно. – И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц…«» [6, 10].
Еще пример. Отдав все свои деньги на похороны Мармеладова, Раскольников спускается с лестницы «полный одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни» [6, 146]. На последних ступенях его догоняет Поленька и горячо благодарит за проявленное добро. (Правда «полную жизнь» он еще понимает по-своему, теоретически.)
Лестница, находясь в ложном плане бытия, приобретает «перевернутый» смысл. Пульхерия Александровна о той, которая ведет к каморке Раскольникова, восклицает: «Но вот и эта лестница… Какая ужасная лестница!» [6, 170]. При этом Раскольников по разным лестницам в романе почти всегда поднимается в этаж (к старухе процентщице, к Мармеладовым, в контору). Смысловые акценты относительно числа расставлены автором и далее. Четыре – некая черта, граница между «темным» и «светлым». Читая о воскресении Лазаря, Соня «энергично ударила на слово: » [6, 251]. «Четыре дни» лежал Лазарь мертвым во гробе. Раскольников, допустив преступный умысел в душе своей, тоже, в сущности, живет. Он не был у Разумихина месяца ; месяц не ходит на уроки и не платит за каморку. Разумихин говорит больному Раскольникову: « день едва ешь и пьешь» (курсив мой. – Н.К.) [6, 93]. По евангельскому слову, четыре дня – тот период, после которого совершается воскресение – при одном условии. «Иисус сказал ей (Марфе. – Н.К.): ; верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек» [6, 250]. В этой евангельской цитате, включенной в художественный мир романа, писатель курсивом обозначил самое важное в ней. Четыре этажа лестниц, по которым ходит Раскольников, – жизни, но с надеждой на воскресение, возможное только тогда, когда Родион примет сердцем «условие». 89 90 91 четвертый четыре четыре не четыре четвертый Четвертый Я есмь воскресение и жизнь вне но
Стоит заметить, что время наступления тех или иных событий в романе часто измеряется часа. становится минимальной единицей целого (= часа). А ведь – некий числовой символ всего, целого, мира (четыре стороны света, четыре стихии), и конкретнее, православного мира (четырехконечный крест, четыре канонических Евангелия); то есть четверть – лишь одна, минимальная, часть мира. Это символически подчеркивает минимальную слитость главного героя с человеческим целым, минимальную долю истинного в нем существования. четвертью Четверть четыре
Интересный факт: когда Раскольников идет в контору делать признание, он поднимается в этаж, и Порох выходит из комнаты. Когда же Раскольников первый раз шел в эту же самую контору, он поднимался в этаж и заходил в комнату. Явное фактическое несоответствие чисел здесь, еще и умноженное на два, полагаем, не случайно; это не описка Достоевского по невнимательности, особенно если соотнести с фразой Порфирия о том, что у Раскольникова впереди жизни еще много будет [6, 251] (если, разумеется, Родион сделает признание самому себе). Можно предположить здесь смысловую рифму к библейскому факту: именно в день сотворения мира появилась на земле жизнь («И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду [и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду его [на земле]» [Быт. 1, 12]). третий третьей четвертый четвертую третий 92
В романе есть еще один случай упоминания лестницы. После произнесенного мещанином слова «Убивец!» в сознании Раскольникова, лежавшего в своей каморке, всплывали разные «картинки»: «какие-то мысли или обрывки мыслей, какие-то представления, без порядка и связи, – лица людей, виденных им еще в детстве или встреченных где-нибудь один только раз и об которых он никогда бы и не вспомнил; колокольня В-й церкви; биллиард в одном трактире и какой-то офицер у биллиарда, запах сигар в какой-то подвальной табачной лавочке, распивочная, черная лестница, совсем темная, вся залитая помоями и засыпанная яичными скорлупами, а откуда-то доносится воскресный звон колоколов…» [6, 210]. Лестница вспоминается только темная, однако вне ее мир полон колокольного звона. 93
Таким образом, смысловое наполнение символа в художественной структуре романа тесно сопряжено с раскольниковским теоретическим мировидением, искажающим действительный мир. Сам создатель теории «умирает» для мира. Однако семантический контекст, в который помещаются различные лестницы романа, есть означение того, что путь к счастью мира ложно понят главным героем. лестница
Смысл Раскольникова амбивалентен: она похожа на гроб (сема ), с одной стороны, с другой – это квартира над этажом (подтекст чего, если продолжать проводить параллель с воскресением Лазаря, произошедшем после четвертого дня, – в возможности восстановления отпавшего от мира человека, обретения им жизни) номер (в библейские времена в день первого месяца совершалась Пасха) (сема ). каморки не-жизни четвертым четырнадцать четырнадцатый воскресения 94
также оказываются атрибутом и мира ложного, и мира истинного. Деньги, взятые Раскольниковым у старухи, несомненно, репрезентируют дьявольскую ипостась бытия. Однако 25 рублей, присланные сыну Пульхерией Александровной, 3 000 рублей, оставленные Марфой Петровной по завещанию Дуне, деньги, отданные Свидригайловым Соне и положенные на счет детям Мармеладовым, деньги за перевод текста, которыми Разумихин делился с Раскольниковым, давая ему работу, наконец, деньги, которыми сам Раскольников помогал Мармеладовым (дважды), пьяной девочке, – это чистые деньги милосердия и доброты. Забегая вперед, укажем на метафизический смысл, который имеет последовательность сюжетных ходов. Раскольников, после того как спрятал под камень преступные деньги, пришел к Разумихину (точнее, оказался у него несколько неожиданно для себя) просить заработать. Рассудочной логикой такая последовательность действий необъяснима, здесь действует логика духовная: нечистые деньги не дают жизни. В целом в романе после получения (Раскольниковым) или попытки получения (Дуней путем замужества) «неправедных» денег следует получение денег праведных (25 рублей Раскольникову, 3 000 рублей, а также предлагаемые Свидригайловым 10 000 рублей Дуне). Однако если «ошибка» Дуни исправима, «ошибка» Раскольникова – нет, поэтому примечательно то, что, когда Разумихин начинает излагать семье Раскольниковых проект своего предприятия, которое принесет доход (праведные деньги), Раскольников уходит. Кроме того, от денег сострадания, помощи Родион сам отказывается, что повторяется по-библейски трижды: когда возвращает Разумихину аванс за перевод, когда бросает двугривенный – подаяние купчихи, когда говорит: «Не надо… денег…» [6, 94], присланных матерью. Трехкратный отказ от помощи подчеркивает его состояние отъединенности от людей. Деньги 95 96
Убийством Раскольников именно отъединил себя от мира, а не спас мир. «Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались душе его» [6, 81]. «И что всего мучительнее – это было более ощущение, чем сознание, чем понятие; непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнию пережитых им ощущений» [6, 82]. Раскольников не только не может принять добро, проявляемое по отношению к нему (так как чувствует, что недостоин), но и устраняет (как бы помимо своей воли) того, кто ему добро делал. Когда у постели больного Родиона Разумихин и Зосимов говорят об убийстве, вдруг (т.е. неожиданно и «не в тему») встревает Настасья, заключая свое пояснение Раскольникову неслучайной фразой:
«– Лизавету-то тоже убили! – брякнула вдруг Настасья, обращаясь к Раскольникову. <…>
– Лизавету? – пробормотал Раскольников едва слышным голосом.
– А Лизавету, торговку-то, аль не знаешь? Она сюда вниз ходила. » (курсив мой. – Н.К.) [6, 105]. И о воскресении Лазаря, добавим, Раскольников будет слышать именно из той книги, которую принесла Соне Лизавета. Еще тебе рубаху чинила
В черновиках романа в реплике Настасьи особо подчеркивается то, что рубаху чинила именно Лизавета, а не она. «Ты думал, чинила-то я! Я тонкой иглой шить не умею. Ишь в пяти местах заплат наставила, – бормотала она, перебирая рубаху, – уж у тебя и рубаха-то, ишь ведь! Еще десять копеек с тебя за чинку следовало, да ты и доселева не отдал…» [7, 64]. Таким подробным рассказом Настасьи, а также последующим ее сообщением о том, что Лизавета жила с лекарем, при этом «она ему и белье стирала. Тоже ничего не давал» [7, 71], подчеркивается идея бескорыстного добра со стороны Лизаветы (бескорыстие акцентируется и в исправлении словосочетания «мало платил» на «ничего не давал»). В окончательном же варианте Достоевским сделан акцент на мысли об отвержении добра главным героем, более того, попрании его жестоким преступлением. 97
Самое «тяжелое», неподъемное для Раскольникова добро – это то, которое проявляют близкие ему люди, не отвергая героя даже тогда, когда узнают о совершенном им преступлении. И Родиону очень тяжело и мучительно от этого. «Если б возможно было уйти куда-нибудь в эту минуту и остаться совсем одному, хотя бы на всю жизнь, то он почел бы себя счастливым» [6, 337]. Более того, он упрекает Дуню за попытку принести для него жертву: «Ты выходишь за Лужина для меня. А я жертвы не принимаю» [6, 152]. Но он не задается вопросом о том, почему родные и все человечество должно принять его – бесчеловечную – жертву. И не хочет замечать разницу в сущности денег – тех, которые его разъединяют с миром, и тех, которые удерживают его в мире.
в романе – это выход из (сон Раскольникова об оазисе) и средство сокрытия преступления (Раскольников отмывает водой кровь с топора и с себя), «пейзаж» самоубийства Свидригайлова. Стоя «над водой», Раскольников мучается соблазном физически оборвать жизнь; более того, на его глазах это реально осуществляется (эпизод с утопленницей), правда, без трагического исхода. Таким образом, вода в романе коррелирует с идеей выхода из , однако этот выход оказывается то ложным, то истинным; истинным – только во сне. Вода духоты духа духовной духоты
Амбивалентен смысл символа : она на Раскольникове и в момент убийства, и в момент его заботы об умирающем Мармеладове. кровь 98
«– А как Вы, однако ж, кровью замочились, – заметил Никодим Фомич, разглядев при свете фонаря несколько свежих пятен на жилете Раскольникова.
– Да, замочился… я весь в крови! – проговорил с каким-то особенным видом Раскольников, затем улыбнулся, кивнул головой и пошел вниз по лестнице» [6, 145]. По сути, Раскольников проговаривается: кровь на нем – не только кровь помощи и соучастья.
Символ в романе также амбивалентен, что убедительно показал в своей статье «О символах Достоевского» Л. В. Карасев: «Раскольников уже шел на дело, уже занес ногу, чтобы переступить порог, когда возникло некоторое замешательство. Войдя в кухню за топором, он увидел, что «Настасья не только на этот раз дома, у себя на кухне, но еще занимается делом: вынимает из корзины белье и развешивает на веревках!» чистое белье
Найдя топор в дворницкой, Раскольников все-таки свершает убийство. И сразу же после этого снова сталкивается с чистым бельем, но уже на квартире старухи: отмыв кровь, он затем «все оттер бельем, которое тут же сушилось на веревке, протянутой через кухню». <…> Сначала белье, висевшее на Настасьиной кухне, пыталось помешать Раскольникову, однако после того, как он все же добился своего, оно превращается в его помощника, «перелетев» из Настасьиной кухни на кухню старухи». 99
«Вместе с тем „удвоенное“ чистое белье в судьбе Раскольникова и, особенно, его возвращение в старухину квартиру, после убийства, когда квартира уже оклеена новыми белыми обоями идет как намек на возможное возрождение или излечение. Это еще не „пеленки“, но что-то обнадеживающее здесь уже есть». 100
Символизм числа имеет евангельские корни. Так, например, С. В. Белов отметил аллюзию на притчу о винограднике: «Отнеся встречи Раскольникова с Мармеладовым, Соней и Порфирием Петровичем к 11 часам, Достоевский напоминает, что Раскольникову все еще не поздно сбросить с себя наваждение, еще не поздно в этот евангельский час признаться и покаяться и стать из последнего, одиннадцатого, первым». Иначе: у Раскольникова есть возможность вернуться из своего искаженного мира в мир нормальный, то есть мир Божественной нормы. одиннадцать 101
Семантически двойственно в романе число . В той же книге С. В. Белова интересно «раскладывается» на как число мирового порядка и как число Божественного совершенства (а значит, символизирует союз Бога и человека или общение между Богом и человеком): «Можно предположить, что, идя на убийство в 7 часов, в это „истинно святое число“, в этот символ „союза“ Бога с человеком, Раскольников тем самым уже был заранее обречен на поражение, так как хотел разорвать этот „союз“ Бога с человеком. Вот почему, чтобы снова восстановить этот „союз“, чтобы снова стать человеком, Раскольников должен снова пройти через это „истинно святое число“. Поэтому в эпилоге романа снова возникает число 7, но уже не как символ гибели, а как спасительное число: „Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья!.. Семь лет, только семь лет! В начале своего счастия, в иные мгновенья, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней“». Седьмой час убийства – еще одно символическое подтверждение «перевернутости» мира, сконструированного раскольниковской теорией. Это подтверждение – и в количестве шагов от дома Раскольникова до дома старухи процентщицы: (шагов) как совмещение «истинно святого числа» и «предательского» числа определяет метафизическую сущность преступного замысла героя, который, идя на преступление, между Богом и человеком, таким образом Бога. семь семь четыре три семь 730 7 30 рвет связь предавая 102
также отражает хронотопическую структуру романа: Раскольников, находясь в плоскости действительной жизни, расколот на две реальности, «точно в нем два противоположные характера поочередно сменяются» [6, 165]. Фамилия главного героя
Искажение Божественного лика мира действительного репрезентируется в : медный колокольчик с жестяным звуком; обманный заклад Раскольникова; мысль Разумихина о том, что Раскольников – политический заговорщик; «разврат» Сони, являющийся жертвой во имя спасения семьи; признание Раскольникова Заметову в трактире, замаскированное под желание подразнить; дважды повторяющийся обманный сюжетный ход: Раскольников, запертый на крюк (в квартире у старухи сразу после убийства и в своей каморке на следующий день, когда стучат Настасья и дворник), дает повод думать, что никого нет, однако следует быстрая догадка о том, что заперто изнутри, значит, кто-то есть. Подтекстово здесь выражена мысль об отъединенности Раскольникова от людского общества: он как бы есть в этом мире, но его как бы и нет. «обманных» предметах, явлениях, событиях как бы
в романе также оказывается «обманным». Очень тонко заметил Л. В. Карасев: «Раскольников убил старуху и ее сестру совсем не тем топором, каким собирался сделать это первоначально. Эта деталь требует к себе особого внимания. На кухне Настасья стирала белье и развешивала его на веревках, и только по этой причине Раскольников был вынужден взять топор не на кухне, а в дворницкой. <…> Новый топор Раскольникова – это уже не инструмент его воли, его идеи, а подарок, подлог случая-беса („Не рассудок, так бес! – подумал он, странно усмехаясь“). <…> Сумел бы Раскольников осуществить свой замысел, если бы пошел на дело с кухонным топором, а не с топором из дворницкой? Вопрос, как кажется, не лишен смысла; настоящий, небесовской топор мог оказаться в самый решающий миг неподъемным для Раскольникова. Подставным же, подложным топором он действовал „почти без усилия, почти машинально“». Топор 103
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе