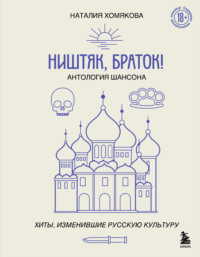Читать книгу: «Ништяк, браток! Антология шансона. Хиты, изменившие русскую культуру», страница 2
Маруся Климова, прости любимого
Упоминания в мемуарах и первые записи говорят о том, что уже в середине 1920-х годов «Мурка» была популярна в криминальном мире, а в 30-х ее пели и рабочие, и интеллигенты. Поют, кстати, до сих пор. Подростки во дворе, уважаемые артисты по радио и телевидению, любители на домашних посиделках. Популярность «Мурки» совсем не спадает, хотя ни ЧК, ни урков, ни романтизируемых банд больше нет.
Кто написал эту песню, доподлинно неизвестно. Предположительно, музыку создал Оскар Строк, подаривший миру танго «Черные глаза», а текст – Яков Ядов, автор «Бубличков» и многих других околоблатных песен. Однако это лишь догадки. Важнее тут не авторы, а история, заключенная внутри шлягера.
Во-первых, Мурка – женщина, которая держит банду. Такого в блатных песнях не встретить. Если и пели о женщинах, то о матерях, женах, любовницах, но никак не о предводительнице ОПГ. Во-вторых, петь о том, как бандиты расправляются со своим, пусть и бывшим, товарищем – тоже не особо распространенный сюжет. Как правило, они едины, стоят друг за друга, а о предателях лучше вообще не говорить.
Вариантов текста «Мурки» существует примерно миллион миллиардов. И сценарии, кстати, в них отличаются. То Мурка приезжает из Одессы, то из Ленинграда, то ее банда убивает свою предводительницу, то Маруся раскаивается перед смертью, то у нее начинается роман с одним из уркаганов, то Мурку пышно хоронят. В общем, фантазия тут разворачивается и на основную линию, и на спин-оффы.
Кроме того, есть же неблатная «Мурка»! В 1930-х рижская фирма Bellaccord Electro выпустила пластинку, на которой Константин Сокольский поет о несчастливом браке: о жене Мурке, которая загуляла с другими, и за это муж пустил в нее пулю. В 1940 году в той же Риге в сборнике «Новый песенник» вышел текст этой песни с точно таким же содержанием. Неблатная версия прекрасно разошлась и по странам Балтии, и по Союзу. Те, кому не нравилось петь про урков и ЧК, могли выбрать вариант песни о гулящей Мурочке.
А для тех, кому и этот вариант не подходил, Леонид Утесов спел «У окошка». Мелодия прежняя, а текст исключительно про любовь. И даже никакой «Мурки» не упоминается. В 1934 году исполнять и записывать блатные и кабацкие песни было запрещено, поэтому Утесов пошел на хитрость: взял шансонную мелодию и сделал из нее хорошую, даже добрую, песенку. Но обмануть цензурные органы получилось ненадолго. В 1935 году Леониду Осиповичу запретили исполнять и продавать некоторые музыкальные произведения «упаднического характера». «Мурка», точнее «У окошка», оказалась в их числе.
Что было раньше: «Мурка», которая держала банду, или «Мурка» гулящая? Фольклорист Владимир Бахтин считал, что неблатная версия появилась первой, а уже после в воровской среде разошелся переделанный вариант с криминальным флером. Это вообще довольно распространенная история, когда из популярной песни появляется пародийная, хулиганская. Так, например, в 1970-х Аркадий Северный пел «Стоит на полустаночке мой милый после пьяночки» вместо «Стою на полустаночке в цветастом полушалочке». Однако бандитка-Мурка, судя по документам (в частности, документам Института по изучению преступника и преступности в Курском исправдоме), опередила гулящую.
А еще эта песня была не про Мурку, а про Машу. Тоже бандитку, но не такую рьяную. Александр Сидоров в книге «Песнь о моей Мурке. История великих блатных и уличных песен» пишет: «Первоосновой “Мурки” стала знаменитая одесская песня о “Любке-голубке”». Фольклорист Юрий Соколов услышал эту версию в 1934 году от беспризорницы Екатерины Холиной. Она же рассказывала, что от одного молодого вора Ветерка услышала не Мурку, а Любку, но сюжет был аналогичным. Про Любку писал и Константин Паустовский в «Повести о жизни», она там, как полагается, зашухерила всю малину и получила за это «маслину».

А была ли Мурка?
Любимое занятие конспирологов – найти прототип. Существовала ли в реальности Маруся Климова, раз о ней слагались такие песни? Версий еще больше, чем куплетов у этого шлягера. В 2016 году даже сериал о Мурке сняли, правда лишь об одной из предполагаемых девушек.
Итак, Муркой может быть:
• революционерка, анархистка, террористка – Мария Никифорова. Она недолгое время воевала вместе с Нестором Махно;
• командирша кавалерийского полка в армии Нестора Махно – Маруся Черная;
• глава повстанческого отряда в западных областях Украины в 1919 году – Мария Соколовская;
• проститутка из Одессы, которая выдала чекистам бывших белогвардейских офицеров – Вера Гребенникова;
• агент милиции, которая внедрилась в одну ленинградскую группировку и помогла правоохранителям провести облаву в трактире «Бристоль» – Мария Евдокимова. О ней и сняли сериал.

Но более вероятно, что Маруся Климова – персонаж вымышленный, собирательный. Очень яркий и запоминающийся. И пусть Мурка каждый раз погибает в песне (погибает тоже по-разному, зависит от варианта), зато сама песня живее всех живых. И ее ни перо, ни маслина не убьют.
Девушка из фильма «Рассказы» так ничего и не смогла сказать о ГУП ЧК и уркаганах. Расплакалась и выступила с предложением:
– Не бросай меня, пожалуйста. Я знаю, что тебе не о чем со мной разговаривать, но ты можешь со мной просто тр*****ся.
Мужчина вышел из подъезда, закурил:
– А о чем с тобой тр*****ся?
Совсем не до смеха с Муркой.

https://vk.com/music/playlist/-227895316_2_3bbd5529a72951efb4
Глава 3. Лимончики

В 1990 году группа «Дюна» выпустила песню «Страна Лимония». Веселый хит сделал из коллектива, который играл хард-рок, настоящих народных любимцев. Под незатейливую мелодию Виктор Рыбин стал петь о выдуманной территории, где растут лимоны, которые не так-то просто достать. В этой песне была отсылка к эпохе НЭПа – с экономикой в период перестройки творилось странное, как и в 1920-х. Гиперинфляция, девальвация и прочие – ция.
«Лимон» – миллион обесценившихся рублей. Так о деньгах говорили при НЭПе, подчеркивая, что товарно-денежные отношения превратились в бесполезное занятие. В Одессе и поговорка была соответствующая: «За лимончик та ще з гаком, ты получишь дулю з маком». Владимир Высоцкий в своей «Балладе о детстве» этот термин тоже упоминает:
Пришла страна Лимония,
Сплошная Чемодания!
Взял у отца на станции
Погоны, словно цацки, я,
А из эвакуации
Толпой валили штатские.
Но Владимир Семенович фразой «пришла страна Лимония» рассказывает о возвращениях с трофеями воинов-победителей, когда деньги опять же были не так ценны, как вещи, привезенные из Японии или Германии, которые можно было обменять.
Главной песней об обесценившихся деньгах были и остаются «Лимончики». Музыку для нее написал Лев Зингерталь, а слова – Яков Ядов, хотя, как и в случае с «Муркой» (да и с другими песнями той поры), текст народ подстраивал под себя и под ситуацию. В нэпманских кабаках куплеты менялись, добавлялись и быстро разлетались среди кабацких и уличных певцов.
В этой одесской песенке важно было лишь придерживаться простой схемы: упоминать еврейские имена и рифмовать лимончики с балкончиками. Этого было достаточно.
Ах, лимончики, вы мои лимончики.
Где растете? – не в моем саду.
Ах лимончики, вы мои лимончики,
Вы растете у Сары на балкончике.

Запрещенка
К закату НЭПа популярность «Лимончиков» начала снижаться. В 1929 году на Всероссийской музыкальной конференции был вынесен приговор – запретить исполнение и издание музыки цыганско-фокстротного направления. По мнению заседателей, она «наряду с религией, водкой и контрреволюционной агитацией, заражая нездоровыми эмоциями, играет не последнюю роль в борьбе против социалистического переустройства общества». Кабаки и рестораны закрывались. Романсы и уличные песни оказались под запретом.
Благодаря Леониду Утесову кабацкая и одесская песня продолжала звучать еще некоторое время. Со своим «Теа-джазом» артист стал исполнять композицию «про фрукты» на концертах, а в 1932 году даже издал ее на пластинке. И пусть она не появилась в свободной продаже, но в Торгсинах ее можно было достать. А на пластинке и «Лимончики», и «Гоп со смыком», и «С одесского кичмана» – вся запрещенка той поры.
К тому же Утесов снова, как уже делал с «Муркой», слегка подправил текст для пластинки, чтобы никакая цензура к нему не пристала.
Еврейских куплетов Якова Ядова в «Лимончиках» больше не было. Леонид Осипович превратил песню в «пролетарский джаз» со стихами Василия Лебедева-Кумача:
Как много пар: и млад, и стар —
Все поднялись и заплясали вместе разом,
Увлечены веселой музыкой и джазом,
Всем захотелось сразу танцевать!
Ой, лимончики, вы мои лимончики,
Вы растете на моем балкончике!
Какая гиперинфляция? Только музыка, танцы и парочки, которые наслаждаются веселыми ритмами. Сара, Беня, Соня и другие одесситы остались в прошлом. Но в народе песню не забывали. Официально ни про «Лимончики», ни про «Бублички» петь было нельзя, но подпольно-то – можно.
Кроме того, на концертах для партийных чинов властители сами просили исполнить запрещенные песни. Тот же Утесов вспоминал, как «душили» песню «С Одесского кичмана»:
Начальник репертуарного комитета Платон Михайлович Керженцев его предупредил:
– Утесов, если вы еще раз где-нибудь споете «С одесского кичмана», это будет ваша лебединая песня. И вообще, эстрада – это третий сорт искусства, а вы, Утесов, не артист.
– А ведь Владимир Ильич Ленин в Париже часто ездил на Монмартр слушать известного шансонье Мотегюса. Ленин высоко ценил мастерство этого артиста, – парировал Утесов.
– Да, но ведь вы-то не Монтегюс, – сказал Керженцев.
– Но и вы, Платон Михайлович, между нами говоря, тоже не Ленин, – ответил Утесов. Попрощался и ушел.
А в 1935 году Леонида Осиповича пригласили на прием по случаю спасения полярников. Сталин был в зале. После официальной части генсек через помощников передал Утесову просьбу – спеть что-нибудь одесское. Ну, артист и не сплоховал, исполнил про кичман.
– Когда я кончил петь, Сталин курил трубку. Вдруг он поднял свои ладони и захлопал. И тут они – и этот, с каменным лбом в пенсне, и всесоюзный староста, и Керженцев начали аплодировать бешено, как будто с цепи сорвались. А наши герои-полярники закричали «бис». Три раза я пел в этот вечер «С одесского кичмана», и три раза все повторялось сначала, – вспоминал позже Леонид Осипович.
После войны к «легкому жанру» стали относиться легче. Но на большую сцену «Лимончики», «Бублички», «Кирпичики» и другие песни 1920-х не попадали.
Михаил Гулько рассказывал коллекционеру шансона Максиму Кравчинскому в книге «Песни, запрещенные в СССР» о своей работе в ресторанах в 70-х:
– Люди приходили к нам отдохнуть, потанцевать, послушать не надоевший до чертиков репертуар – «И Ленин такой молодой и юный Октябрь впереди!» – а что-нибудь душевное, со смыслом. Такие песни запрещали официально, но мы, конечно, только их и играли: «Журавли», «Мурку», «7.40», «Лимончики», «Ах, Одесса!»… Козина, Лещенко, Вертинского…

Руководитель ансамбля каждый вечер должен был предоставлять специальную бумагу, в которой указывались количество и названия песен, которые звучали в ресторане и при этом были одобрены отделом культуры. Но на самом деле эти песни никто и не думал играть. Да и слушать их уже мало кто хотел. А вот «Лимончики» и их близких «друзей» – это другой разговор.
АХ, ЛИМОНЧИКИ, ВЫ МОИ ЛИМОНЧИКИ.
ГДЕ РАСТЕТЕ? – НЕ В МОЕМ САДУ.
АХ ЛИМОНЧИКИ, ВЫ МОИ ЛИМОНЧИКИ,
ВЫ РАСТЕТЕ У САРЫ НА БАЛКОНЧИКЕ.

https://vk.com/music/playlist/-227895316_3_dcf500601597176f87
Глава 4. Танго «Магнолия»

Если бы в 2021 году Авдотья Смирнова не сняла сериал-байопик «Вертинский», то это обязательно нужно было бы сделать кому-то другому. Потому что в один фильм всю его историю не уместить, а экранизации судьба великого шансонье действительно достойна.
Александр Николаевич умел петь веселые песни с грустным лицом, а грустные песни пел так, что ему безоговорочно верили все, кто становился слушателем. О своей судьбе Вертинский рассказал в книжке «Дорогой длинною…», правда, сделал он это очень осторожно. И на то были причины.
Артист уехал из страны в 1920 году на пароходе «Великий князь Александр Михайлович». Уезжал быстро: в Петербурге и Москве власть под себя уже подмяли красные, в Киеве, Одессе и Севастополе беспорядки только усиливались. С остатками армии Врангеля Вертинский прибыл в Константинополь.

Он жил и пел в Румынии и Бессарабии, выступал в дешевых кабаках, перебивался с хлеба на воду. А потом одна кишиневская актриса, состоявшая в слишком близких отношениях с важным генералом, отомстила Вертинскому за то, что он отказался выступать на ее концерте, и донесла «куда следует», что якобы Александр Николаевич – советский шпион. Артиста выслали в Бухарест.
Дальше были Польша, первый брак с богатой еврейкой и первые прошения о возвращении домой, в Россию. А с ними – и первые отказы. Потом Берлин, большие гастроли по Европе и новые попытки оказаться в Москве или Петербурге. Снова не вышло.
Тот самый хит
В 1925 году Вертинский переехал в Париж. И здесь были написаны его, пожалуй, главные (самые известные) песни. Визитной карточкой Александра Николаевича стало танго – «Танго “Магнолия“». Песня о женской тоске по возлюбленному с очень запоминающимся бриджем: «Ах вот эти тади-дам там-там-там». Как именно Вертинский написал это танго, историй не сохранилось, но есть две легенды.
На одном из выступлений в Париже к артисту подошел мужчина в красивом смокинге и попросил исполнить одну песню. Название он, конечно, забыл, алкоголь в том заведении лился рекой, но напел мотив «тади-дам там-там-там». Вертинский свое «Танго» узнал, спел. Гость был доволен, ушел с концерта в хорошем настроении, а перед уходом пригласил Александра на обед в дорогом парижском ресторане.
Вертинский от таких приглашений не отказывался, в назначенное время явился в заведение, сообщил администратору, что его ожидают за столиком у камина. Администратор откровенно удивился: лицо Вертинского ему было не знакомо, а вот тот, кто этот стол резервировал, всегда был желанным гостем в ресторане. И кстати, этот гость уже ждал русского шансонье за столом. Пока Вертинский приветливо кивал своему новому знакомому и объяснял администратору, что никакой ошибки тут нет, сотрудник ресторана ему сообщил: «Вы вообще знаете, что вас ждет сам принц Уэльский?» Александр Николаевич об этом слышал впервые, но виду не подал. Провел вечер в королевской компании, мог себе позволить и такое.
Вторая история, связанная с «Танго», была рассказана мне одним поклонником Вертинского, а позже ее же удалось встретить в закромах блогов LiveJournal. Не могу ручаться за достоверность, но байка любопытная, потому что строчка «когда под ветром ломится банан» может смутить человека, который видел, как банан растет. Это же трава. И во время бури его просто с корнем вырвет из земли.
Так вот, на одном из концертов Александра Николаевича присутствовал мужчина с азиатским разрезом глаз, который после «Танго “Магнолия“» спешно покинул зал. А на следующий после выступления вечер в номер отеля Вертинского кто-то постучал. Артист открыл дверь и увидел четверых мужчин с тем же разрезом глаз и саблями на поясах. Разговор, однако, пошел очень вежливо.
– Вы вчера пели про магнолию и баньян в Сингапуре.
– Пел, – подтвердил Вертинский.
– Так вот, баньян – это наша святыня. И она несокрушима. А вы поете, что он ломится под ветром. Но его не могут сломить ни бури, ни ветра, ничто!
Вертинский задумался и предложил:
– А давайте я заменю его на банан!
Гости улыбнулись, и сабли им так и не пригодились. На этом разошлись. В песне остался банан, который никого не оскорбляет, а что до того, что он ломится под ветром, – пускай. Главное, что каравану птиц это никак не мешает.

Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе