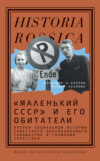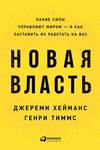Читать книгу: «Русский путь в управление. Зачем, как и что понимать русскому человеку в управлении собой, делом и Родиной», страница 3
Автором рационального познания также на первый взгляд является человек. Но есть нюанс. Любой из нас, решавший хоть что-нибудь хоть когда-нибудь – от школьной задачки по математике до выбора стратегического курса крупной компании, – знает эффект озарения. Для солидности и любителей чуждых терминов даже скажу, инсайта.
Когда мы мучительно долго не можем решить какую-либо задачу, а потом на нас внезапно нисходит её решение, происходящее принято называть озарением. Этим термином русский язык обязан святителю Григорию Богослову. Он считал озарение второй стадией духовного роста христианина после очищения (греч. – катарсис) и перед обожением, т. е. уподоблением Богу. Нетрудно понять, что для свт. Григория заря, от которой происходит «озарение», – свет Божественный.
Я уже упоминал, что русский язык не присваивает одному и тому же значению два разных слова. «Инсайт», который часто считают полным синонимом «озарения», содержательно иное слово. Инсайт есть осознанное нахождение в результате продолжительной бессознательной мыслительной деятельности. И, таким образом, продукт человеческий.
Истрактуем инсайт в пользу человека и сочтём его автором рационального познания так же, как ранее автором поведения.
Чувства в форме ощущений, восприятий и представлений на вид точно человеческие. Впечатление обманчиво. Мы называем чувствами то, что в нас уже проявилось. Проявление чувств мы контролируем: спецагенты и игроки в покер наглядно это подтверждают. А откуда берётся то, что позже проявится как чувство? В состоянии ли мы сделать так, чтобы они не только не проявлялись, но и вообще не появлялись?
Похоже, нет. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне», – писала поэтесса Юлия Друнина. Появление остальных чувств подчинено этому же правилу. Например, попробуйте не испытать негодование по поводу моего заявления, что вы не сможете это сделать.
Раз не мы авторы появления чувств, значит, чувства в нас заложены. Они наши системные настройки, предустановленная операционная система человека как изделия, его неотъемлемая часть. Не пойду в спор, кто человека сотворил – Создатель, природа или случай. Но уверенно заявлю: кто человека сотворил, тот и чувствами наделил.
Продолжим метафору: если чувства уподобляемы системным настройкам, то в этих же терминах рациональное познание и поведение могут быть уподоблены приложениям, которые мы сами выбираем во встреченных по ходу жизни «магазинах» и самостоятельно загружаем.
Важность чувств определяется именно их предустановленностью, мы, как современные продвинутые пользователи, хорошо это понимаем.
Сформулируем в явном виде второй системный недостаток менеджмента. Он игнорирует объективно существующие системные настройки человека. Чувства – не просто нормальны и необходимы, они играют ключевую роль в жизни человека. Полностью справедливо возложение на человека ответственности за его поведение. Почти полностью – за его рациональное познание. Но возложение ответственности за чувствование искажает естественную природу человека. Обесценивает его, ведёт к конфликтам и личной трагедии.
Представим себе маленького ребёнка: он испугался зайти в тёмную комнату. Возлагая на него ответственность за чувствование, мы говорим ему: «Ты трус, что ли?» (обесцениваем). Он обижается (конфликт) и идёт в комнату, продолжая чувствовать растущую тревогу (личная трагедия).
Стоит нам сказать: «Вот и мишка боится!» – мы признаём чувства ребёнка (ценим). Добавив: «Давай придумаем, как ему помочь», задачу решаем (вместе). Убедив, что страшного нет, кладём спать (спокойным).
Чувства как системная настройка и сенсуализм как форма достоверного познания незаслуженно отставлены менеджментом и должны быть восстановлены в правах при переходе к управлению. А человек должен уделять чувствам самое серьёзное внимание, памятуя, что они сотворены для его же блага. Ещё он не должен относиться к ним предвзято, а то получатся эмоции. Но это я забежал несколько вперёд.
Что рекомендую запомнить
1. Менеджмент – это исторический продукт англосферы, а не дисциплина на все времена для всех народов, прогрессивный лишь на определённом интервале при определённом уровне развития производительных сил и определённых производственных отношениях.
2. Менеджмент выстроен вокруг организации как основной единицы деловой активности. Но если так и было в начале ХХ века, то существенно изменилось ко второй четверти века XXI.
3. Менеджмент привержен бихевиористским подходам к человеку, считает поведение продуктом только окружающей среды. Ответственность за ошибки поведения менеджмент возлагает на самого человека и считает их продуктом негативных моделей его мышления.
4. Менеджмент не замечает, что у человека есть чувства, кроме рационального познания и поведения. Не признавая чувства, он игнорирует объективно существующие системные настройки человека.
5. Пренебрежение чувствами было исторически оправданным на этапе первых трёх промышленных революций. Но на этапе четвёртой промышленной революции стало недопустимым. Подробнее об этом поговорим в главе 7.
6. На этапе четвёртой промышленной революции чувства очень востребованы людьми, непонимание этого искажает объективную картину жизнедеятельности отдельного человека и управления в целом.
7. Управление должно сделать шаг вперёд и включить чувства в методы познания наравне с рациональным познанием и поведением.
8. Русское управление – это реализация своего права на инаковость и одновременно принятие на себя ответственности за своё развитие.
9. Русское управление отрицает англосаксонскийменеджментв диалектическом смысле слова, дополняя его и направляя на новый виток развития, а не зачёркивая все полезные наработки.
10. Русский язык никогда не использует два разных слова для обозначения одной и той же сущности.
Глава 3
Структура личности
Приверженность бихевиоризму – самая серьёзная претензия к менеджменту. Моя и не только. Последовательно против бихевиоризма выступал упомянутый в прошлой главе Л. С. Выготский. Ну не укладывается в голове, как может человек, венец Творения, быть бесхребетным отражением окружающей его среды. Как может не влиять на его поведение такой разный внутренний мир. Как им могут двигать лишь материальные инстинкты, сколь бы много они ни значили в жизни.
Известно, лучшая форма критики – это предложить своё. Я уже писал в предисловии, что модель структуры личности почерпнул из Первого послания к фессалоникийцам апостола Павла. Однако в этой главе буду апеллировать не к его авторитету, а к пониманию читателя.
И сначала предложу понять и разобраться, что есть модель. Дабы никто из читателей не подумал, что я познал, тем более постиг человека. Я лишь удачно его замоделировал со всеми минусами этого процесса.
Потом я познакомлю читателей с пещерным человеком. Станет понятно: с точки зрения задач управления он мало отличался от нас.
Наконец, поведав о некотором количестве исторических моделей личности, я доберусь до предлагаемой мною. И поясню, почему дерзаю называть предлагаемый подход русским путём в управление.
Изучивший главу читатель получит полезную в применении модель, которую сможет приложить к себе, окружающим и ещё много чему в жизни. Она станет точкой отсчёта сводной теории управления.
Модели: возможности и ограничения
На Земле живёт больше 8 миллиардов человек и нет двух одинаковых. Кажущиеся нам неразличимыми копиями близнецы сами себя считают абсолютно разными. Говорить о знании каждого человека не приходится, но мы можем говорить о знании человека в целом.
Перейти от человека конкретного к человеку обобщённому нам позволяют различные модели, представления истинного первообраза.
Зачастую авторы некой модели бывают очень убедительны. Мы забываем, что это всего лишь модель, и полагаем, что они познали первообраз. Например, изучили работу мозга. Знак равенства между моделированием и познанием – серьёзная фундаментальная ошибка.
Чтобы это утверждение стало более понятным, остановимся на ограничениях моделирования как метода познания. Три ограничения связаны с упрощением первообраза, ещё три – с недостатками модельера, и два – с порядком и временем моделирования. Это не полный перечень, а лишь самые очевидные недостатки процесса моделирования.
Три ограничения, связанные с упрощением первообраза, – это само по себе упрощение, упрощение бестолковое и упрощение бестолковое и бессмысленное. Само по себе упрощение ограниченно, потому что модель всегда беднее первообраза: от сложного исходного отсечён ряд важных черт. Так, в отличие от самолёта настоящего, у любимой модели детства – бумажного самолётика – нет ни элеронов, ни закрылков, ни турбин.
Упрощение бестолковое ограничено в силу того, что мы не можем спросить у первообраза, что в нём реально важно, а что – второстепенно. Не понимая, как воистину устроено нечто, мы без спросу легко отсекаем, возможно, критически важные части. У бумажного самолётика забрали навигационное оборудование, красавиц-стюардесс и умницу-пилота.
Упрощение бестолковое и бессмысленное ограничено потому, что мы неверно представляем себе назначение первообраза. Реальные самолёты быстро доставляют пассажиров и грузы из пункта А в пункт В. Их бумажные собратья в основном срывают скучные уроки в школе.
«А судьи кто?» – вопрошал гневно Чацкий в грибоедовском «Горе от ума». Мне впору спросить: а модельеры кто? Три ограничения, с ними связанные, – это их ограниченные возможности, знания и личные смыслы.
Модельер может не обладать необходимыми возможностями. Например, острым зрением, в результате чего ряд существенных и значимых деталей первообраза просто ускользают из его поля зрения.
Модельер может не обладать необходимыми знаниями. Если у бумажного самолётика ступить нос и загнуть крылья, он летает дольше и лучше – об этом знает каждый старший пацан, но не каждый младший.
Личные смыслы модельера, например желание оказаться правым, не дают точно смоделировать нечто. Так, для целей срыва уроков водяная бомбочка, сделанная из того же листа бумаги, как ни крути, полезнее. Но модельер привычно твёрдо стоит на требовании бумажного самолётика.
Важность порядка моделирования понятна без дополнительных иллюстраций. Даже складывание бумажного самолётика требует точного порядка действий, нарушение которого ведёт к нелетучести модели.
Время моделирования также влияет на его качество. Когда всегда под рукой школьная тетрадка, небо полно бумажными самолётиками. Но где они, когда школьники начинают всё делать на экране компьютера?!
Суммируем сказанное: любое моделирование ограничено в восьми названных и большом количестве неназванных смыслов. Эти изъяны очевидны, но выгоды моделирования в процессе познания настолько важны, что с запасом перевешивают все перечисленные недостатки.
Пещерный человек: три задачи управления
Наш великий физиолог И. П. Павлов впервые описал темперамент у животных. Один живой, другой спокойный. Этот безудержный, а тот слабый. Каждый владелец домашних животных наверняка с ним согласится. Животные по темпераменту – совсем как мы, человеки.
Достаточно ли этого сходства, чтобы то или иное животное по аналогии с человеком можно было назвать и личностью? Например, Инцитата – любимого коня императора Калигулы, гражданина, сенатора, жреца и кандидата в консулы Рима I века? Несмотря на блистательную карьеру скакуна, что-то внутри нас не позволяет уверенно это сделать.
Давая любое определение, исследователь, с одной стороны, выделяет интересующий его объект, с другой – называет, чем он отличается от других схожих объектов. Говоря, что у человека есть личность, мы должны охарактеризовать что-то такое, что именно по этому параметру позволит различать человека и прочих живых существ.
Для этого мысленно переместимся в те далёкие времена, когда жил наш первый предок – пещерный человек. Он тогда мало чем отличался от животных собратьев как внешне, так и внутренне. Тем легче нам будет найти искомое отличие, чем отчётливее оно будет.
Мы застаём пещерного человека в тот момент, когда он только-только научился пользоваться элементарными орудиями труда: палкой-копалкой и рубилом. А также ещё даже не одомашнил, а лишь слегка приручил то ли волка, то ли шакала – словом, предка современной собаки.
Цель у пещерного человека в моменте одна – выжить. У неё есть три подцели: найти себе пропитание, обеспечить собственную безопасность и передохнуть после трудов так, чтобы утром, желательно, проснуться. Строго говоря, больше ничем пещерный человек особо и не занят.
Для достижения названных подцелей пещерный человек, в свою очередь, должен решить три задачи управления. Выстрою их по возрастанию сложности – от самой простой до самой сложной:
1) самая простая задача – орудовать неодушевлёнными предметами: рубилом, палкой-копалкой и прочими;
2) более сложная задача – натаскать протособаку, чтобы могла охранять пещеру и помогать на охоте;
3) самая сложная задача – управиться с людьми: самим собой и сожителями, с соплеменниками.
Решить стоящие перед ним задачи управления пещерный человек может, только если у него есть:
1) физические возможности, чтобы наловчиться в делании, освоить простейшие приёмы труда;
2) способность к общению, чтобы научить протособаку сторожить и охотиться;
3) целесообразность, чтобы самому знать, зачем орудовать предметами труда и натаскивать протособаку, и сожителям с соплеменниками это донести. У них ведь своё разумение, свои физические возможности, свои орудия труда, свои протособаки.
«Все взрослые сначала были детьми», – писал Сент-Экзюпери в «Маленьком принце». Раз мы как человечество сейчас здесь и такие, значит, пещерный человек свои цели и задачи выполнил. Коли так, то и все вышеперечисленные качества у него гарантированно были.
Сопоставим качества пещерного человека и протособаки. У неё тоже были физические возможности, за которые пещерный человек и взял её в сторожа-охотники. И способности к общению: как с прочими протособаками, так и со своим хозяином – пещерным человеком.
А вот целесообразности у протособаки не было. Не создавала она себе в своём протовоображении ни картины окружающего мира, ни мотива, чтобы эту жизнь прожить. Не ставила себе ни дальние, ни ближние цели, не имела и воли их достигать. Как ей тогда, так и потом Инцитату хватало инстинкта и рефлексов, чтобы жить процессно.
Физические возможности и способность к общению являются необходимыми качествами личности, а достаточным, отличающим её от прочих живых существ, – целесообразность, соответствие результату.
Модель структуры личности
Рубило и палку-копалку мы нынче видим только на страницах учебника по истории. А управляем теперь уже компьютером со слабым искусственным интеллектом. Пусть он с нами и говорит человечьим голосом, но пока всё ещё остаётся предметом неодушевлённым.
Общаться с братьями нашими меньшими мы тоже не перестали. С некоторыми по тем же поводам, что и встарь. С другими – по более продвинутым поводам. Нашими стараниями они не просто украсили наш быт, но и приняли участие в научных экспериментах, слетали в космос.
Целесообразности тоже не убыло, но в целом и не прибыло. По-прежнему обеспечиваем пропитание и безопасность. Острота проблемы несколько спала, но не исчезла совсем. Появилось время для общения, благо делать это стало легче лёгкого, в какой точке мира ни находись.
Всё, что было свойственно пещерному человеку, хотя значимо усложнилось, но свойственно и нам. Верно обратное: мы не обогатились особо ничем сверх того, что было нужно ему тогда.
Сказанное позволяет мне предположить следующее: несмотря на научно-технический прогресс, структура личности и базовые потребности человека не изменились, хотя, возможно, и усложнились.
Раз так, я могу предложить модель структуры личности человека. Ещё раз оговорюсь: это не сама личность, а лишь предлагаемая мною модель её структуры. Личность человека едина и неделима. Для целей управления в ней можно условно выделить и условно-отдельно, помня о единстве, изучить различные составляющие и их структуру.
Модель предполагает в единой личности человека три части:
1) физические возможности собственно человека;
2) способность к общению – с самим собой, другими людьми, с любыми живыми существами, со своим Создателем (кто верит);
3) жизнеполагающие смыслы – целесообразность как текущей деятельности, так и в целом самого бытия человека.
Трёх частей модели достаточно для понимания многообразия управления. Не важно, управляет ли человек неодушевлёнными предметами, животными или себе подобными, включая самого себя.
Исторические модели структуры личности
Психология и философия знают великое множество моделей структуры личности. Я не претендую на полный их обзор, моя задача – показать разнообразие как предлагавшихся моделей, так и целевых установок, для которых они предлагались. Последние особенно важны: у всех авторов модель структуры личности имела инструментальное предназначение: с её помощью они решали те или иные свои задачи.
Если инструментальное предназначение в явном виде не держать в голове, можно перепутать инструмент с целью. Так не раз бывало. Например, в семидесятых годах XIX века автор теории эволюции Ч. Дарвин изучал схожесть мимики человека и животных. В результате он выделил всего шесть мимических черт, обладавших схожими проявлениями.
Впоследствии схожие с животными черты стали называть базовыми эмоциями человека. Со временем исследователи расширили список, в настоящий момент он доходит аж до 17 позиций. Но никто не объясняет, почему мимическая схожесть сделала эти эмоции базовыми.
Все современные школы психологии растут из одного корня. В 1908 году Зигмунд Фрейд основал Венское психоаналитическое общество. Оно ещё до Второй мировой войны породило три Венские школы психологии. После аншлюса Австрии фашистской Германией подавляющее большинство специалистов этих школ перебрались в США и Великобританию, дав толчок к развитию психологии в этих странах.
Моду на модель структуры личности ввёл основатель психоанализа и первой Венской школы психологии З. Фрейд. На основе своей психоаналитической практики он предложил базовую структуру психической жизни. Концепция включала так называемые сознательный разум, или эго, и бессознательный разум. Последний З. Фрейд разделил ещё на два: ид, или инстинкты/влечения, и суперэго, или совесть.
Соратник З. Фрейда, создатель индивидуальной психологии и основатель второй Венской школы психологии Альфред Адлер подхватил идею начинателя, но подошёл к структуре личности иначе. В основу характера он положил два ключевых критерия: социальный фактор и уровень активности. Получилась матрица 2х2 и четыре типа личности: управляющий, берущий, избегающий и социально-полезный.
Последователь З. Фрейда и А. Адлера, создатель логотерапии и основатель третьей Венской школы психологии Виктор Франкл в противовес своим учителям видел человека иначе. Им движут не низменные инстинкты, а высокие идеалы и устремления. Модель В. Франкла – это трёхмерное ортогональное пространство, образуемое соматическим, психическим и ноэтическим измерениями человека.
Последний, кого я упомяну, – американский психолог и основатель транзакционного анализа Эрик Берн. Он считал, что человек, попав в некую жизненную ситуацию, действует исходя из так называемого эго-состояния. Их Э. Берн насчитывал три: Родитель, Взрослый и Ребёнок.
Подведём итог этого беглого обзора. Несмотря на общие корни, все модельеры исходят из абсолютно разных картин мира, созданных в разное время в разных странах и для разных целей. Понимая это, ни одну из них мы не можем признать истинной, то есть являющей человека на все времена, вне зависимости от ситуаций, в которых он изучается.
Задавая модель структуры личности, корректно в явном виде описывать исторические условия её создания. Иначе модель, созданная специфически, будет воспринята читателем как единственно верная.
Модель структуры личности от апостола Павла
Модель В. Франкла, как писал об этом сам автор, была разработана с опорой на модели немецких философов двадцатых годов ХХ века Макса Шелера и Николая Гартмана. Обе модели исходили из трёх частей человека, называя их дух, душа и тело. Н. Шелер изображал их в виде концентрических кругов, где дух – в центре, а затем идут круги души и тела. М. Гартман представлял их в виде трёх пластов, лежащих друг на друге, где тело – основание, душа – выше его и дух венчает строение.
Интересно не только то, что три разных специалиста – М. Шелер, Н. Гартман и В. Франкл – взяли одну и ту же модель, лишь по-разному расположив три неменяющихся компонента. И не то, что все трое знали труды З. Фрейда и А. Адлера, но не использовали их. Важнее всего то, что и тот, и другой, и третий ссылались на неё как на традиционную модель человека. Что это за модель, кто её автор и почему она традиционная?
В Первом послании к фессалоникийцам апостол Павел пишет: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23). Естественно, в первой половине ХХ века в Европе Писание знали и религиозный философ Шелер, и атеистичный Гартман, и не исповедовавший христианство Франкл.
Апостол задаёт два важных параметра: трёхчастность человека, с одной стороны, и его полноту, единство – с другой. Не дерзая толковать религиозное значение модели апостола, возьму её мирскую проекцию.
Тело предоставляет человеку физические возможности всех родов и мастей. Душа позволяет человеку вступать в общение – с Создателем, другими людьми и собой. Дух – моральный ориентир человека, то, что формирует его традиции, а он сам считает для себя наиболее важным.
Вспомним пещерного человека. У него тоже были физические возможности, способность общения и жизнеполагающие смыслы. Я не назвал их телесными, душевными и духовными, но содержательно они вышли именно такими. Рассуждая логически, изучая простейшую ситуацию, сопоставляя её затем с ситуацией сегодняшней, я прихожу к той же модели, что апостол заповедал без малого две тысячи лет назад.
В ней есть важная особенность. Кто бы как ни относился к слову «иерархия», в апостольской модели личности три выделяемых части не равноположены, а иерархичны. Дух возглавляет эту иерархию, именно поэтому М. Шелер ставил его в центр, а Н. Гартман – наверх. Душа – следующая, а тело её венчает. В мирской проекции главные – смыслы, затем идут способности к общению и физические возможности в конце.
Сказанное не значит, что так бывает всегда. Есть моменты, когда и телу, и душе нужно уделить целевые время и внимание, поставить их на первое место. Но мы знаем и обратное, когда движимые духом люди не ели, не пили и не спали во имя реализации целей более высокого порядка. О том же учит и Писание: «Дух бодр, плоть же немощна» (Мк. 14:38).
Таким образом, предложенная мною модель структуры личности соответствует модели апостола Павла. Апостол задавал модель для решения главной духовной цели христианина – достижения обожения. Мирская её проекция ориентирована на цели повседневного телесного бытия человека – результативное управление неодушевлёнными предметами, живыми существами и людьми, включая самого себя.
Православие имеет непреходящее значение в истории становления как самого Русского государства, так и его культуры. И то, и другое с православием связаны неразрывно. Модель, соответствующая православному учению, имеет в силу сказанного полное право называться русской моделью. Поэтому подход, отталкивающийся от модели структуры личности, я и считаю русским путём в управление.
Что рекомендую запомнить
1. Моделирование как метод познания имеет серьёзные ограничения. Их надо знать и в явном виде держать в уме. Но выгоды моделирования с запасом перевешивают все недостатки.
2. Любое определение выделяет интересующий его объект и называет, чем он отличается от других схожих объектов.
3. Структура личности и базовые потребности человека не изменились значимо со времён пещерного человека, но усложнились.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе