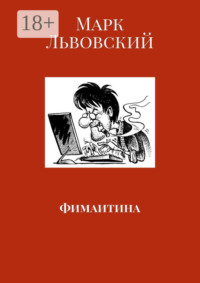Читать книгу: «Фимаитина», страница 9
– Ты можешь назвать мне тех, кто обидел тебя?
– Обидел? – сквозь плач прокричал Фима. – Они душили меня подушками!
– Так скажи мне кто?
Фима утёр слёзы и уставился в пол.
– Ладно, можешь не называть… Осталось всего пять дней. Потерпи. Я переведу тебя в третий отряд. Там пионервожатая – Валя. Она не даст тебя в обиду. Обещаю. Иди, собери вещи и после завтрака отправляйся к Вале.
К Вале… Она встретила Фиму, как родного – «бедненький ты мой» – и прижала к своей груди. Не фигурально, а действительно прижала к груди, и Фима поплыл, поплыл… И случилось, что четырнадцатилетний мальчик с первого взгляда, точнее, с первого прикосновения к новой пионервожатой, влюбился в неё, двадцатипятилетнюю женщину, да так отчаянно, что написал первый в своей жизни стих. Уже перед самым закрытием лагеря она взяла Фиму за подбородок и, печально улыбнувшись, сказала:
– Ну что ты, малыш? У тебя ведь ещё и не стоит даже…
Но так ли уж она была права?..
Очнулся Фима от громовых аплодисментов. Заскрипели раздвигаемые стулья. Каждый уходящий подходил к Юре со словами благодарности, тот что-то бормотал в ответ. Потом Нина утащила его на кухню пить чай с пирогом. Липкина и Лиснянскую провожал самолично Валерий Николаевич. Последними ушли Фима с Тиной. Последними, потому что Фима, по незначительности своего статуса, в сравнении с остальными участниками семинара, – почти все доктора наук, правда, попадались и кандидаты, – а также по причине своей относительной перед ними молодости, всегда помогал сыну Валерия Николаевича приводить в порядок «зал заседаний». А на этот раз пришлось двигать и тяжеленный диван.
– Сумасшедший дом, – сказала по дороге домой Тина. – Сионисты, борьба за выезд, возвращение, новая родина, а отдают душу спорам о Маяковском, о стихах, о судьбе России…
– Не сумасшедший дом, а сумасшедший народ, – весело поправил Фима…
– 15 —
Фима сидел в кресле и думал. Думал о том новом, странном, что надвигалось на СССР. Стало интересно читать газетные статьи, слушать радио. Ходуном ходило его училище – наконец-то разрешили к постановке пьесу по роману Распутина «Прощание с Матёрой». Выпускной спектакль. Фима прочёл повесть Распутина и никак не мог понять, что в ней запретного. Строят новую ГЭС на Ангаре, посему будут затоплены несколько островов, на одном из которых стоит вековая деревня – Матёра. Да, есть в книге и чиновничье бездушие, и нежелание стариков переезжать в новый посёлок, и ужас предстоящего санитарно-технического уничтожения кладбища. Главный противник происходящего – бабка Дарья, прямая, умная, принципиальная. Ну и что? Почему два года не разрешали ставить пьесу? Что есть в этой повести антисоветского? Какие такие намёки?
Фима побывал на нескольких репетициях, и вот что он однажды услышал от ставящего спектакль любимца студентов профессора Катина-Ярцева: «Друзья мои, – и пух лёгких, седых волос, расположенных по периметру его головы, приподнялся над совершенно гладкой, розовой макушкой, – вы должны заставить зрителя задуматься: что будет с тем куском земли, который для каждого человека становится святым местом? Более того, что будет с Россией? Есть ли надежда на то, что Россия не утратит своих корней? Но, увы, вся надежда – это всего лишь бабка Дарья, только она, да ещё несколько стариков несут в себе те духовные ценности, которые будут буквально затоплены: память, верность роду, преданность своей земле. Берегли они Матёру, доставшуюся им от предков, и хотели передать в руки потомков. Но приходит последняя для Матёры весна, и передавать родную землю некому».
Ни студенты, внимательно слушавшие профессора, ни сам профессор, ни Фима не заплакали.
Но потом Фима увидел, как наворачивают спектакль кошмарами – и поджог первой избы, и бульдозер, превращающий кладбище во вспаханное поле, и надвигающийся на избу трактор – страшное равнодушие строителей к тем несчастным, что не успели собраться, не успели вынести из своих изб всё то, что составляло суть их жизни. Это было рычащее, звериное наступление советской власти на собственный народ. Не писал Распутин антисоветской повести, но, возможно, и сам того не желая, дал отличный повод превратить её в оную.
Фима не без труда добыл два пригласительных билета на премьеру – для Валерия Николаевича с Ниной.
Спектакль Валерию Николаевичу и, естественно, Нине решительно не понравился.
– Диссидентские слюни. Накатали ужасов, в которые не очень-то и верится. Рассказал бы лучше господин Распутин, как раскулачивала советская власть крестьян, как вырезали кормильцев России. И с тех пор покупают пшеницу в Америке… Фима, а студенты твои крестьян живых видели? Не вышагивают крестьяне спортивным шагом. И пьют по-чёрному – почитай Довлатова. И этого идиота тракториста, что приехал хату курочить, до смерти отмолотили бы, а не взывали к его чувствам… Но всё равно спасибо. Чую, чую, меняется что-то в этом болоте…
И, действительно, менялся СССР. Надвигалось что-то такое, о чём страшно было даже подумать, чтоб не сглазить. И Фима, еврей, немало наглотавшийся в этой стране антисемитской дряни, решивший уехать в Израиль, ставший вроде бы сионистом, решительно удалённым от жизни этой страны «отказом», – он даже перестал болеть за московское «Динамо», – должен был бы с равнодушием взирать на происходящее, но ничего подобного, наоборот, он после четырнадцатилетнего перерыва стал жить жизнью страны, страстно ожидая перемен и не связывая их с отъездом… Его очень пугало такое состояние души, он никому, даже Тине, не признавался в этом, понимая, что ни в ком не обретёт сочувствия.
…Тина в этот вечер вернулась с работы усталая, раздражённая и заявила мужу:
– К чёрту! Увольняюсь! Сегодня утром он вызывает меня, брюхатую на седьмом месяце, и заявляет, что переводит на сменную работу! И глаза аж сверкают от предстоящего удовольствия услышать мои возражения! Ждёт моей бурной реакции, что бы был повод поговорить по душам. Тут-то он мне всё и выскажет. А я промолчала. Сказала, что подумаю… Завтра утром напишу заявление об уходе…
– Давно пора! Сколько можно говорить об этом?!
– Я действительно устала. И ещё целых два месяца до декретного отпуска. И мне плохо, плохо на работе! Я тебе не рассказывала, но на меня накатали уже две жалобы… Сёстры издевательски не торопятся выполнять мои поручения. Опоздала на две минуты, и заведующая отделением учинила мне форменный скандал. А вчера…
Тина вдруг расплакалась.
– Что – вчера? Почему ты мне ничего не рассказываешь?!
– А вчера какой-то бабе, – Тина чуть успокоилась, – пришедшей в поликлинику с внуком, кто-то что-то нашептал, и она громко потребовала другого врача. Требовала и смотрела мне в лицо.
– Почему ты мне ничего не рассказываешь?
– Потому что Эдик сказал, что тебя нельзя слишком волновать.
– Вы до сих пор считаете меня сумасшедшим, которого надо оберегать от внешнего мира?
– Вот видишь, какая у тебя агрессивная реакция на самое простое событие!
– Простое событие? Над моей беременной женой издеваются на работе, и это называется простым событием!
– И ты собираешься набить им всем морды?
– Нет! Но я категорически настаиваю на том, чтобы ты послала их всех к чёрту и немедленно уволилась!
– Вот, это по-мужски! Но я, между прочим, с этого и начала…
– И очень здорово! Видишь, как, не скандаля, мы спокойно пришли к правильному решению проблемы. Меня только волнует, чем ты будешь заниматься целыми днями…
– Через пару месяцев ты увидишь, чем я буду заниматься целыми днями и даже ночами.
– Неужели ты не видишь во мне истового помощника?
И в это время зазвонил телефон. Первой взяла трубку Тина.
– Сенька! Привет! У нас всё в порядке! А у вас?
Тина вдруг ойкнула и медленно стала опускаться на стул, одновременно протягивая Фиме трубку. Глаза её расширились… Перепуганный Фима схватил трубку:
– Что ты наговорил Тине? Что?! Разрешение?! Сегодня утром? Дали две недели? Сеня, а как же мы… Через часок будешь… Закуску… сделаем, конечно… А ты меня не разыгрываешь? Даёшь честное пионерское… Прикатывай… Ждём…
Тина проковыляла на кухню, а Фима остался скрюченным сидеть на стуле, и холод, сначала охвативший ноги, медленно потёк наверх, забирая живот, грудь, и когда он охватил голову, Фима издал протяжное «а-а-а-а», и тут же примчалась Тина, и прижала Фимину голову к своему животу, и он затих, и, слава Богу, что Тина успела надеть передник, а то её платье стало бы совсем мокрым от ручья мужниных слёз. Впрочем, Фима скоро успокоился и побрёл вслед за женой готовить закуску…
Сенька выглядел скверно. Глаза впали. Непрерывно курил, с каждой новой сигаретой выходя на балкон. Оля выглядела ещё хуже. Пудра, обильно высыпанная на лицо, только подчёркивала следы недавних слёз. Она непрерывно мяла в руках лёгкий, красивый белый шарф, обмотанный вокруг шеи и ниспадавший до живота. Сели за стол. Выпили. Оля залпом выпила рюмку водки. И не закусила.
– Мы получили разрешение, – сказала Оля.
– И чуть не сошли с ума от радости?
– Фимка, не ёрничай. Я схожу с ума от страха.
– Оленька, лапочка, не начинай! – взмолился Сеня.
– Я действительно схожу с ума от страха. Что мы там будем делать? Мой муж – русскоязычный журналист, знающий два слова на иврите. Я окончила педагогический институт и до «отказа» работала библиотекарем в Библиотеке иностранной литературы. И тоже знаю два слова на иврите. И я спрашиваю вас – чем мы будем зарабатывать на жизнь? Я знаю, что вы сейчас наговорите мне всяких никчемных слов о переквалификации, о возможности Сени устроиться в русскоязычную газету и так далее. Чушь всё это! Мы едем страдать! А я не хочу страдать! Я устала от страданий! У меня нет отца и матери, которые живы! У нас нет богатых родственников в Израиле. Мы расстаёмся, чёрт знает на сколько лет с вами! Мне плохо! Мне очень плохо! Я боюсь ехать в Израиль! И не суйте мне под нос «о чём ты раньше думала»?
Она ткнула вилкой в солёный огурец, промахнулась и заплакала.
А Фима сказал:
– Оленька, родная, вы встретите нас в Израиле на чёрном «Форде» и прокатите по Иерусалиму, и сводите в роскошный ресторан, и мы будем умирать от зависти…
– У тебя, – вытирая салфеткой слёзы, будто не слыша обращённых к ней слов, продолжала Оля, – есть профессия, к тому же золотые руки, Тина – врач, а мы? Сеня гвоздём забивает в стену молоток, я умею только читать, готовить и смотреть, чтобы мой муж не выпил лишнего.
Она, наконец, подцепила огурец, с хрустом съела его и сказала:
– Всё. Больше не буду. Веселимся!
Заговорили о таможне, о собаке, о проводах…
Скоро дамы энергично принялись за смену блюд, а мужчины вышли на балкон.
…Небывалый стоял в Москве ноябрь 1986-го года. Тихий, желтолистный, без дождей и свирепых порывов холодных ветров. Двор, куда выходили окна Фиминой квартиры, отдыхал от детской возни и шума, на глазах темнел, погружался в сон. Сквозь ветви двух огромных тополей, властвующих над двором, всё ярче пробивался свет окон стоящего напротив дома, что, как ни странно, только увеличивало томительное ощущение темноты и тишины. Только и слышно было тихое шарканье ветки, с которой слетела птица и через мгновенье – тихое шарканье другой, на которую птица переместилась. Ну, и звёздам, как полагается, числа не было…
– Целый день истерика, – в отчаянии проговорил Сеня. – Не нахожу нужных слов, боюсь к ней притронуться. Я ждал этого, но не в такой буйной форме. Да и я не слишком радостен. Не заметили, как вросли в эту проклятую землю. Фима, только, пожалуйста, без банальностей. Меня не нужно успокаивать.
– Я только хочу понять, почему другие уезжают с таким восторгом?
– Я не хочу говорить о других, но мы с Олей влезли в «отказ», как в игру, увлекательную, напряжённую и, казалось, бесконечную. В этой стране можно прожить, не живя, всю жизнь, и вдруг такое! Мы не заметили, а, может, и не понимали, что вросли в эту страну или землю – чёрт его знает, что точнее – по самые уши, и «отказ», вернее, игра в «отказ» – часть этой страны, часть этого проклятого, но такого привычного, страшно сказать, полюбившегося быта. А игра вдруг кончилась. И мы оказались с голыми жопами…
– Ты никогда не говорил со мной об этом.
– Побаивался тебя. Ты мне всегда казался отпетым сионистом. И все твои в Израиле. А у меня – никого. Только новая родина. Историческая… Но недавно я понял, что и ты не без греха. Твоё сумасшедшее увлечение семинаром Сойфера, споры о Маяковском, Липкин, Лиснянская – это та же Русь… Не боишься получить в середине семинара разрешение на выезд в Израиль?
– Слушая тебя, стал побаиваться…
– Об одном молю Бога – о разрешении для тебя. Мне кажется, началось движение. Несколько разрешений «отказникам» в Ленинграде, шесть разрешений в Москве, из Риги куча народу поехала… Приедешь – может, вместе справимся…
– Мебель берёшь? Я помогу разобрать.
– Какую мебель? Ты видел у меня мебель?
– Но что-то возьмешь с собой?
– Только то, что ещё дышит и двигается.
– А книги?
– К чёрту! Запрещённые здесь – я найду там, а разрешённые – читать больше не хочу. Ну, может быть, что-то из очень любимого… Кстати, приготовь все свои вирши. Я постараюсь вывезти их через голландское посольство.
– Да кому они нужны в Израиле?
– Тебе. А я уж постараюсь сделать твоим виршам нужную рекламу. Всё опубликованное там, пусть даже и лишённое художественного значения, ляжет в копилку борьбы за твой отъезд.
Фима промолчал. Не время было обижаться. Сенька по-своему мстил за своё состояние.
– И, пожалуйста, перепечатай всё без помарок, через интервал…
– Да, да, как скажешь…
– Мальчики, чай!
…Виделись они в эти оставшиеся две недели мало. У «отъезжантов» всегда страшные хлопоты – что-то продать, что-то отдать, что-то купить. Но что мог продать Сенька и на что мог купить? Он суетился, бегал по каким-то знакомым, умудрился у кого-то занять денег, под клятвенное обещание вернуть в Израиле родственникам в долларах, что очень смутило Фиму. Купил на одолженные деньги мотоцикл – все «точно знали», что в Израиле можно его очень выгодно продать. Хотел купить и пианино, тоже с целью выгодной продажи в Израиле, но денег явно не хватало, а больше никто под честное слово одалживать не хотел. Тысячу рублей из двух, собранных для будущего ребёнка, дал Сеньке Фима. «Я не беру у тебя, я одалживаю, и увидишь, с какими отдам процентами!» – кричал Сенька. На что потратил эту тысячу Сенька, Фима не знал, спрашивать не хотелось.
Все, тщательно перепечатанные Тиной, – а печатать она научилась замечательно, по причине непрерывного мужниного творчества, – стихи и даже незаконченную «Отказную поэму» Сеня забрал и, по его словам, отдал в голландское консульство.
Народу на проводах было много. Сенька много пил, с каждым энергично разговаривал, много целовался. Оля выдавливала из себя улыбки, Сенькина мама, полумёртвая от усталости, каким-то чудом находила в себе силы бегать на кухню и обратно, доставляя для новоприбывших еду и убирая со стола недоеденное, обглоданное, небрежно брошенное. Исцелованный Кеша скоро заснул, и был Сенькой отнесён в спальню, куда немедленно умчался насмерть перепуганная громким пьянством Тяпа. Устроилась в ногах Кешки и затихла.
Фима с Тиной ушли рано, потому что Тина больше не могла выносить сигаретный дым. Да и обстановка искусственного веселья к долгому присутствию не располагала. Удивило Фиму большое количество совершенно ему незнакомых людей.
И на следующий день, 26 ноября 1986 года, после непродолжительного таможенного досмотра, Сенькина семья выстроилась на площадке второго этажа аэропорта Шереметьево. Выстроилась в одну линию – Дора Абрамовна с большой клетчатой сумкой, Сенька с Кешкой на руках и Оля с клеткой, в которой лежала скрюченная от страха Тяпа. Они долго махали свободными от груза руками, потом, как по команде – а так, наверное, и было – повернулись и исчезли.
Фима с Тиной возвращались домой со странным чувством и горечи, и освобождения. Слишком много было Сеньки в эти две недели. Были даже пропущены два семинара. Валерий Николаевич звонил и весело ругался.
– Валерий Николаевич, позвольте вам не поверить, что без нас семинары что-то там теряют!
– Фима, неужели вы не понимаете, как сказывается на настроении семинара отсутствие привычных лиц?! Ладно, с отсутствием вашей физиономии ещё можно смириться. Но без взволнованного, красивого личика вашей жены!..
Фима, добавляя немного приятностей от себя, пересказывал этот разговор Тине и снисходительно улыбался при виде светоносной её улыбки в ответ.
Как и полагается, уже на следующий день Фима сочинил посвящённое Сене стихотворение:
Тишиною граница объята,
Ни овчарок тебе, ни застав…
«Шереметьево» – щедрая плата
За надежду, за муки, за страх.
Снова проводы… Белые лица
И глаза во вчерашнем вине.
«Шереметьево» – это граница,
Перейти что досталось не мне.
– Ах, не плачь, мы увидимся скоро…
Только плакать кому, как не нам?
Я, граница, тобою расколот,
Как полено – меж глаз, пополам.
И хотя говорить уже не о чем,
В каждом слове отчаянье тая,
Пристаю к тебе с просьбою мелочной,
Чтобы только продолжить тебя.
Как команда, посадка объявлена…
И щека твоя, друг, холодна.
Посади в честь оставшихся яблоню,
Может, нас и дождётся она…
Вот и всё… И дорожками гладкими
Из сияющего дворца
Мы выходим к шоссе Ленинградскому,
Чтобы ездить им в оба конца…
– До слёз трогательно, – сказала Тина.
– Раньше ты говорила: «Мне очень нравится».
– Я поумнела под воздействием Липкина, Лиснянской и Карабчиевского.
– Я – тоже. И, как следствие, понял, что меня отличает от Карабчиевского.
– И что же? – с некоторой тревогой в голосе спросила Тина.
– Для него творчество равноценно дыханию. Перефразируя Окуджаву: «Если пишешь, значит, дышишь». А я пишу стихи только, когда что-то случается. Если бы ничего не случалось, я бы не написал ни одной строчки. Мало того, качество того или иного моего стихотворения ясно говорит о силе впечатления, произведённого на меня тем или иным событием.
– Если только этим ты отличаешься от Карабчиевского, то я спокойна.
Очень скоро после отъезда Сеньки, через получившего разрешение знакомого «отказника», который что-то там переправлял в Израиль через голландское посольство, представлявшего тогда интересы Израиля в СССР, Фима отправил на адрес мамы ту же кучу своих стихов и коротких рассказов, который передал Сеньке. Странно, но ему не верилось, что Сенька сделает то, что обещал. Самому противно было от этих мыслей, но они не покидали его.
– 16 —
Часто появлялась на сойферовых семинарах удивительная отказная пара – известные шахматисты Борис Францевич Гулько и его жена Аня Ахшарумова.
Все без исключения относились к ним с нежной симпатией. Обобщённо их звали Гульками. Валерий Николаевич всё уговаривал Борю сделать доклад.
– О чём?! – отбивался Боря. – Рассказывать сплетни о Карпове? О закулисной шахматной жизни в СССР? Та же гнусь, что и везде! Или продемонстрировать какую-нибудь удачную свою партию? Представляю себе физиономии слушателей… А рассказывать о себе – ей богу, неинтересно и нескромно.
Удивительный это был человек. Он обожал слушать. Не комментировал, не критиковал, не выступал – слушал. Всегда с доброй, чуть отстранённой улыбкой. Он, казалось, был всегда благожелателен к собеседнику, к выступающему. Такой же была и Аня – скромная, молчаливая, очаровательная. И никак не верилось, что они – многократно битые гебешниками, многократно арестованные, проведшие нескончаемое количество демонстраций на улицах с плакатами «Отпустите нас в Израиль!», проводившие чудовищные по своей длительности протестные голодовки, страдавшие от форменных погромов в своей квартире, терпевшие самые страшные угрозы, терпевшие гнусные письма о супружеской неверности Ани… И при этом Борис – чемпион СССР 1977 года, Аня – чемпионка СССР 1976 и 1984 годов! В СССР стать чемпионом по шахматам! При таком средоточии великих шахматистов!
Но однажды, вне рамок семинара, при очередном мужском, но, конечно, в присутствии Нины, застолье у Валерия Николаевича, Боря немного поведал о себе.
– Родился я в Восточной Германии в 1947 году, в том же году переехали в Москву. Закончил факультет психологии Московского университета, четыре года работал научным сотрудником. Оказалось, что я способный к шахматам мальчик, и в 1975 году стал серебряным призёром чемпионата СССР, в 1977-ом – чемпионом. А вот моя Аня, – гордо добавил он, – дважды становилась чемпионкой СССР – в 1976-ом и в 1984-ом.
…Аня Ахшарумова… Тоненькая, соблазнительно стройная, с нежным, продолговатым лицом, на котором словно навсегда застыло чуть удивлённое выражение. Она была столь же молчалива, как и Боря, а если и заговаривала, то всегда по делу, всегда удивительно точно и остроумно. Фима украдкой любовался ею, что, естественно, не укрылось от Тины.
– Фима! Оторвись от созерцания Ани! – шептала ему на ухо Тина. – Однажды Боря Гулько заедет по твоей голове шахматной доской!
– Во-первых, Валерий Николаевич не играет в шахматы, и, значит, в его доме нет шахматной доски. Во-вторых, я созерцаю её не как сексуальный объект, а как совершенную картину. За это не бьют.
…Боря продолжал:
– Всё началось в 1976 году, кода Корчной не вернулся из Голландии, стал невозвращенцем, оставив жену и сына на съедение властям. Но я понимал его обиду. В 1974 году у него был невероятно трудный матч на первенство мира с Карповым. За Карпова болела вся «дружная семья советских народов». У Корчного далеко не сладкий характер, его многие недолюбливали, он нажил себе кучу врагов, но главный его недостаток был в его национальности. Даже не то, что он наполовину еврей, главное – не русский. Гроссмейстер Светозар Глигорич в одной из своих статей отметил, что советская пресса освещала этот матч так, будто советский спортсмен сражался с иностранцем, представляющим вражескую страну. Корчной, проигравший матч, в долгу не остался и в интервью югославскому агентству ТАНЮГ выдал Карпову по полной программе, заявив, что его проигрыш был результатом давления «сверху». Корчному в наказание уменьшили размер стипендии, полагающейся профессиональному шахматисту, и запретили выезжать из СССР. Но через год, благодаря содействию Карпова, – ему позарез нужна была международная реабилитация, – Корчной снова стал выездным и… не вернулся из Голландии. Пресса тут же заклеймила «отщепенца», и его лишили советского гражданства. Власть приготовила письма рабочих и творческой интеллигенции, пригвоздивших «изменника» к позорному столбу. И вот, одно из таких писем должны были подписать ведущие шахматисты страны. Отказались трое: Давид Бронштейн, Михаил Ботвинник и я, на тот момент в звании действующего чемпиона СССР. Для Бронштейна это стало концом его блестящей карьеры. Ему закрыли выезд на международные турниры. Но к середине семидесятых Бронштейн был уже человеком пожилым, по международным турнирам ездил редко, и эта история не очень его задела. Кстати, Давид Бронштейн назвал своего новорожденного сына Львом, публично объясняя, что Лев Давидович – это в честь Троцкого (Бронштейна). Не коснулись санкции и жизни Ботвинника. А по мне с Аней ударила весьма ощутимо – нас немедленно вычеркнули из поездки на турнир в Восточную Германию и из всех престижных турниров внутри СССР. Но, ей Богу, сохранность души того стоила. Должен сказать, что шахматисту стать «невыездным» – это смерть! И нам не оставалось ничего другого, как подать заявление с просьбой о выезде в Израиль. И мы, естественно, угодили в «отказники». Первым, кто из шахматистов отреагировал на это, был чемпион мира товарищ Карпов – он всякий раз возмущённо отворачивался, когда я появлялся в его поле зрения.
Меня вызвали в КГБ и предложили забыть о выезде в обмен на возвращение в «строй славных советских шахматистов». Отказался. И тогда нам запретили участие во всех без исключения турнирах. Мы остались почти без средств к существованию. Нам попытался помочь Михаил Ботвинник – Аня была его любимой ученицей. Он сказал, что пойдёт в ЦК КПСС и добьётся, чтобы отношение к нам изменилось. Жаловался, что и его не пускают за границу, – это было как-то связано с его компьютерной программой, – что сократили наполовину рукопись его автобиографической книги. И при этом свято верил, что родной ЦК во всём разберётся. Напоследок дал совет: записать нашего сына Давида на фамилию матери – Ахшарумов. «Мои бы родители точно бы так поступили, – усмехнулся Ботвинник, – но беда в том, что фамилия моей мамы – Рабинович». Так что, это никакой не анекдот, я сам слышал от него эту фразу.
А в 1982 году в Москве проходил межзональный турнир с участием Гарри Каспарова, Михаила Таля, других известных советских и зарубежных гроссмейстеров. Сначала соревнование думали проводить в Московском доме туриста, но поскольку мы с женой объявили, что собираемся провести демонстрацию протеста, турнир перенесли в небольшой зал гостиницы «Спорт», чтобы гебешникам легче было контролировать все входы и выходы. В первый же день турнира мы с женой пришли к гостинице с плакатами, на которых было написано: «Отпустите нас в Израиль». Гостиницу по всему периметру окружил батальон гебешников. Просто удивительно, какие ресурсы советская власть бросала на достижение таких ничтожных целей! Меня били прямо на глазах у сотен любителей шахмат, которые недоумевали: почему их не пропускают в турнирный зал через главный вход и за что бьют чемпиона Москвы?
– И Аню били? – взволнованно спросил Фима.
– Нет. Её оттащили от меня, она кричала им: «Подонки! Бандиты!» В этом же году Аня на чемпионате СССР боролась за первое место с Наной Иоселиани. В решающей партии Нана просрочила время, и, согласно правилам, судьи засчитали ей поражение.
Через неделю из Москвы пришел приказ: решение арбитров отменить, а партию продолжить! Первый случай в истории шахматных соревнований! Аня прийти на доигрывание отказалась, и тогда ей зачли поражение. В результате, Аня отстала от Иоселиани как раз на отобранное у нее одно очко. Но через два года Аня все-таки стала чемпионкой страны. И случилось это в день 7 ноября 1984 года, годовщину Октябрьской революции! И газете «Правда» пришлось сообщить, что на чемпионате СССР в Киеве золотую медаль завоевала Анна Ахшарумова.
Но однажды власть проявила «гуманизм» – мне дали сыграть в чемпионате Москвы 1984 года, и я, сволочь такая, взял да выиграл его, – кстати, в том же году Аня стала двукратной чемпионкой СССР! – и на церемонии, посвященной закрытию турнира, я потребовал выпустить из страны семью Корчного: сын его Игорь долгое время скрывался от армии – служба в армии была лучшим на то время способом присобачить молодому человеку секретность и не выпускать его из страны, – но потом был пойман и посажен в тюрьму. Моя фраза «Тень тюремной решетки не должна падать на шахматную доску» вышла на первых полосах самых тиражных западных газет. Как вам фраза? Я думаю, что даже ты, Юра, похвалил бы меня за неё.
– От всех этих историй о шахматах на высоком уровне, – сказал Валерий Николаевич, – у меня сложилось впечатление, что шахматы – это и не игра вовсе, а битва мутантов со смертельным исходом
– Шахматы действительно в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков были битвой, правда, уж извините, Валерий Николаевич, не мутантов, а титанов, и без смертельного исхода. А советская власть, больная от необходимого ей всегда и во всём безусловного престижа, превратила шахматы в кровавую мясорубку… Началось это с Московского международного турнира 1925 года, который имел огромнейшее агитационное значение. Этим турниром был дан мощный толчок развитию шахматной игры в СССР, естественно прозванному «шахматному движению в СССР». Движение – не иначе!
– Но при этом СССР вырастил толпу гениальных шахматистов.
– А в какой нормальной стране можно годами бесплатно пестовать способного шахматиста? Растить чемпиона мира? Кормить его, поить, посылать за государственный счёт на престижные турниры? Давать за привезённые победы такую жизнь, которая и не снилась обывателям?
– Я смотрю на футболистов, – сказал Юра, – проигравших матч, уходят они с поля расстроенные, не более того. А в шахматах проигрыш – всегда трагедия!
– Конечно! В шахматах один человек вмещает в себя всю футбольную команду! В нём одном средоточие эмоций всех футболистов! Мне вообще кажется, что поединки один на один – самые разрушительные для здоровья и психики человека.
– Сколько же вас будут мучить? – спросил Фима.
– Кто знает… Пишем лидерам США, писали Брежневу. Теперь пишем Горбачёву. Выходили с Аней на демонстрации, устраивали голодовки. Перед самой смертью Брежнева, я голодал 38 суток, а Аня – 21 день, правда, пили воду, а незабвенный Леонид Ильич умер, и мы стали никому не интересны… В начале 1986-го наши друзья в Швейцарии в рамках проходившей там конференции по правам человека организовали шахматный турнир под названием «Салют, Гулько!» В знак солидарности с ними мы объявили десятидневную голодовку, а потом целый месяц выходили на демонстрации протеста. Одну из таких демонстраций Фима, наверное, хорошо помнит…
…Фима действительно хорошо помнил эту демонстрацию! Это случилось в конце апреля, после восьмисуточной отсидки Фимы в «Матросской тишине», но до визита к Фиме виртуального лейтенанта. А произошло всё так: после завершения семинара к Фиме подошли Борис Гулько и Валерий Николаевич.
– Фима, давайте проводим Борю вместе.
Фима понял, что предстоит серьёзный разговор, так как в своей квартире о чём-либо действительно важном, связанным с «отказными» делами, Валерий Николаевич предпочитал не говорить, подозревая, не без основания, что квартира находится на «прослушке». Вышли. Встали под уличным фонарём.
– Фима, – обратился к нему Борис Гулько, – вы работаете в театральном училище, что находится в двух шагах от Гоголевского бульвара, где мы с Аней предполагаем послезавтра, в понедельник, в 12 часов дня, провести демонстрацию. Если вам не трудно, не могли вы подойти к этому времени к памятнику Гоголю, чтобы всё, что произойдёт увидеть собственными глазами и рассказать обо всём увиденном Валерию Николаевичу с тем, чтобы он оповестил журналистов. Я уверен, что нас загребут. Фима, я нисколько не обижусь, если вы откажетесь…
– О чём вы говорите, Боря? Я буду там, как штык!
И поймал, нежный, признательный взгляд Ани. На том и расстались.
В означенный понедельник, скинув с себя рабочий халат, Фима, одетый Тиной во всё тёплое и серое, едва отличимое от цвета асфальта, отправился на Гоголевский бульвар и уже без четверти двенадцать с книжкой, впопыхах вытащенной из книжного шкафа, оказавшейся тоненьким томиком стихов Баратынского, расположился позади постамента на лавке, самой ближней к нему. Ровно в двенадцать, мимо Фимы спокойно прошли Боря, одетый в строгий костюм и плащ, и Аня, – в изящной кофточке поверх платья, – и встали между лицевой частью Гоголя и прямоугольной цветочной клумбой, расположенной в нескольких метрах от постамента. Фима не шелохнулся. Он всё прекрасно видел, и потому становиться первым зрителем предстоящего спектакля необходимости не было. Между тем, Боря полез за пазуху, быстрым движением вырвал оттуда прямоугольный кусок белой ткани и развернул его двумя руками над головой. Тогда, около цветочной клумбы стали собираться люди. Когда их набралось порядочно, Фима с ленцой покинул удобную лавку и присоединился к народу. На плакате чёрной краской было выведено: «Отпустите нас в Израиль!» Милиции не было. Лица Бори и Ани были совершенно спокойны, как будто манифестация в центре Москвы была для них делом очень даже обыденным. А толпа росла и внутри себя переговаривалась.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе