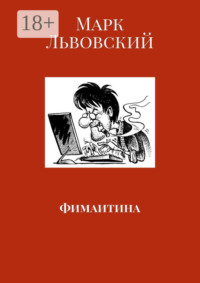Читать книгу: «Фимаитина», страница 12
– 20 —
1987 год был годом всеобщего «отказного» сердцебиения. В феврале из лагеря вернулся Иосиф Бегун, 4-го мая был освобождён из тюрьмы Юлик Эдельштейн и уже в июле укатил в Израиль. Обоих встречали на Казанском вокзале такие толпы, что не снились ни одному освобожденному из ГУЛАГа.
«Отказники» поехали… И даже на фоне таких событий, известие о разрешении на выезд Иде Нудель прозвучало взорвавшейся бомбой. Она казалась вечной «отказницей». Бесстрашная страдалица и, увы, одинокая, несмотря на звание «матери узников Сиона», несмотря на то, что весь западный мир знал о ней, писал о ней, требовал выпустить её. Но одиночество – это такая штука, которую не восполнит и целый мир. Рядом с ней всегда ощущалась некая неловкость от собственного благополучия, здоровья, наличия семейного очага. Её честность, принципиальность, прямолинейность зашкаливали. Ею восхищались, но следовать за ней было уделом очень немногих. И всего месяц тому назад она навестила Фимину семью и аккуратно кормила удивлённую, но не терявшую при этом аппетита полугодовалую Геулу.
И, может быть, впервые Фима видел оживлённую смеющуюся Иду, полную надежд. Что-то варилось для неё, шли какие-то слухи о её скором отъезде, но никто ничего толком не знал.
И вот свершилось: у Иды Нудель разрешение! И вновь у этой женщины, не как у всех: не вызывали в ОВИР, не требовали никаких бумаг, а прилетел в Россию миллиардер Хаммер (тот самый, который имел дела ещё с Лениным!) на личном самолете, с кем надо поговорил, и вот, увозит он Иду в Израиль! Трагедия, длиной в восемнадцать лет, завершённая счастливой сказкой! Но увозит – это потом. А 14-го октября 1987 года в московском ресторане «Вильнюс» состоялись проводы Иды Нудель!
С Геулой осталась Тинина тётка, тётя Циля, которая перестала избегать Фимин дом лишь два месяца назад, после решения уехать к дочери в Америку.
В банкетном зале на втором этаже ресторана собралось человек двести. Мороз, несмотря на всего лишь октябрь, стоял страшенный, отопление явно не справлялось, но евреев было так много, такими они были горячими, так дышали, так орали, так смеялись, так, в конце концов, пили, что холод был только во благо!
И вот появилась Ида! За ней – Хаммер! Ида сияла, Хаммер улыбался, от юпитеров шёл пар, блицы сверкали, «отказники» орали, фотокорреспонденты – кто на коленях, кто на столе, кто на люстре. Официанты, белые, как их курточки, выстроились вдоль стен со своими подносами, шагу ступить не могут, а администратор в штатском смотрит, запоминает, потный весь, измученный.
Сели за стол. Хаммеру дали котлету под названием «Московский бифштекс», и пошла пьянка!
– Смотри, смотри, – восторженно кричала Тина, – как миллиардер пожирает эту несъедобную котлету! А мы всё кричим: «Общепит! Общепит!»

Миллиардер Хаммер на проводах Иды
Тосты звучали такие, что скрытые в стенах микрофоны с треском лопались. И все смотрели на Иду и на Хаммера. А он молчал и тихонечко ел котлету. С отменным аппетитом. Ида разрумянилась, что-то отвечает, смеется, кричит… Невеста, ей-богу, невеста. Невесты всегда красивы.
…А Фима вспоминал её в ссылке, в деревне Кривошеино, в Сибири – он вызвался навестить её, привёз продукты, починил и обил дверь, заменил в окне треснувшее стекло, наколол, сколько мог, дров, пробыл у неё три дня… И до сих пор с ужасом вспоминал, как провожал Иду на работу – она работала ночным сторожем местной автобазы, где строго охранялись две перекошенные от старости «полуторки» – и возвращался в её домик под тягучий, выматывающий душу вой волков и пугливый стон жавшейся к его ноге мирной лохматой колли, любимой Идиной собаки.
Ида… Ватник, валенки, мороз, пурга, вой волков в ночи, и ответное, трусливое подвывание собак, и дрова… дрова, непрерывно и покорно исчезающие в пасти дырявой печки. И в каждой черточке лица ее – усталость, и в каждом шаге её – усталость, и в каждом слове её – усталость… И вот – на тебе! Что стало с советской властью?!
И вдруг…
Вдруг, в разгар веселья влетает в зал явно иностранный корреспондент: рубашка порвана, брюки – спущены, лицо – в крови (нет, нет, не подумайте чего-нибудь такого – просто несколько раз падал на лестнице), шуба – в руках, фотоаппарат – в зубах… Влетел, встал, покачался (тишина стояла жуткая), упал на колени, помотал головой и вдруг как зарычит (даём в литературном переводе с английского):
– Слепакам… разрешение… ура…
И упал.
Где взяли евреи сил взорваться в порыве нового восторга?
Официанты, все до единого, влезли на раздаточный стол. Администратор в штатском взобрался на штору. Окна распахнулись настежь. Граждане СССР, сидевшие на первом этаже ресторана, в ужасе разбежались, не успев заплатить за еду.
А Хаммер спокойно ел котлету. Кажется, вторую. Неужели вкусная? Фима подумал, что он просто вырвался на вечерок от своих врачей, вырвался из опостылевшей ему диеты. На здоровье, дорогой ты наш миллиардер!
И через минуту, в живом коридоре восторженно вопящих людей, в свете чарующей своей улыбки появилась царственная Маша Слепак, а за ней и «сам» – седой, бородатый, очумевший Володя.

Слепакам – разрешение! Ида Нудель и Слепаки в ресторане.
Именно тогда, в этот потрясающий вечер, все присутствующие в ресторане евреи поняли, что начинается в России то смутное, дивное время, о котором мечтали и за которое боролись лучшие сыны её, и к пришествию которого приложили руку и «отказники», коих судьба – маленькая страничка Великой Еврейской Летописи – еще ждет своего историка. И главное, что пришел конец стране «Отказнии», о которой когда-то Фима сочинил:
О, страна моя, Отказния
Разом мачеха и мать,
Где единственные праздники
Просто проводами звать…
О, страна моя великая,
Где от Риги до Читы
Одинаковы реликвии,
Одинаковы мечты.
Ни господ в тебе, ни парий,
Сколько виз и столько дат.
Мир твоих не знает армий,
Только горестных солдат.
Мы – рабы твоих традиций,
Мы твою признали клеть,
Тяжело в тебе родиться,
Но, не дай Бог, умереть.
О, страна моя охриплая,
Где под горькое «ура»
Через улицу Архипова
Нас погнали за Урал.
Где средь лозунгов и песен
Время в сторону текло,
Где дарил Володя Престин
Нам последнее тепло.
…Но придёт – последним рейсом
Из тебя навек уйдём;
Станешь памятью еврейской
И классическим стихом.
Над твоим склонимся прахом,
Переломим с треском плеть…
И никто не будет плакать,
И никто не будет петь.
О, страна моя, Отказния,
Разом мачеха и мать,
Где единственные праздники
Просто проводами звать…
…И впервые защемило сердце от таких простых и долгожданных слов: «Прощай, Россия!»
…Фима долго не мог уснуть. Чрезмерно выпитая водка гоняла его воображение от картины к картине, искривляя их, выдумывая новые краски, неожиданные повороты. Лица Иды и Слепаков то вырастали до гигантских размеров, то крошечными виделись из иллюминаторов уплывающих пароходов. И вдруг он отчётливо увидел Красную площадь и себя, одиноко стоящего в середине её и смотрящего, как исчезают в сторону Исторического музея «отказники», спины их уменьшаются, некоторые оглядываются и машут Фиме рукой, а он – один, совершенно один на пугающе огромной, холодной, пронизанной ветром площади. И даже Тины с Геулой не было рядом. Куда девались Тина и Геула? От ужаса этой картины он очнулся. Аккуратно, не без некоторого даже изящества, перелез через безмятежно спящую жену, выпил воды, навестил дочь – она, чуть освещённая лунным светом, пробившимся из-за шторы, безумно красивая, спокойная, закинув обе ручки на подушку, словно сотворив венок вокруг головы, спала, да так неслышно, так покойно, что Фима склонил к ней голову, чтобы удостовериться, что дочь дышит. О, как она замечательно, ритмично дышала!
– Господи! – тихо взмолился Фима, – мы-то когда? Неужели я для Тебя важнее Слепака? Иды?
Несмотря на головную боль и вялое общее состояние, Фима нашёл в себе силы гордо не реагировать на остроты жены по поводу вчерашнего и вяло собираться на работу.
Но горячий кофе и поцелуй в небритую щёку он всё же получил.
– 21 —
С 23 по 25 ноября 1987-го года прошёл «Симпозиум по режиму». Конечно же, без Фиминого доклада. Ну, не умел Фима писать доклады. Кроме того, предварительно прочитав несколько докладов других авторов, Фима понял, что все пишут – и очень толково – об одном и том же. Гнева Милана Менджерицкого он нисколько не боялся, так как прекрасно понимал, что голова его забита вещами, куда более важными. Симпозиум прошёл гладко, но, к немалому разочарованию участников, без особого внимания зарубежной прессы.
А 6-го декабря 1987 года, за день до встречи в США президента СССР Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана, в Вашингтоне более 250 тысяч человек собрались для того, чтобы призвать Кремль открыть ворота для эмиграции советских евреев. Не только «отказников» – евреев! Это оказалось самой большой демонстрацией в американской истории, организованной евреями. И день этот назвали Воскресеньем Свободы.
– Что вы там сидите?! – в гневе кричали израильские мамы Фимы и Тины.
…И по квартире деловито ползала годовалая Геула.
Разрешение Фима получил в феврале 1988 года. Произошло это столь же буднично, как покупка лежалого хлеба в булочной. Зато на следующий день началась сводящая с ума суета. Пересчитали отложенные на «чёрный» день деньги. Плюс деньги за кооперативную квартиру – покупатель нашёлся мгновенно. Можно было что-то (и, честно говоря, немало) купить для начала жизни в Израиле. Но что? Тинина мама наказывала, что нужно привезти мебель и пианино. Тинин папа – что нужно привезти пианино и мотоцикл, но и мебель неплохо. Фимина мама настаивала на очень хорошей мебели, но не исключала и мотоцикл тоже. Фиме от одного слова «мотоцикл» становилось дурно, и они решили купить дорогую мебель и пианино. Но в СССР в это время решение купить не значило возможность купить. И Фима немедленно обратился к другу детства и ранней юности замечательному русскому человеку Мише, Мишане.
…Их было трое – Фима, Мишаня и Володя, но последний, будучи главным сионистом в их компании, ещё в 1981 году уехал в Америку, посему участие в Фимином отъезде принимал лишь духовное, поздравляя по телефону и уговаривая ехать только в Израиль. «Хоть ты останься практическим сионистом!» – чуть ли не рыдая, сказал он Фиме.
Ах, отношения Фимы и Володи, самым близким другом детства и юности, были не простые. Вместе мечтали об Израиле, и поэтому неожиданное решение Володи ехать в Америку вызвало у Фимы чувство обиды и гнева. Началось отчуждение. Более того, Фима, попавший в «отказ», видел, что друг, тогда ещё не подавший документы на выезд, стал под многими предлогами избегать частых встреч с ним – его, по-прежнему «тёмные» делишки, мало соответствовали Фиминому статусу «отказника», за которым, по твёрдому убеждению Володи, КГБ ходил по пятам.
Он был очень разумным человеком. Можно сказать, мудрым. Так, будто предвидя будущий отъезд, отказался от работы в секретном предприятии. Ничуть не горевал, получая мизерную зарплату, зато замечательно покупал-продавал дефицит, имел обширнейшие связи в этой области. Вообще, выглядел человеком устроенным, вписавшимся в советскую власть, хотя и ненавидел её люто. Очень любил бытовавшую тогда поговорку: «Чем меньше у человека (разумеется, советского) зарплата, тем больше он зарабатывает».
Разрешение на выезд в 1981 году получил легко – случилось послабление, еврейский активистов распихали по тюрьмам и ссылкам, а в качестве компенсации «смирным» евреям приоткрыли форточку.
Фима очень любил друга. И было за что. Он блистательно играл в шахматы. Не изучая никаких теорий, не занимаясь ни в каких кружках, громил даже перворазрядников и всегда в своём стиле – медленном, от обороны, выжимая из противника все соки, не оставляя никаких надежд на атаку. Потрясающе играл в карты, особенно в преферанс. Феноменальная память на вышедшие из игры карты, интуиция, почти безошибочное проникновение в психологию противников делали его в преферансе, при достаточно длительной игре, практически непобедимым.
Умел и жульничать в карты – при врождённой ловкости рук, играл краплеными, передёргивал, менял колоды, клал в прикуп при сдаче нужные карты и так далее, и так далее… Не только деньги – ему доставляло ни с чем несравнимое довольствие видеть лица соперников, проигравших в одно единое мгновение так удачно складывавшуюся игру. Всё это требовало не только потрясающей ловкости рук, но и незаурядной смелости, ибо «канделябром по морде» тоже бывало…
Умел с лёгкостью добиваться благосклонности девушек. Небольшого роста, словно вырубленный из цельного каменного куска, необыкновенно сильный физически, с огромными, выразительными лазами, напористый, излучающий неприкрытую страсть, умело создающий у бедной девушки ощущение полной безнадёжности её сопротивления, он почти не знал поражений на сексуальном фронте. Мало того, побеждённая бедняжка, как правило, влюблялась в него, но куда там! Он уже спешил к новым победам.
Была в нём некая отчаянность, страсть к риску, страсть к преодолению обыденности. Его отношение к советской действительности зиждилось на двух китах: советских людей и милицию можно обмануть или купить, но с КГБ – не связываться никогда.
Они не расставались с шести лет… Фима на всю жизнь запомнил «Шереметьево» в утро Володиного отъезда. Боль от предстоящей разлуки и обида смешались в горячих слезах, в глухой тоске… Фиму за неделю до отъезда друга вызвали в районный КГБ и сухо сообщили, что он никогда ни в какой Израиль не уедет, и предложили начать жизнь нормального советского гражданина, а иначе… Впрочем, это было заявлено многим «отказникам» и особого впечатления на них не производило.
Стиснув друга в прощальном объятии, Фима почувствовал отчаяние. Он не стеснялся слёз, хотя понимал, что выглядит жалким, потерянным, маленьким на фоне широко улыбающегося друга, чьи горячие, карие глаза сияли счастьем и самодовольством.
Конечно, это расставание немедленно дало себя знать стихотворением, названным «Другу, улетевшему в США».
Самолёт на Рим… Светлеет…
Сто семей и море слёз.
Ждёт Америка евреев,
Оплатив их перевоз.
Улыбаюсь по уставу,
Чтоб от горя не орать.
Ах, не мне досталось право
Будущее выбирать,
Мне достались только робость
Да солёный, мокрый рот,
Мне досталось – на автобус,
А ему – на самолёт.
Всё… Прощай… И деловито
Он целуется со мной…
Самолёт, росой умытый,
Взмыл, как шарик надувной,
Взмыл от грёз, тоски, ОВИРа,
Лёг на курс и с глаз долой.
…Безнадежность конвоиром
Неотступным шла за мной…
…Фима, Володя и Мишаня сладкие годы детства провели в подмосковном посёлке Лосиноостровская. Они дружили, любили друг друга, но жизненные пути их, по мере приближения к зрелому возрасту, расходились всё больше и больше, хотя и встречались, и выпивали. Если Фима рос средних способностей, но правильно ориентированным юношей с чётким планом «учиться, учиться и учиться», с последующим поступлением в какой-нибудь институт, куда принимают евреев, то Володя, как самый умный и способный среди них, осуществлял и Фимин план и одновременно занимался тёмными делишками, как-то: куплей дефицита с последующей перепродажей его, занятием очередей за дефицитом с последующей продажей этих очередей и так далее. Что же касается Мишани, то и его деятельность длительное время заключалась в проворачивании дел, совершенно несовместимыми с «кодексом чести строителя коммунизма».
В 1966—1967 годах все трое в течение двух летних месяцев работали (конечно же, Володя нашёл эту фантастическую работу) «доставщиками», если хотите – разносчиками железнодорожных билетов гражданам Москвы, заказавшими эти билеты по телефону. А советский человек был устроен так: если он что-нибудь заказал, и заказ исполнялся (называлось это в СССР – «сервис»), то он так балдел, так не верил происходящему, что тут же давал исполнителю заказа чаевые. Но вот, сколько давал – во многом зависело от «доставщика». У Фимы был такой метод: приходил небритым (оттого выглядел не на свои 22, а на целых 25), рубашечка – летняя (в СССР «тенниской» называлась), обязательно с короткими, широченными рукавами, чтоб ручки в ней выглядели как можно более тоненькими (в зеркале жалость к собственным ручкам до слез его доводила), ботинки – стоптанные, и всегда наготове рассказ о двух крошечных детях, болезненной жене и старушке маме. Давали ему обычно от пятидесяти копеек до трёх рублей, так что при разноске сорока билетов в день (норма), до 60-ти рублей набиралось, при заработной плате инженера в те годы – 90 рублей в месяц. Через два года этой летней работы Фима с мамой купили кооперативную квартиру в девятиэтажном доме. Правда, на первом этаже…
Володя же приходил к клиентам всегда подтянутым, выбритым, вежливым, гордым. И такой у него был взгляд, что у бедных заказчиков руки от сдачи, как от раскаленной сковородки, отскакивали. А сдача – о-го-го какой иногда бывала! И поэтому Володя раза в два больше Фимы приносил. И учил:
– Помни, старик, нищим – подают, а богатым – дают.
Или:
– Не входи в дом просителем, а входи давателем. Тогда и тебе дадут.
Внял Фима его совету однажды. Оделся, выбрился, и первый же клиент сказал ему:
– Как хорошо, что билеты стали приносить нормальные люди, а не попрошайки.
До копейки забрал сдачу, проводил до дверей, сказал «спасибо», пожал руку и выразил желание видеть Фиму в этой должности и на следующий год. Скотина…
И Фима понял, что нельзя вылезать из своей, Богом данной шкуры…
Шли годы… Мишаня, окончив музыкальное училище, уехал работать на Север, вернулся помятым, задумчивым. После отъезда Володи жил тихо, зарабатывал деньги, скорее всего, трудами неправедными, но Бог берёг его. Именно в это время он сблизился с Фимой. Виделись они не часто, но Мишаня обожал посещать Фиму на предмет потрепаться. «Отказ» в выезде, борьба «отказников» за выезд, отъезд Володи – волновали Мишаню необыкновенно. Он и сам стал подумывать об отъезде. Конечно, в Америку, к Володе.
И всё ближе становился к Богу. Даже лицо его менялось. Светлее стали глаза. Мягче речь. Спокойней жесты. Он открыл для себя Библию. Открыл «Новый завет». Он открыл для себя Иисуса Христа. Многое испытал на этом свете Мишаня, и Вера стала его последней станцией на жизненном пути.
Визиты его к Фиме происходили так: он раскрывал свой объёмистый портфель, и выплывали оттуда колбасы и дефицитные консервы, и невиданные в магазинах конфеты и вина. Фима с удовольствием принимал Мишанины дары, отдавая себе ясный отчёт, какими методами они были добыты. Но противен себе не был. Однако ж, по долгу дружбы, постоянно и лицемерно просил Мишаню прекратить его тёмные делишки.
И когда Геула засыпала, Тина устраивала маленькое пиршество, и они говорили, говорили, говорили… О советской власти, о Боге, об Израиле, о Библии, об Иисусе Христе, об отъезде, о Володе. Странно было наблюдать, как всё красивее становилось Мишкино лицо, как усложнялась его речь, как зрели его планы уехать. У него появился наставник, – молодой человек, искренне верующий христианин, еврей, видимо, человек умный, страстный, упорный, – и Мишаня под его влиянием стал меняться буквально на глазах. Он долго и хорошо говорил о Вере, в волнении ждал духовной встречи с самим Иисусом Христом (не иначе!), он медленно становился не вообще верующим, а верующим в то, что Христос найдёт лично его, войдёт в него, изменит его жизнь… Он глубоко верил, что может существовать индивидуальная связь человека с Христом. Страстная, отчаянная натура, он ничего не делал наполовину; он поверил и навсегда стал другим человеком. И однажды, придя с роскошной бутылкой коньяка и коробкой импортных конфет, впившись в Фиму своими яркими, голубыми глазами, он произнёс:
– Ты скоро уедешь. Мы с Сашей молились за тебя. И Иисус нам ответил…
Это было ровно за год до получения Фимой разрешения.
А в марте 1988 года Мишаня, став законным членом еврейской семьи, – фиктивно женился на родной сестре Володиной жены, – получил разрешение на выезд и укатил к Володе в Америку. Судьба русского человека, всю жизнь окружённого евреями… В Америке Мишаня с фиктивной женой развёлся и умудрился вызвать к себе свою давнюю подругу, милую русскую женщину, ставшую его законной американской женой.
– 22 —
Но мебель для Фимы Мишаня добыть успел. Связи его были неисчерпаемы. И огромный, с невероятным количеством ненужных в нём предметов, отделанный под дуб, мебельный гарнитур румынского производства прямо из магазина поехал на таможню, где полным ходом загонялась в деревянные, на месте сколачиваемые ящики немалая домашняя утварь маленькой Фиминой семьи. Успел купить Фима и вишнёвого цвета отечественное пианино. Когда в магазине, выбирая пианино, Фима осторожно откинул крышку клавиатуры, то на обратной стороне её сверкнули золотом гордые слова: «Красная заря». И Фима, с видом знатока перебрав несколько клавишей, тотчас услышал могучие звуки Бетховенской «Аппассионаты». Ему не оставалось ничего другого, как побрести к кассе.
Дел, которых надо было переделать за три недели до вылета, было столько, что Фима едва успевал поесть, не говоря уж об выпить. Тина мало чем могла помочь, ибо, перепуганная каждодневными визитами разных дядей, то с грохотом приносящих что-то, то с грохотом что-то уносящих, Геула не сходила с её рук.
Но самым страшным испытанием для Фимы стали ночи – на него обрушивались сны. И не какие-то, требующие потом разгадки, обращений к сонникам, нет – это были реальные, не выдуманные сны о событиях, которые действительно случались в его жизни, но будто развороченных, вспоротых ножом. Сны, как врагом написанные, издевательские страницы его жизни. Страницы, небрежно перелистываемые перед ним демоном сновидений. Скомканный эпилог жизни в СССР… Так, например, омерзительный сон о том, как Валерий Николаевич яростно тыкает его лицом в липкую Христову плащаницу и кричит: «Как ты посмел написать о ней?» Или Липкин, топающий на него ногами, кричащий: «Не смейте прикасаться к стихам! Не позорьте русскую поэзию!» Или Сенька, вопящий: «Не езжай в Израиль! Сдохнешь от ностальгии!» Или Володя, отсчитывающий ему доллары и бубнящий: «Только в Америку! Только в Америку!
Эти сны страшно мучили Фиму, он часто просыпался среди ночи. Боясь разбудить Тину, аккуратно, не дыша, перелезал через неё на их двуспальной кровати, а когда и кровать уехала на таможню – слезал с топчана, с которого, слава Богу, можно было слезть по другую сторону от спящей жены, и на цыпочках пробирался на кухню, жадно пил воду…
Ужасен был холод в ногах, который никак нельзя было одолеть. Не помогали никакие шерстяные носки, наоборот – ступни ног оказывались, будто в холодильнике. Отчаявшись, Фима вытягивался, складывал руки на груди и ждал, когда холод поднимется выше, захватит грудь, голову и… конец. Но предполагаемая смерть не поднималась выше колен… Тине он не рассказывал – на ней и так лица не было.
По утрам Фима готов был смеяться над своими сновидениями и делал всё, что нужно, и делал толково. Но с приближением ночи… Позвонил Эдику. Тот немедленно отозвался и через своего знакомого, жившего недалеко от Фимы, прислал таблетки. Стало легче… Тина делала вид, что ничего не замечает.
А потом пришёл тот страшный день, когда на таможне наступила очередь отправки последних частей мебели, книг и собранных за четверть века коллекционирования шестнадцати альбомов, шестнадцати бесценных, толстых, любимых альбомов, в которых покоилось более трёх тысяч открыток – репродукций картин великих живописцев; альбомов, в которые он заглядывал почти каждый день, смакуя, наслаждаясь, вспоминая, не давая никому дотронуться до них без тщательного омовения рук с мылом. И как он же бывал счастлив, когда вошедшая в его жизнь Тина, бережно и с великим интересом (а притворяться она совершенно не умела) просматривала альбомы, спрашивая о той или иной открытке, об истории её нахождения в альбоме…
До прихода грузчиков к нему подошёл таможенный офицер, узкоглазый, с мясистым лицом, похожий на откормленного казаха. Равнодушно прошёлся взглядом по книгам, подошёл к аккуратно увязанным двум пачкам с альбомами. Сердце Фимы застучало так, что он даже прикрыл левую часть груди ладонью.
– А это что?
– Да альбомы с открытками.
– А покажите, пожалуйста!
Фима дрожащими руками развязал одну из пачек и сунул ему в руки альбом с русскими «передвижниками».
– Ух, ты! И долго собирал?
– Лет двадцать пять…
– Да… А ты, мил человек, не задумывался, что открыточки твои нашим русским достоянием являются?
– Да какое же это достояние, если любую открытку можно в магазине купить?
– Любую, говоришь? А вот эта, толстая, небось, дореволюционная?
Он вытащил из страницы альбома старую, издания 1914 года репродукцию с картины Венецианова «Алёнушка».
– Может, она единственная в СССР, а? Ишь ты, сколько старинных-то открыток! – задумчиво продолжал он, перебирая листы альбома.
Внимательно посмотрел на Фиму. Долгим, спокойным взглядом. Чего-то не дождался и вздохнул:
– Ты мне на каждую старинную открыточку из Ленинской библиотеки справочку принеси, тогда и провезёшь! Точка! А в толстую-то открыточку и стодолларовую купюру вклеить можно, не находишь? Голь на выдумки хитра!
– Да какая ж я голь, – устало ответил Фима. – Вон, мебели сколько…
– Голь, точно тебе говорю, голь, да ещё и перекатная!
У Фимы закружилась голова, от ненависти и бессилия выступили слёзы, а в ушах раздался рёв израильского «Фантома» и свист несущейся вниз беспощадной бомбы…
…Надо было бы, конечно, пойти в «Ленинку», но нашлась «добрая душа», энергичный, хамоватый приятель Юра, который сказал Фиме:
– Фима, ты где рос?! Где твои мозги?! Ты не догадался дать ему на лапу?! Он же протянул тебе руку! Моё уважение к тебе понизилось на целый балл в десятибалльной шкале. Фима, не трать силы на «Ленинку»! Там надо было занять очередь год тому назад. Оставь мне эти альбомы. Я через полгода приеду в Израиль, и, уж поверь мне, вывезу их все до единого. Расплатишься со мной долларами.
Повернулся к Тине, державшей на руках только что закончившую реветь Геулу, и галантно произнёс:
– Тиночка, но мои чувства к тебе совершенно не зависят от моего чувства к твоему никчемному мужу!
Чмокнул Тину, Геулу, ловко схватил обе пачки с альбомами и исчез…
Всё, что успел сделать Фима – вытащить из альбомов семь самых дорогих ему открыток, каждая из которых была его романом, его историей, его любовью… Уж их-то он вывезет…
Фима смотрел на захлопнувшуюся дверь, и ему казалось, что на лестничной клетке его родные альбомы рвутся к нему из пачек, раскрываются, выгибаются, лопаются, рассыпая открытки, ломая их… И стонут, стонут… Он даже открыл дверь, но на тёмной лестничной клетке стояла обычная тишина. Всё, что он услышал – затихающее пыхтение мотора старого Юриного «Жигулёнка».
– И на сколько баллов в десятибалльной шкале уменьшилось твоё уважение ко мне? – устало спросил жену Фима.
– Ни на сколько! – ответствовала Тина, передавая ему дочь и целуя его поникшую физиономию. – Я знала, за кого выхожу замуж. И ты, конечно, помнишь, что сегодня твоя очередь укладывать её.
– Знаешь, – говорил Фима, отправляясь с Геулой в её комнату, – я даже не знаю, с какого жеста начинается взятка…
Геула, против обыкновения, уснула быстро. Тина возилась на кухне, перебирая, что из посуды брать с собой, что не брать – следующий день был последним днём на таможне. В квартире оставались Геулина постель, старый трёхстворчатый шкаф, в котором разместились четыре чемодана с наклейками «взять с собой», два уже упомянутых низких, неудобных, подаренных друзьями, топчана, принайтованных друг к другу болтами, дабы не нарушать близости с женой, круглый, многократно чиненный Фимой обеденный стол и три качающихся стула…
До вылета самолёта оставалось два дня…
И тоска навалилась на Фимино сердце… И вся ночь была посвящена его любимым открыткам…
Он лежал с открытыми глазами, слышал ровное дыхание жены, и плыли перед ним семь его любимых открыток и шлейфом тянулись за ними воспоминания, ибо каждая из этих открыток была рассказом, то грустным, то весёлым о том, как она попала в заботливые Фимины руки. Семь открыток, которых он прозвал «приключенческими», семь непридуманных историй…
…Творение великого флорентинца Джотто – знаменитая «Мадонна Оньисанти»…
Мадонна «Оньисанти» («оньисанти» в переводе с итальянского означает «все святые») – гордость галереи Уффици. В этой удивительной картине дева Мария не суть одухотворённость, а земная, крупная женщина, со спокойной силой, исходящей от её фигуры, облачённая в простые одежды, со светлым и открытым лицом, с чуть заметной, осторожной улыбкой, позволяющей при внимательном взгляде увидеть даже белизну зубов.
Это из-за «Мадонны Оньисанты» Фима грубо, беспардонно нарушил главное правило коллекционирования художественных открыток, заключавшееся в том, что открытка обязательно должна иметь на тыльной стороне очерченные типографией места для марки, адреса и письма. А он, долго искавший и, наконец, отчаявшийся найти мадонну, вырезал репродукцию её из старой книжки по искусству, подогнал под стандартный размер и наклеил на обратную сторону обычную почтовую открытку, тыльной стороной наружу, выдав самому себе этот «бутерброд» за художественную открытку. У него не было тогда ни одного Джотто! Каждый раз, перелистывая свой альбом со «старыми» итальянцами, Фима стыдливо посматривал на «Мадонну». Дальше – хуже. Странная, диковатая сложилась ситуация. Он стал бояться рассматривать своё творение. Было ощущение, что кто-то стоит за спиной и уличает его. Он стал оглядываться. Он возненавидел «Мадонну». Точно, как у Евгения Шварца в его «Тени», когда Юлия рассказывает учёному, как она возненавидела своего возлюбленного за то, что её поцелуи приходились ему только в затылок, ибо едва лишь она начинала целовать, он оборачивался посмотреть, не появилась ли его злобная, ревнивая жена. Да и сама Мадонна стала поглядывать на Фиму с плохо скрываемым презрением.
Впрочем, Фима был скоро наказан не только морально: тонкий книжный лист захирел от клея, и строгий, задумчивый лик мадонны скукожился, потом вообще перестал быть ликом, слившись с общим фоном картины, в свою очередь, изменившим свой цвет с золотого на блекло-жёлтый. И он разорвал подделку, почувствовав при этом радостное освобождение. Такая вот штука коллекционирование: укради, убей, продай родину за открытку – ничто не возбраняется, даже приветствуется, – но только не профанация, только не подмена. Коллекционер может продать душу дьяволу, но никакой дьявол не заставит его поменять самую плохонькую открытку на самую роскошную репродукцию, тыльная сторона которой не будет размечена славными знаками почтового ведомства… И немедленной наградой за поступок, стала покупка репродукции «Мадонны», правда, обычного, скверного советского качества, в простом книжном магазине за простые 30 копеек. И уплыла Мадонна в небытие, и вместо неё перед взором взволнованного Фимы появилась «Благовещение» Симоне Мартини, художника, жившего и творившего в 13—14 веках, и осмелившегося изобразить деву Марию в момент получения «благой вести» от архангела Гавриила о предстоящем ей непорочном зачатии Иисуса Христа не благостной, не восторженной, не задыхающейся от счастья, а перепуганной, в ужасе отшатнувшейся от архангела, будто в одно страшное мгновение довелось ей увидеть то, что предстоит пережить ей и её сыну. Какое страдальческое лицо у Марии! Какая потрясающе нежная шея! С каким естественным изяществом подбирает она рукой свой плащ, словно защищаясь от охватившего ее смятения. Потрясающее, ни на что не похожее Благовещение! Как велико было мужество художника, жившего и творившего в 13—14 веках, и осмелившегося изобразить деву Марию в момент получения «благой вести» от архангела Гавриила о предстоящем ей непорочном зачатии Иисуса Христа не благостной, не восторженной, не задыхающейся от счастья, а перепуганной, в ужасе отшатнувшейся от архангела, будто в одно страшное мгновение довелось ей увидеть то, что предстоит пережить ей и её сыну. Какое страдальческое лицо у Марии! Какая потрясающе нежная шея! С каким естественным изяществом подбирает она рукой свой плащ, словно защищаясь от охватившего ее смятения.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе