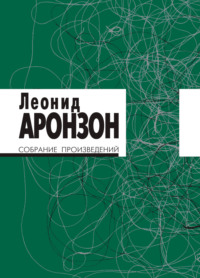Читать книгу: «Собрание произведений. Том I», страница 3
Художественное слово у Аронзона, помимо особенной причастности поэтическому молчанию, обладает и соответствующими темпоральными характеристиками. «Твоё мгновенье – вечность», – пишет поэт в одном из стихотворений; «И какая это радость – день и вечность перепутать!» – вторят ему строки стихотворения «Ещё в утренних туманах…». А. Альтшулер на вечере памяти Аронзона справедливо заметил: «Для него существовал в общем-то один день, и этот один день раскрывался как бутон цветка»46. И действительно, высшие, самые подлинные проявления существования проходят для Аронзона sub specie aeternitatis – под знаком вечности. В «Отдельной книге» читаем: «Так наша жизнь превратилась в фотографию, которая никогда не станет достоянием семейного альбома». Поэтическое представление каждого из композиционных фрагментов поэмы «Вещи» по-прустовски очень подробно, замедленно; время кажется загустевшим, как струя смолы или меда. Чтение такой почти лишенной динамики «Вещи» оказалось бы унылым занятием, если бы чувство меры не заставляло автора всякий раз вовремя сменить изобразительный план. Причем эти смены подчинены вовсе не реальной хронологии, согласуясь только с собственными задачами текста. В короткий отрезок времени мы можем увидеть происходящее в самые различные периоды; очертания времени становятся менее всего похожими на линейную длительность, а обретают объемность пространства со своеобразной художественной топологией. Действие поэмы происходит ночью в рассеянном лунном свете – всё это обеспечивает необычное, будто бы «сдвинутое» восприятие: «я каждый разобрал предмет, и в каждом опознал приметы особой жизни».
Совмещение в произведениях Аронзона достижений поэзии различных эпох (прошлого и настоящего), его обращение в поздний период к предельно лаконичному тексту (дву- и одностишиям), использование выразительной силы пространственной организации литературного материала (текстуально-графические композиции) представляют собой характерные приемы преодоления «хронологического» восприятия литературного текста. Известный факт: нередко стихотворения у поэтов рождаются из одной-двух строчек, а то и из приглянувшегося словесного оборота. При этом «зародыш» стихотворения уже распознается автором как поэзия, которую в дальнейшем следует лишь «развернуть», развить. А не может ли возникнуть обратная задача – «сворачивания» стихотворения: сжать текст так, чтобы поэзия в нем все-таки сохранилась, обнаружив тем самым текстуально-поэтическую единицу? В последний, четвертый, период творчества (и в текстах, тяготеющих к этому периоду) Аронзон пишет дуплеты, однострочия и производит даже разложение слов:
Страх!
Трах!
Рах!
Ах!
х!
Трёмсмерть
Смерть
мерть
ерть
рть
ть
ь
Можно предположить, что в подобного рода текстах Аронзон пытается добраться уже до атомарной сути стиха, и остается только сожалеть, что четвертому периоду не удалось завершиться. Экспериментируя, Аронзон сталкивает верлибр с рифмованным стихом («Запись бесед»), пишет тексты, представляющие собой «наборы стихов-рифм»: «Шуты красоты», «Здания трепетания», «Сучность сущности», «Notre-Dame создам», «Рабочий ночи», «Тишина вышины» («AVE»), – создает и другие стихотворения, столь же мало напоминающие традиционные (например, «Держась за ствол фонтана…»).
Во многих произведениях Аронзона читатель отчетливо ощущает присутствие вневременной действительности. Как уже отмечалось выше, это ахроническое ядро находит проявление в выразительной силе умолчаний, а также в такой системе ценностей поэтического мира, которая выдержала испытание временем. Интенсивность эстетического переживания у Аронзона также способствует их ориентации на «вечность». Однако при этом творчество поэта вовсе не оказывается надмирным, оторванным от непосредственно воспринимаемого разнообразия и богатства действительности. Напротив, эмоциональный, предметный и стилистический диапазоны автора, несомненно, широки. Стремление к реальному совмещению в творчестве черт ускользающего и незыблемого (вследствие алогичности подобного совмещения) приводит к суггестивности выражения. А одним из темпоральных залогов оказывается сложная иерархическая картина различных переплетающихся ритмов.
Ритм в поэзии предполагает гармоническое движение, в которое вовлекаются как звуки (и обозначающие их буквы), слова, стопы, строки, строфы, так и родственные по смыслу понятия, темы, образы, иногда объединяющие несколько произведений. Ритм проявляется также в повторах, перекличках. Все эти возможности динамики активно используются Аронзоном. Например, в стихотворении «Утро» (1966), состоящем из 21 строки, слово «холм» повторено 10 раз (причем шестикратно на концах строк), «вершина» – 8 раз, «дитя-детей-младенец» – 8 раз; звучат как рефрен ударные строки «Это память о рае 〈вар.: Боге〉 венчает вершину лесного холма!»; варьируются одни и те же предложения. В этих повторениях рождается новый смысл. Ритмы и их вариации в некоторых произведениях становятся едва ли не основными выразительными средствами (почти минуя семантику) – см., например, стихотворение «Кто слышит ля-ля-ля-ля…».
В «Записи бесед» интонационно – синтаксическая организация полифонична и вариативна. Особенно интересный пример артикуляции семантических ритмов представляет собой вторая часть. Она начинается с варьирующегося «зацикливания», едва ли не бессмысленного и странного бормотания, обращающего читателя к бессознательному восприятию (бессознательность подчеркнута скобками, в которые взяты соответствующие строки). Но это вязкое бормотание прерывается пронзительным стихом: «или вырыть дыру в небе», после которого читатель возвращается к настойчивому повтору: не то, не то, …, то, то. Затем в цикл неожиданно вторгаются два варианта одного впечатления, мысли (строки 9–12). После них поэт избирает контрастный тон: длинные перетекающие, изысканные по содержанию строки. Но вот «странность» речи возрастает (строка 17), возвращаются интонации начала стихотворения и как следствие – новый повтор (строка 18). Стихотворение завершается активным, уже не варьирующимся повтором «странной строки», напоминающим возвраты патефонной иглы на деформированной пластинке, и это не только останавливает ход стихотворения, но и замыкает конец на начало. Общее впечатление от стихотворения – помимо несколько необычной, невыразимой бессознательности – это впечатление весьма высокой содержательной емкости и явственного, иногда изысканного, иногда томительного эстетического переживания.
Достоинства «Пустого сонета» также во многом обязаны выразительной силе повторов (лексических, семантических и фонетических) и их вариаций. Начинаясь с вопросительной заставки-восклицания, это стихотворение далее становится весьма «певучим», непрерывно развиваясь и организуя циклы (так катится колесо по дороге), но под конец строки укорачиваются, интонация превращается в более отрывистую, движение замедляется и прекращается, будто натолкнувшись на преграду или достигнув цели, и эта остановка подтверждается повтором в последней строке «стояли – стоят» – в строке, которая подчеркивает центральную роль адресата послания.
Подобные повторы демонстрируют особенное отношение к времени в творчестве Аронзона, определенным образом связанное с темой отражения. Прозаическая вещь «В кресле», начинающаяся стремительными, будто задыхающимися в спешке, набегающими друг на друга импрессионистическими фразами, постепенно замедляется, обретает многозначительную психологическую загадочность, переходит к обобщениям едва ли не философским и, наконец, заканчивается фразой: «Зеркала стояли vis-а-vis, и этого оказалось достаточно, чтобы увидеть прекращение времени». В экспозиции неоконченной поэмы «Зеркала» мы встречаем такие строки: «По кругу зеркала, пустынный сад, длиннеющая тень из-за угла и полудужье солнца за рекой, всё неподвижно, сонно, всё – покой. Не шевелятся листья, всё молчит, как будто время больше не стучит, как будто совершился Божий суд и мир – фотографический этюд». В двух монологах той же поэмы упоминаются двойники, людское подобие Господу («Господь нас создал копией, увы!»), зеркала названы «высшими, будущими, засмертными, пустыми», встречается призыв: «Бегите голубеющих зеркал, заройтесь в одеяло с головой!» Зеркала и покой, неподвижность, завершение времен оказываются связанными, а тема подобия, отраженности сопряжена с эсхатологическим восприятием.
Мотив подобия, отражения относится к числу ведущих в художественной действительности Аронзона. Зеркала, двойники, положение vis-а-vis, отражения садов, небес, облаков, а то и самой Троицы в озерах и реках – участники многих его произведений разных периодов; переживание подобия различных предметов друг другу в мире – видйнии, превращения одного в другое становятся одним из существенных переживаний поэта. «Дерево с ночью и с деревом ночь рядом стоят, повторившись точьв-точь», – писал Аронзон в стихотворении «Тело жены – от весны до весны…», а в цикле «Дуплеты»: «Кто-то, видя это утро, себя с берёзой перепутал», «Изменяясь каждый миг, я всему вокруг двойник!»
Возможность превращений лишает человека устойчивости бытия («А я становился то тем, то этим, то тем, то этим» – «Запись бесед», VI), и нередко такая ситуация воспринимается как мучительная. Художника беспокоит, что даже любимая женщина может превратиться в нечто иное: «Иногда я ждал, что она окажется оборотнем и прижимался к её телу, чтобы быстрее совершилось страшное» («Отдельная книга»). Близость метаморфозы кажется реальной опасностью.
Мотивы подобия и отражения присущи и композиционной структуре ряда текстов Аронзона. Так, начиная с 1966 года, большое число черновиков буквально испещрено перевертышами, в которых соединятся, станут «одним и тем же» слова, выражения и их зеркальные отражения. Такие композиции мы встречаем и в книге «AVE».
Мотив отражения у Аронзона тесно переплетается с образами природы, мотивами одиночества, смерти. Поэт ощущал одиночество, покинутость везде: среди друзей («Своя на всё печаль во мне: вечерний сижу один…» – «Нас всех по пальцам перечесть»), с женой («Иногда её близость не только не отделяла от одиночества и страха, но ещё более усугубляла и то и другое» – «Отдельная книга»), в вымышленном раю («двуречье одиночества и одиночества» – «Запись бесед», I). Безлюдье типично и для поэтических пейзажей Аронзона.
Расщепление реальности на то, что пребывает в потаенных пластах сознания, и на то, что воплощено в произведении, может привести даже к переживанию своеобразного чувства вины. Экзистенциальная тревога выражается в новых произведениях, но ощущение того, что «что-то не так», не оставляет, настоятельно требуя более радикального разрешения возникшей проблемы. Порой художника даже посещают мысли об искуплении (ср. примеры Гоголя и Толстого). Ситуация обретает трагический характер. Поэт может оставить литературное творчество (Красовицкий, дилемма Боратынского) или принять другое, еще более драматическое решение… В любом случае на судьбе настоящего поэта лежит определенный отпечаток несчастья (ср. высказывание самого Аронзона: «Есть наказание, которое очевидно, заметно, и которое не очевидно, незаметно для наказуемого. – Я счастлив избранностью своего несчастья»).
Тот факт, что элементами художественной действительности Аронзона на равных правах являются не только литературные отражения некоторых реальных чувств, событий, но и преображение образов предшествующей поэзии (отражения отражений), обусловил своего рода взаимозаменяемость реальности и литературы, которые в равной мере становятся объектами ви́дения лирического сознания. При этом ориентация в экзистенциальной проблематике человеческой жизни оказывается неотрывной от разрешения сугубо художественных коллизий.
Эстетическая позиция Аронзона накладывает яркий отпечаток и на его любовную лирику. В стихотворении 1969 года «На стене полно теней…» автор послания неожиданно просыпается среди ночи, разбуженный внезапным, напряженным вопросом: «Жизнь дана, что делать с ней?» Заочное путешествие по раю не только не в состоянии дать ответ на мучительный вопрос, но и увеличивает силу вопрошания. В объективном существовании поэта всё, вроде, идет своим чередом (строки 9–10), но тем не менее какой-то властный толчок заставляет проснуться: «Жизнь дана, что делать с ней?» Следующие две строки (13–14) зеркально повторяют предыдущие, как бы останавливая, подводя итог тревожному состоянию сознания, для которого, как кажется, нет небанального разрешения (сколь фальшиво прозвучала бы тут любая сентенция), но единственно возможный выход прост: «О жена моя, воочью ты прекрасна, как во сне!» Вопрос о смысле жизни, вообще говоря, не имеющий удовлетворительных ответов в рациональной плоскости, обретает ответ на эстетическом уровне, и автор предъявляет нам механику преодоления экзистенциального конфликта через чувство сопричастности красоте в ее конкретном, личном воплощении, когда подсвеченная эротикой красота жены оказывается средством преодоления угрозы бытия.
Жена, Рита Моисеевна Пуришинская, – лирический объект и адресат многих возвышенных произведений Аронзона. Духовная близость с ней, человеком эстетически и жизненно одаренным, была, без сомнения, наибольшей удачей в жизни Аронзона. Главным для нее была любовь к мужу и преданность его делу. Во многом благодаря близости их отношений в поэзии Аронзона появилась внушительная серия столь редких в современной литературе «семейно-лирических» стихотворений. По свидетельству близких, значительная напряженность жизни Аронзона поддерживалась ощущением счастья. Чего стоят одни только обращения к жене: «Красавица, богиня, ангел мой!» или: «Семирамида или Клеопатра – все рядом с ней вокзальные кокотки, не смыслящие в небе и в грехах!» («Глупец, ты в дом мой не вошёл…»).
Нужно отметить, что любовная лирика Аронзона отнюдь не лишена эротического начала, соответствующие образы выступают в ней в достаточно отчетливом, не прикрытом эвфемизмами виде (см. «Два одинаковых сонета»). Эрос земной и эрос небесный, переплетаясь, вносят в поэзию Аронзона особый, неповторимый оттенок, с одной стороны, придающий земную существенность платоническим чувствам, а с другой – убедительно поэтизируя феномены плотской любви47. В «Отдельной книге» мы встречаем такое симптоматическое высказывание: «Моя жена напоминала античные идеалы, но её красота была деформирована удобно для общения, что отличало красоту эту от демонстрации совершенства». Исходя из потребности коммуникации, автор, остро ощущая собственную личность, обнаруживает лицо и в тех предметах, которые принято считать безличными. «Всё – лицо: лицо – лицо, пыль – лицо, слова – лицо», – пишет он в одноименном стихотворении 1969 года; «Но ты к лицу пейзажу гор», – подтверждает стихотворение «Вторая, третия печаль…». Вообще лицо, лик относятся к одним из наиболее излюбленных слов поэта.
Эстетическое, будучи определенным образом причастным вневременному плану действительности, подает автору надежду преодолеть с его помощью конечность земных сроков, но ахронизм поэтического мироощущения препятствует его использованию в качестве инструмента разрешения жизненных коллизий. Аронзон и здесь вносит свои поправки. В «Отдельной книге» читаем: «Она была так прекрасна, что я заочно любил её старость, которая превратится в умирание прекрасного, а значит не нарушит его». Акцент весьма важен: прекрасное, хотя само и неподвластно гибели, может участвовать в процессе умирания.
Однако по мере освоения области прекрасного выясняется, что оно вызывает у художника вовсе не только светлые чувства. Так, одно из стихотворений 1963 года начинается следующими строками: «Не подарок краса мне твоя, а скорей наказанье, и скорее проклятье, чем лето, осинник, озёра». Что-то в человеке препятствует его восприятию прекрасного, приходит усталость, опустошение. В стихотворении «Боже мой, как всё красиво…» Аронзон пишет: «Нет в прекрасном перерыва. Отвернуться б – но куда?» В других стихах мы встречаем такие строки: «даже неба красота мне насквозь осточертела». Поэт испытывает облегчение, когда напряженность эстетического переживания спадает: «Я смотрю, но прекрасного нет, только тихо и радостно рядом» («В двух шагах за тобою рассвет…»).
Быть может, нет ничего странного в том, что в процессе эстетического переживания, помимо различения в красоте ее земных, личностных черт, Аронзон столкнулся с фактом ее известной обезличенности. Разгадка этого, возможно, заключена в амбивалентности чувства земной любви, сквозь призму которого поэт воспринимает прекрасное. Предмет любви обретает черты сравнимости, совместимости с другими (тоже по-своему уникальными) предметами. «Люблю тебя, мою жену, Лауру, Хлою, Маргариту, вмещённых в женщину одну», – писал Аронзон в стихотворении «Вторая, третия печаль…». В «Сонете в Игарку» говорится, что в природе «есть леса, но нету древа, оно – в садах небытия», т. е. в природе торжествует родовое начало, а поскольку природа представляет собой «подстрочник с язы́ков неба», то и на небесах родовому, общему отведено значительное место. Поэтому не удивительно, что Орфей воспевает по сути не самоё Эвридику, в которой видел отблеск небес, а Еву.
Таким образом в эстетическом переживании обнаруживается определенная угроза существованию индивида, и тогда оказывается оправдан протест против эстетизации. Мало того, бунт против нее становится необходимым условием ее неформального приятия человеческим сознанием. Художественная действительность в эстетическом освещении должна включать в себя и тени («безобразное»), чтобы поэт и читатель получили возможность ощутить ее достоверность, почувствовать ее близкой и «своей», а не чуждой. Это обстоятельство не могло не сказаться на поэтическом стиле автора, в частности, на использовании им выразительной силы «низкого».
Одним из способов преодоления враждебности, заключенной в эстетическом переживании, на который хотелось бы указать, является – в особенности в последние годы творчества Аронзона – явная тенденция к упрощению стиля. Поэт практически отказывается от сложных, многоуровневых образов, стихотворения приобретают черты максимальной лирической открытости, способ выражения приближается к классической ясности. Автор обретает более чистый, более трезвый взгляд на существующие в мире отношения, вступая в новую, отвечающую зрелому возрасту фазу развития. Иногда создается впечатление, что для поэта становятся особенно важны прямые, обыденные значения слов; словарь частично утрачивает многозначительную «расплывчатость» (см., например, стихотворения «Благодарю тебя за снег…», «В двух шагах за тобою рассвет…»).
У Аронзона мы находим также немало юмористических и сатирических произведений (поэмы «Демон» и «Сельская идиллия», «Происшествие», ряд шуточных стихотворений). Но действие смеха выходит за границы соответствующего жанра и сказывается на характере образов в общем «серьезных» стихотворений – речь здесь о том, что самим поэтом было названо «юмором стиля». «Там, где девочкой нагой я стоял в каком-то детстве», – пишет Аронзон в стихотворении «В поле полем я дышу…». В стихотворении «Несчастно как-то в Петербурге…» неожиданным абсурдом оборачивается обычное приветствие: «Друг другу в приоткрытый рот, кивком раскланявшись, влетаем». В черновом наброске 1969 года, начинающемся строками «И я воздвиг, и я себе воздвиг и не один – и все нерукотворны», комический эффект достигается путем «размножения» того, что по давней поэтической традиции принято считать единичным, и невольно возникающей при этом ассоциацией с рядами отнюдь не поэтических памятников «по грудь» и «в полный рост». Ирония, субъективирующая некатегоричность и парадоксализм, позволила Аронзону показать тревожный и веселый, неинтеллигибельный и полный «простых чудес» мир, в котором обретает внутреннее единство то, что в реальности разделено непреодолимым барьером.
Одной из «сцилл и харибд», подстерегающих художника, является необходимость удовлетворить сразу двум противостоящим друг другу условиям: конкретности литературного образа и его общезначимости. Так как конкретность свойственна чувственному восприятию человека, а общезначимость в понятном смысле «идеальна», то авторы нередко представляют художественный образ в двойном – эмоциональном и интеллектуальном – свете. Во многом был прав А. Альтшулер, когда говорил: «Он изображает не сами вещи, а то, что за ними стоит. Вот в стихе у него „озера“, но это не конкретные озера, а Озера, Озера вообще, которые существовать здесь не могут».
При изображении чувственно воспринимаемых предметов Аронзон актуализирует их идеальное содержание, сопровождая его эмоциональным тонированием. Одним из приемов является их «развоплощение», лишение четких пространственных и временны́х очертаний: «Ты стоишь вдоль прекрасного сада», «Тело жены – от весны до весны», «Вокруг меня сидела дева», «Пахнет девочка сиренью и летает за собой».
В соответствии с духом авангардного изобретательства возрастает значение концептуальных элементов. Это выражается не только в том, что автор все чаще прибегает к использованию выразительной силы «логических» высказываний, но и в проникновении соответствующих параметров в интонацию, композицию, подбор словаря, способ работы с чужими текстами и т. д. В качестве иллюстрации можно отослать читателя к фрагментам книги «AVE» («Одна мать меня рожала…», «первое небо…», текст «За пустотою пустота…» и др.)48 или к пятой части «Записи бесед». В стихотворении «глю-глю…» используется выразительная сила вариаций фонетических ритмов и логики (выделенные автором логические связки «и», «а также», «и т. д.»), минуя семантику. В одном из вариантов этого стихотворения («гли-ала, но не ала-гли…») логические операции представлены даже несловесными знаками («+», «—», «→»).
Прозаическое произведение Аронзона «Ночью пришло письмо от дяди…» буквально наводнено «концептуальными» высказываниями, но здесь лирическое освоение осуществляется в первую очередь благодаря особому свойству самих этих высказываний – иронии и парадоксальности: «Нет ничего, но ничего тоже нет, – сказал дядя, – есть только то, чего нет, но и то только часть того». Парадоксализм лишает сообщения обязательности, ставя вопрос, ответить на который предоставляется самому читателю: «Обладание мудростью 〈…〉 выглядит теперь постыдным, хотя ещё вчера я счастлив был возможности учить».
Различные формы парадоксальности присущи и стихотворным произведениям Аронзона, являясь симптомом несовместимости законов рассудка с художественным порядком: «я вижу радость, но в том, что мне её не надо», «как счастливо опять спуститься в сад, доселе никогда в котором не был» и др. С парадоксализмом связаны и другие черты литературного стиля Аронзона – намеренные нарушения последовательности литературного «сообщения». Так, изречения дяди совершают непредвиденные скачки, развиваясь скорее ассоциативно, «метафорически», а не вытекая естественно одно из другого. Аналогичным образом сцепляются высказывания персонажей «Прямой речи». В стихотворении «В осенний час внутри простого лета…» первые четыре строки связаны попарной смежной рифмовкой, последняя же, отличаясь от предыдущих интонацией (2 цезуры вместо одной), не имеет пары, как бы повисает, создавая впечатление значащей незавершенности (многоточие является синтаксическим подтверждением последней), неокончательности, которая по-своему присуща и парадоксальному развитию мысли. К предмету разговора можно отнести и употребление Аронзоном оборотов, сходных с оксюморонами. «Как летом хорошо – кругом весна!» – читаем мы в стихотворении «Мадригал».
Отмеченное выше сопряжение не только «далековатых», но, по всей видимости, и взаимоисключающих понятий дополняется противоположным приемом – своеобразным «разломом» тождества. Всевозможные повторы характерны для поэтического стиля Аронзона: «На небе молодые небеса», «улыбнулся улыбкой внутри другой», «посмеющего сметь», «в его костях змеятся змеи», «когда я в трёх озёр осоке лежу я Бога и ничей» и др., – и эта тавтологичность не только усиливает впечатление, но и противопоставляет предметы самим себе (напр., в выражении «я медленно стою» замедленность как атрибут движения противостоит своему пределу – остановке). Наконец, в последний период творчества Аронзона черты парадоксальности проникают и в структуру слов: так, в неологизме «тщастье» отчетливо соединены «счастье» и «тщета», в «киностенарии» – «киносценарий» и «стенания», в «словоточии» «слово» вытеснило первый корень выражения «многоточие». Эвклидово пространство интеллекта оказывается испещрено множеством иррациональных зигзагов; парадокс сигнализирует о конфликте живой человеческой личности с безличными постулатами разума.
Можно заметить, что ряд ключевых для поэзии Леонида Аронзона образов (небеса, боги, растения, насекомые, озера и др.) составляет словарь, который определенно может быть кодифицирован как мифопоэтический, реализующий анимистическое переживание слитности человека с природой («Лежу всему вокруг жена, телом мягким, как ручей»; «Я полна цветов и речек» – «Беседа»). Нередко в стихотворениях упоминаются холмы, вершины. Пребывание на них подымает человека к небу, сигнализируя о контакте со сферой «святых» и «молитвенных» чувств: «Поставленный вершиной на колени, я в пышный снег легко воткнул свечу» («Видение Аронзона»).
В стихотворении «Утро» вершину лесного холма венчают «дитя или ангел», «память о рае», Боге, и поэтому «нас вершина холма заставляет упасть на колени, на вершине холма опускаешься вдруг на колени!» Симптоматична и связь холмов с плодородием, с эротическими переживаниями, позволившая, например, Данае «прелюбодействовать с холмом» («Стихотворение, написанное в ожидании пробуждения») или холму «обливаться изверженьем своего же сладострастья».
В римской мифологии озера почитались зеркалами Дианы (первоначально наделенной функциями божества растительности). В поэзии Аронзона отражение в водоемах (озерах) небес, деревьев, лесов, садов становится одной из наиболее распространенных картин, исполненной глубокой значительности (например, в стихотворениях «Послание в лечебницу», «Всё ломать о слова заострённые манией копья…», «Я и природу разлюбил…» и мн. др.). Продолжая цепочку примеров, нельзя не обратить внимание на предметную сопряженность мотивов природы с мотивами смерти и воскресения. Обилие насекомых (пчел, шмелей, шершней, стрекоз) и цветов в поэтическом мире Аронзона напоминает о пчелах Персефоны, «стрекозах смерти» («вокруг меня сновали шершни, как будто я вчера здесь умер» – «Валаам», I), о цветах, распускающихся в тот момент, когда супруга Аида выходит на поверхность земли, и прячущих свое существование в подземных корнях в дни залетейского пребывания пленительной и страшной богини. Как известно, уже в древних культах плодородия осуществлялось не только искупительное заклание, но и воскрешение божеств или их заместителей. По-видимому, амбивалентностью переживания смерти – воскресения объясняется то, что поэт далеко не всегда стремится к воскресению (см. вычеркнутую строфу стихотворения «И мне случалось видеть блеск…»). Хотя, надо отметить, неприятие воскресения у Аронзона выражено более декларативно, менее поэтически чисто, чем жажда его. Не оттого ли указанная строфа была исключена самим автором?
В сферу творческих переживаний Аронзона входят особо, очень личностно воспринятые отношения с Богом, свидетельством чему может служить стихотворение «И мне случалось видеть блеск…» – поэтический «символ веры» поэта. Поэтому правы те, кто считает его поэзию религиозной. В уже цитированном разговоре с Бродским Аронзон убежденно заявлял: «Только творчество дает нам диалог с Богом», – ставя во главу угла поэтический язык как наиболее пригодное средство для общения с Творцом.
Только творец может понять Творца, ощутить с Ним своего рода солидарность. «Бога я люблю больше всех. Бог во мне! Бог во мне!» – такую запись мы встречаем в записной книжке № 3 (1966). А в другой записной книжке (№ 9, 1968): «За то спасибо, Боже, что мы с Тобой похожи», «Это неизвестно даже мне, Богу». Если человек создан по образу и подобию Творца, то возникает ситуация, когда человек отделяется от Бога, даже в чем-то противостоит Ему (ср. запись Аронзона: «Боксировать с небом (Богом)» – зап. кн. № 9, 1968), и сам характер этого напряженного противостояния необходим для возможно более адекватной реализации внутреннего образа поэта.
Хотя прямого богоборчества в стихах Аронзона мы не встретим, спор с Творцом явно присутствует, как и несогласие с долей, на которую поэт чувствует себя обреченным, одновременно понимая, что в этой обреченности и заключена награда. Кажется, что поэту обременительно ощущение своей личности, от которой невозможно отказаться даже при желании (ср. «Я в себя не верю, а отказаться от себя не могу», зап. кн. № 7, 1968), и столь же явственно для него ощущение бытия совершенного в себе лика Творца. Человек испытует глубину небес («Что явит лот, который брошен в небо?»), переживает свою отъединенность от них и в этой деятельности утверждает себя как творца.
В последний период творчества вместе с упрощением стиля меняется и роль мифологических и религиозных образов поэзии Аронзона. Нет, они не теряют своей значительности, но появляется оттенок легкости, изящества, а то и иронии, где «сакральные» образы становятся более естественными, чуть ли не бытовыми:
Что за чудные пленэры
на тебе, моя Венера!
Как бы ты была мила,
когда б имела два крыла!
В очень светлую погоду
смотрит Троица на воду!
И слабее дыма серого
я лежу. Лежу и верую.
Очень много Аронзон говорил о смерти – в прозе, в стихах, в личных беседах. При этом тон и смысл его высказываний весьма неоднороден, что свидетельствует о сложности отношения автора к данному предмету. В четверостишии «Как сочетать в себе и дьявола и Бога?..» есть строка: «Хотел бы я скончаться раньше срока». Ей оппонирует строка другого стихотворения: «но и скончаться нет во мне желанья» («Погода – дождь. Взираю на свечу…»). А в «Забытом сонете» мы встречаемся с более замысловатой конструкцией: «Когда бы умер я ещё вчера, сегодня был бы счастлив и печален, но не жалел бы, что я жил вначале…» Отношение к смерти принимает иногда вполне будничные и даже иронические формы («Хорошо на смертном ложе: запах роз, других укропов»).
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+23
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе