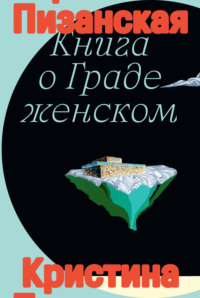Читать книгу: «Книга о Граде Женском», страница 3
Сон о равноправии
Получив от издательства предложение прокомментировать выход «Книги о Граде женском» Кристины Пизанской, я погрузилась в сомнения. Кто я, чтобы делать такую работу? «Комментарий должен давать только медиевист», – потребовал один голос в моей голове. «К тебе обратились, как к феминистке, – сказал мне другой голос, – и ты должна оправдать ожидания общества и написать что-то о феминизме». Я колебалась. «Это предложение было сделано случайно, – откликнулся третий голос, – но тебе следует поговорить о своем времени, а не только о средневековье. Тебе 41 год, ты пишущая женщина в России 2020-х, которая по-своему работает с историей: не пытайся выдавать себя за кого-то другого».
Все голоса были правы, но говорили слишком строго: «следует», «должна»: а я ощутила некий укол вины, словно когда-то хорошо помнила о Граде женском, а потом забыла. В 2007–2017 годах я много выступала в медиа как действующая феминистка. Тогда это слово было довольно скандальным, как и тема гендера – ни в российской науке, ни в современном искусстве, ни в обществе в целом ничего, кроме раздражения, она не вызывала. Можно назвать это колодцем застоя или безвременья: постсоветский феминизм 1990-х стремительно иссякал и был забыт, государственное женское движение рухнуло вслед за другими партийными структурами. Была одна-единственная легальная феминистка, Мария Арбатова, с которой сравнивали каждый новый голос, конечно, не в нашу пользу.
Кристина Пизанская решилась действовать и стала писательницей, потому что осталась без поддержки мужчин. Один за другим умерли ее отец и муж, не стало и покровителя – Карла V, чьей библиотекой она в свое время пользовалась. Феминистки моего поколения и чуть старше, те, кому в 2007-м было 25–35 лет, выступили потому, что в нулевых увидели, что лишены социальной защиты и профессиональных перспектив, то есть поддержки государства, которая была столь прочной для наших матерей и бабушек. Для нас советская власть умерла, но для них ее правила и гарантии по-прежнему оставались единственной знакомой и реальной системой координат. Во многом поэтому старшее поколение не хотело нас слушать и понимать, не замечало проблем, с которыми мы очень зримо столкнулись. Так мы стали неделю за неделей собираться на наших квартирах небольшим кругом женщин разных профессий, с разным опытом, немного разного возраста – 25–35 лет – и обсуждать, кто мы такие, что такое женский опыт и повседневность нулевых, как нас видят работодатели, мужья, родители, власть; как мы видим себя и свое тело, и почему.
Тогда я поняла, что быть мыслящей женщиной и работать над чем-то новым обязательно требует самым твердым образом признать свою невидимость. Рассматривая всякий раз нашу плохую зимнюю обувь в коридоре, я думала, что эти встречи выглядят для соседей скучно и безопасно, как дни рождения тетушек-коллег по работе из какой-нибудь бухгалтерии: дневная встреча, никакой выпивки, музыки и мужчин, каждая приносит сок или печенье. На политический кружок это тем более было не похоже: никакой символики, никаких игр в конспирологию. В субкультуре молодых мужчин-анархистов тех лет было принято вынимать батарейку из телефона во время разговора. Разумеется, нам не требовалось этого делать. Наши беседы ни для кого не представляли интереса, никто бы и не подумал увидеть в обсуждениях алиментов, бездетности, инвалидности, возраста, родов или поликлиник что-то политическое.
Мне дороги эти воспоминания. Работа в группе, (мы назывались «Московская феминистская группа»), год за годом позволила понять, как устроено общество в самом низу, позволила понять, что все мельчайшее и бытовое служит точным зеркалом государственного, и что при любых сомнениях следует проявить пристальное внимание к незначительному. Так мы без спешки проектировали свое будущее, фантазируя, как могли бы обсуждаться и решаться вопросы гендерного насилия и гендерного равенства, идентичности и контроля, заботы и здравоохранения и так далее.
Тогда-то я и узнала о Кристине Пизанской – из небольшой брошюры с предисловием Валентины Успенской, напечатанной в Твери в 2003-м: «Теоретическая реабилитация женщин в произведениях Кристины Пизанской. Пособие к курсу по истории феминизма». Издательство называлось «Феминист Пресс» и, по-моему, выпускало труды Центра женской истории при Тверском государственном университете – еще один остаток феминистских инициатив 90-х. Сейчас память цепляется за английское название, написанное русскими буквами, и саму тему переводной феминистской литературы. Все, что мы тогда читали, было переводным. Или переводили сами, или перепечатывали и сканировали что-то, незаметно увеличивая в сети объем литературы о женской истории и феминизме.
Одной из тем, которые мы часто обсуждали, была тема права на высказывание и его зависимость от гендера в разные периоды. Тогда, в нулевых, опубликовать что-то оригинальное и действительно творческое для женщины моего поколения было крайне трудно. Мы ходили по кругу из 3–4 вариантов: коммерческие издательства (нужно иметь имя и быть в тренде), академические сборники (огромная очередь и фильтр из нормативных требований) или СМИ (тут иногда интересовались, но старались исказить или высмеять наши мнения: в сети сохранился странный телеэфир «Школы Злословия», где я участвую, как гостья-антигероиня). От нас требовали очень высокой квалификации, умения отвечать на все вопросы, но тут же обвиняли в узости интересов, в стремлении к власти, часто – в ненависти к мужчинам. Потому чаще всего жизнь моих коллег-феминисток расщеплялась на две или три части. На работе они были редакторами, менеджерами, преподавательницами, а дома – писательницами и свободными философами, что порой перекрывалось материнскими обязанностями. Сама я работала в НИИ на должности научного сотрудника, но с начала нулевых писала картины, которые за все годы почти никому не показывала: беспредметные вихри или сгустки и иногда – приснившиеся сюжеты. Помню одну из них, которую потом разрезала. Две старые женщины, глядя друг на друга, стоят в пустой коробке с откинутой крышкой на фоне грозового неба, рассеченного молниями: в эту коробку, указывая пальцами, заглядывает любопытная толпа. Другую я написала на большом куске фанеры, найденном на улице. Дряхлая мать, крестьянка времен коллективизации, и ее дочь, испуганная и модная горожанка шестидесятых годов, по ту сторону реальности. Женщина 30-х – мертвая, но наполнена памятью, любовью, страданием; другая живая, но опустошена.
Связать себя и свой опыт с феминистками 1970-х, как советскими (журнал «Мария»!75), так и американскими, нам было не очень сложно. Все тот же XX век, недалекое прошлое, похожий исторический и социальный опыт, пускай с поправками. Работа Кристины Пизанской казалась чем-то куда более далеким или крайне узкоспециальным. Да, мы тоже пытались и решались быть интеллектуалками своего времени, сталкивались с непониманием и давлением, но от текста Кристины нас отделяли три дистанции: классовая (речь, как-никак, о знатной даме), знаточеская («комментарий должен давать только медиевист!») и как ни странно, гендерная: все же вопрос о доступе к образованию и о праве женщины на специалитет казался полностью решенным. Или нет? Наконец, имеем ли мы свободное право скользить внутри истории, встать вровень с фигурами каких угодно эпох? Модернизм нас здорово сковал!
Погружаясь во все эти воспоминания, я сомневалась и сомневалась, но все-таки набросала черновик статьи. Писала я о том, что сегодня героини Кристины Пизанской, три дамы, видятся нам как руководящие, карающие или направляющие голоса наших внутренних личностей. Но так ли уж остро мы, женщины 2025 года, хотели бы видеть себя разумными, спокойными, неуязвимыми? Или в конечном счете все эти качества – общий знаменатель приемлемости, и мы сами воздвигаем для себя прутья социальной клетки, сами прокладываем себе рельсы, чтобы не свернуть в сторону от конвенций, придуманных не нами? Я предлагала читателю подумать: уверены ли мы, что схема Кристины так уж точно транспонируется на наше странное разрушенное пост-пост-советское общество, весь этот капитализм без капитализма, коммунизм без идеологии, когда все самое важное не проговаривается вслух, а просто происходит? Возможно, лучше обсудить то, о чем умолчал средневековый текст и о чем умалчиваем мы сегодня, анализируя сами себя?
Мой черновик был умным и взвешенным, и я оснастила его цитатами и сносками, которые показывали: я читаю современную аналитику, как политическую, так и феминистскую; я слежу не за верхами медийной повестки, а за настоящими событиями философии и искусства; я все делаю на глубине. Я работала всю ночь, проявляя сосредоточенность, трудолюбие и самоотверженность. Оставалось отточить рукопись и сдать ее.
Было два часа дня, и я подумала, что нужно сделать чай, потому что стало клонить в сон. За окном шел густой снег, какого не знает современная Франция, а в XV веке, говорят, у них были холодные зимы. В «Роскошном Часослове герцога Беррийского»76 февральские пейзажи укрыты сугробами, – он создавался как раз через несколько лет после «Книги о Граде женском». Кажется, и Кристина что-то писала по заказу этого герцога, а художники-братья Лимбурги77, авторы миниатюр к часослову, умерли от чумы…
Открыв глаза, я вдруг поняла, что стемнело. Неужели проспала рабочий день? Но нет, кажется, я была не дома. Света не было, но не было и окон. Я сделала шаг, привыкая к темноте. Стояла я в длинном зале с едва различимыми узорами на полу и высокими колоннами, по-видимому, в подземелье. Ну конечно. Я на какой-то станции московского метро, видимо, первой или второй очереди строительства, судя по неровностям мраморного пола. Но почему нет света?
Тут от стен из разных концов зала отделились три фигуры, и мягкий свет ниоткуда материализовался и издали осветил их. Тогда они стали приближаться, но как будто не делали шагов, а неспешно и грозно плыли в воздухе. Я почувствовала страх, но в то же время и некое тепло узнавания. Да, мне казалось, я знаю их, как если бы видела в букваре.
Теперь я видела ясно. Это были скульптуры из потемневшего золотистого металла, но вдруг свет падал иначе, и они казались мраморными. Три грации, три парки, три летчицы-рекордсменки. Шлемы ли были у них на головах?
– Кто вы? – спросила я.
В ответ все трое заговорили, и их металлические голоса текли плавно, потрескивая, как старое радио.
«Не бойся, дитя, – отчетливо и сурово сказали статуи. – Мы явились сюда не причинить тебе вред и неприятности, но утешить тебя, сжалившись над твоим невежеством. Ты пытаешься сделать выбор, который не имеет смысла, ищешь умолчания, которых нет, и сама не знаешь, на что опираться».
«Мое имя – Воительница, – сказала первая. – Взгляни, в моих руках Весы правосудия, и иногда меня зовут дамой Правосудие. Ты видишь мои портреты на этих мозаиках, это я – Парашютистка, я – Партизанка, я – Летчица, я – Блокадница, я – Снайперша, я – Член ЦК, я – Заместитель Министра. Говорят, что теперь нет женщин во власти, но разве сама идея политики сдерживания – не женская? Это я взвешиваю, какая страна будет разделена на части. Это я не даю правителям-мужчинам взорвать атомную бомбу».
«Мое имя – Архитектор, – заговорила вторая статуя. – Взгляни, в моих руках стальная линейка, с помощью которой я проектирую города, отмеряя необходимые метры для каждой ячейки общества. Это я – Здравоохранение, я – Образование, и я – дама Праведность, Учительница и Заслуженный Врач, которую мои враги, принижая, называют Уравниловкой и Бюджетницей. Ты знаешь, что благодаря мне течет по трубам отопление, открываются школы и тюрьмы, и я благожелательна ко всем, но сурова, как и подобает моему статусу хозяйки».
Тогда третья фигура подняла свою правую руку и направила на меня зеркало, которое вспыхнуло, как северное сияние.
«Я Дева Свободы, – сказала она, и мраморный зал наполнился ветром. – Меня называют Музой, Аллегорией и Революцией, а злые языки – Богемой, ибо я ничего не сдерживаю и ничего не охраняю. Однако я единственная действую по своему усмотрению, потому что я само Созидание и Творчество, и все, что я имею – бездонное зеркало моего сознания. Знай, я – дама Разум».
«Ты должна знать одно, – заговорили все трое, и их голоса соединились в симфонию былых времен. – Тебе не обязательно выбирать между нами, потому что мы все – части твоей памяти, но ты не сможешь действовать из одного только благоразумия. Тебе нужно воображение, и только тогда ты перешагнешь исторический порог университетов прошлого века, гендерной и всякой другой теории. Взгляни в это зеркало, и тогда – …»
Но видение рассеялось, и я увидела, что никакого черновика нет. Передо мной лежал чистый лист – и он был засыпан снегом.
Надежда Плунгян, историк искусства, лауреат премии Андрея Белого
Книга первая
I. Здесь начинается Книга о Граде женском. Первая глава повествует о том, каким образом и по какой причине она была создана
По обыкновению своему и, согласно распорядку, который определяет ход моей жизни, а именно неустанные занятия свободными искусствами, я сидела однажды в комнате, окруженная многочисленными книгами, посвященными всевозможным предметам. Пытаясь охватить умом всю тяжесть мысли прочитанных мною авторов, я подняла глаза от книги, решив на время оставить утонченные размышления и предаться отдыху, чтобы развлечься чтением поэтов. Исполненная этим намерением, я оглянулась вокруг себя в поисках какого-нибудь небольшого сочинения, и вот случайно попалась мне под руку одна книга, которую, среди прочих, мне одолжили. Открыв ее, я увидела, что называется она «Жалобы Матеолуса». Это вызвало улыбку на моих устах: хотя я и не читала этой книги, но от многих слышала, что она более прочих книг восхваляет женщин, и посему я решила с ней ознакомиться для своего удовольствия. Однако я не погрузилась в чтение: моя добрая матушка позвала меня к столу, ведь приближалось время ужина. Отложив на время книгу, я решила вскоре к ней вернуться.
На следующий день, вновь вернувшись к своим занятиям, я не забыла о намерении обратиться к книге Матеолуса78. Я приступила и немного прочла, но сюжет книги показался мне весьма неприятным для тех, кто не любит сплетни, и не содействующим ни нравственному назиданию, ни добродетели, а взяв во внимание еще и ее непристойность, я полистала книгу, прочитала конец и быстро перешла к другим занятиям, более возвышенным и полезным. Однако чтение этой книги, хоть и лишенной какого бы то ни было авторитета, породило во мне мысли, потрясшие меня до глубины души. Поэтому я стала размышлять, какие мотивы и причины побуждают такое количество разных мужчин: клириков и представителей других сословий – рассуждать в речах или трактатах о столь многих отвратительных и несправедливых вещах в отношении женщин и их нравов. Ведь дело не в одном или двух клириках. Взять хотя бы этого Матеолуса, чья книга не пользовалась ни малейшим авторитетом и есть ни что иное, как насмешка; но практически ни одному сочинению это не чуждо, почти каждый поэт, философ или оратор, имена которых пришлось бы слишком долго перечислять, будто в один голос твердят и приходят к общему заключению: все женщины склонны ко всякого рода порокам и исполнены всевозможными недостатками.
Глубоко задумавшись обо всем этом, я стала размышлять о себе и своем образе жизни. Рожденная женщиной, я подумала и о других женщинах, которых мне довелось знать: как о принцессах и знатных дамах, так и о женщинах среднего и низкого положения, любезно доверявших мне свои тайные и сокровенные мысли. Я стремилась рассудить по совести и беспристрастно, правда ли то, о чем свидетельствовали столь достойные мужи. Но сколько бы я ни размышляла об этих вещах, сколько бы ни отделяла зерна от плевел, я не могла ни понять, ни допустить справедливости в их суждениях о природе и нравах женщин. Я упорно обвиняла их, вопрошая, как столь многие почтенные мужи, столь прославленные и мудрейшие ученые, столь дальновидные и разбирающиеся во всех материях, могли так возмутительно высказываться о женщинах, да в стольких сочинениях, что нельзя сыскать ни одного нравоучительного текста, кем бы ни был его автор, без главы или фразы, порицающей женщин. Одной этой причины было достаточно, чтобы заставить меня ранее заключить, что все это правда, даже если, по наивности и невежеству, я не могу признать в себе те серьезные недостатки, которыми вероятно располагаю, как и другие женщины. Потому я полагалась в этом вопросе скорее на суждения других, чем на собственные чувства и разумения.
Столь долго и глубоко я была погружена в эти мысли, что иной мог бы подумать, я впала в забвение. И предстало передо мной величайшее множество авторов, которые мелькали в моем сознании один за другим, словно из бьющего источника. Так я пришла к заключению, что, создав женщину, Бог совершил дурной поступок, и подивилась, как почтенный творец согласился исполнить столь ужасное творение, сосуд, что слывет укрытием и пристанищем всех зол и пороков. Во время этих размышлений меня охватила обида и грусть, ведь я презирала себя и весь женский пол, как если бы природа породила чудовище. Так, охваченная сожалениями, я сетовала:
«А! Боже, как может такое случиться? Как же мне поверить, не испытывая сомнений в твоей бесконечной мудрости и совершенной доброте, творивших лишь полностью благое? Не создал ли ты сам женщину намеренно, раз даровал ей все те наклонности, которыми желал ее наделить? Как же могло такое случиться, ведь ты ни в чем не допускаешь изъяна? Вместе с тем, сколько же великих обвинений, даже приговоров, осуждений и заключений выдвинуто против женщин. Не знаю, как постичь это противоречие. Что, если и вправду, Господь, женский пол преисполнен столь чудовищных вещей, о чем свидетельствуют многие, ведь и ты сам говоришь, что свидетельство многих внушает веру, а потому и я не должна сомневаться в его правдивости. Увы! Боже, почему не дал ты мне родиться мужчиной с тем, чтобы все мои наклонности служили тебе наилучшим образом, чтобы ни в чем я не ошибалась и обладала таким же совершенством, которым, как говорят, обладают мужчины? Но, раз уж твоя благосклонность ко мне не зашла столь далеко, прости мне мое нерадение в служении тебе, Господи, и не прогневайся, поскольку слуга, который меньше получает от своего господина, меньшим обязан и в служении ему».
С такими речами долгое время, в печальном раздумье, взывала я к Богу, как та, что отчаялась в безумии от того, что Бог заставил ее появиться на свет в женском теле.
II.
Здесь Кристина повествует о том, как явились ей три дамы, и как стоявшая впереди вразумила ее и утешила в скорби
Охваченная этими скорбными мыслями, я сидела с опущенной словно от стыда головой, вся в слезах, подперев щеку ладонью, облокотившись на ручку кресла, и вдруг увидела, что мне на колени упал луч света, словно взошло солнце. Я сидела в темноте, и свет не мог сюда проникнуть в этот час, поэтому я вздрогнула, будто проснувшись. Подняв голову, чтобы понять, откуда исходит свет, я увидела стоящих передо мной трех увенчанных коронами дам, очень статных. Сияние их ясных ликов озаряло и меня, и все вокруг. Нет нужды спрашивать, удивилась ли я, ведь двери были закрыты, а они вошли. Сомневаясь, не наваждение ли искушает меня, осенила я лоб крестным знамением, преисполненная величайшего страха.
Тогда первая из трех, улыбаясь, взялась меня вразумлять: «Милое дитя, не бойся, мы явились сюда не причинить тебе вред, но утешить тебя. Сжалившись над твоим смятением, мы выведем тебя из невежества, которое настолько ослепляет твой разум, что ты отвергаешь то, что тебе неведомо, и придаешь веру тому, чего не знаешь, не видишь и не понимаешь, только из-за множества чужих предрассудков. Ты напоминаешь безумца, о котором сказано в одной небылице. Заснув на мельнице, он был переодет в женское платье, а проснувшись, поверил тем, кто насмехался над ним, заверяя, что он – женщина, и не верил в свою подлинную природу. Что, милое дитя, стало с твоим здравым смыслом? Неужто позабыла ты, что золото высшего качества проходит испытание в огне печи, не меняется и не лишается своих достоинств, но тем больше очищается, чем больше его куют и обрабатывают разными способами? Не знаешь ли ты, что именно наилучшие вещи больше всего обсуждают и оспаривают? Если ты хочешь постичь высочайшие истины, то есть материи небесные, обрати внимание на величайших философов, которых ты обвиняешь в противостоянии твоему полу: разве они не умеют отличать истину от лжи, разве не упрекают ли друг друга и не спорят? Ты сама видела это в книге „Метафизика“, где Аристотель перечит Платону и другим, и порицает их мнения. Заметь и то, что святой Августин и другие отцы церкви так же порицали в некоторых вопросах даже Аристотеля, несмотря на то что он зовется князем всех философов, которому мы обязаны высочайшими доктринами натурфилософии и морали. Похоже, ты веришь, будто все слова философов являются догматами веры и не могут быть ошибочными.
Что до поэтов, о которых ты говоришь, разве тебе не известно, что они говорили о многих предметах столь образно, что иногда мы понимаем совсем противоположное тому, что они хотят донести? В отношении них применима фигура речи, что зовется антифразис, как если бы ты о чем-то сказал, что оно плохо, а это означало бы, что оно хорошо, или наоборот. Поэтому обрати их речения, где они обвиняют женщин, в свою пользу и понимай их таким образом, каким бы ни было их намерение. Вполне возможно, что и Матеолус это понимал, когда писал свою книгу. В ней много того, что оказалось бы чистой ересью, если воспринимать буквально. Что до хулы, которую произносит не только он, но и другие (речь идет даже о «Романе о Розе», которому верят из-за авторитета его автора), обличая таинство брака, что свято, достойно и установлено Богом, то опыт явно показывает: истина противоположна тому, что они утверждают, обвиняя женщин во всех грехах. Ведь где бы нашелся муж, который согласился бы терпеть над собой такую власть женщины, которая имела бы право такие говорить ему непристойности и оскорбления, какие, по их словам, привыкли говорить женщины? Полагаю, что бы ты ни читала в книгах, вряд ли ты видела это собственными глазами, ведь все это дурно изложенные небылицы. Скажу тебе в заключение, милое дитя: к такому мнению тебя привела наивность. Вернись же теперь к себе, возьмись за ум и не тревожься больше из-за пустяков. Знай же, что все дурное, сказанное о женщинах, в общем, унижает говорящих, а не самих женщин».
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе