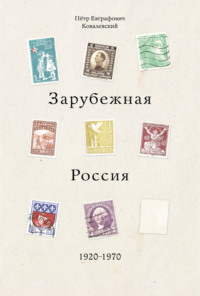Читать книгу: «Зарубежная Россия 1920-1970», страница 3
3. Русское расселение по отдельным странам
Общий обзор русского расселения по всему миру надо начать с Франции, так как в этой стране, и, в частности, в Париже, с 1920 года сосредоточились почти все центральные организации и объединения, распространявшие свою деятельность на многие страны.
Русские во Франции
Исчисление, хотя бы приблизительное, русских, живших во Франции между двумя мировыми войнами, до чрезвычайности затруднено. Тогда как для других стран имеются официальные данные, дающие часто точные до единиц цифры, всё, что касается Франции, изменяется в зависимости от источников, из которых берутся эти цифры. Международный Красный Крест и другие женевские организации, и, в частности, Верховный Комиссариат по русским делам, отмечал совершенно фантастическую цифру в 400 тысяч (документ, опубликованный 23 июля 1929 года и приведённый в официальной таблице, изданной в Женеве в 1931 г.). С другой стороны, французский официальный орган давал для 1931 года (когда было отмечено наибольшее количество русских) 72 тысячи, что было значительно ниже действительного числа, которое надо поместить между ста и ста пятьюдесятью тысячами.
Оставляя в стороне явно преувеличенную женевскую цифру, дадим некоторые подтверждения средней цифре в 100–150 тысяч.
Количество русских во Франции по официальной статистике (Статистик де Франс) очень интересны и показывают, что эта страна издавна была прибежищем выходцев из России или живших здесь временно. В 1851 году (первые данные) их было 9.338, в 1856 г. – 12.164. Потом их число уменьшается и только в 1891 г. достигает 14.357. В начале ХХ века русских во Франции было 16.061, в 1906 г. – 25.605, а в 1911 году их число достигает 35.016.
Для 1921 года официальная статистика даёт только 31.347, для 1926 г. – 67.218, а максимальная цифра в 71.928 приходится на 1931 год. Перед Второй мировой войной количество русских снижается до 64 тысяч.
Разница между теми цифрами, которые даются официальными французскими учреждениями и подсчётами русских представительных органов, происходит оттого, что в первые цифры не включаются ни натурализованные, ни дети русских родителей, ещё не выбравшие подданства, ни очень многочисленные русские, имевшие иностранные паспорта. Например, в Константинополе русским, по распоряжению королевы Вильгельмины, были в большом количестве выданы голландские паспорта. Очень много русских не попали в категорию русских, так как были подданными лимитрофных государств. Точно определить количество русских невозможно. В 1925–30 годах их было между ста и ста двадцатью тысячами, в начале тридцатых годов около ста пятидесяти тысяч, а перед войной опять около ста тысяч. Интересно отметить, что, по официальной статистике, в 1926 году было почти в два раза больше мужчин, чем женщин (43.748 мужчин и 23.470 женщин). Впрочем, в статистическом французском официальном ежегоднике приводятся цифры, более близкие к тем, которые давались русскими организациями. 1931: не натурализованных русских – 82.908, натурализованных – 10.980. 1936: не натурализованных – 77.767, натурализованных – 13.810.
Общее число было, таким образом, по этому источнику 93.888 для 1931 года и 91.577 для 1936 года, не считая русских, имевших иностранные паспорта.
Из двух с половиной миллионов иностранцев, проживавших по Франции между двумя войнами, русские были на последнем месте. Больше всего было итальянцев (897.732), поляков (463.143), испанцев (410.183) и бельгийцев (211.484), но тогда как другие иностранные колонии состояли почти исключительно из рабочих, русская часть принадлежала и высококультурному слою населения, хотя и принуждена была заниматься ручным трудом.
Русские были рассеяны между двумя войнами по всей Франции, но главные сосредоточения были в Париже и его окрестностях, в Лионе и в Ницце. По официальной статистике 1937 года, в Париже проживало 32.915 русских (не натурализованных и не имевших иного подданства), имевших нансеновские паспорта, и 1582 советских гражданина. Во всём департаменте Сены их было в 1937 году (последняя полная статистика) 37.579, в соседнем департаменте Сен и Уаз – 4344, а в департаменте Приморских Альп (Ницца и окрестности) – 4219. О том, что эти цифры приблизительны, свидетельствует положение в Лионе: по официальным данным, там проживало 2669 русских, по сведениям городского управления – 1125, а в Русском эмигрантском лионском комитете их было зарегистрировано свыше пяти тысяч.
Количество натурализованных также не поддаётся точному вычислению, так как многие русские записаны в категории того подданства, которым они обладали в момент натурализации. Было натурализовано по русской категории с 1920 по 1941 год 18.973, кроме того, 9.034 ребёнка заявлены родителями как французы, что составляет 27.714.
Русские в других западноевропейских странах
Согласно официальной статистике 1930 года, русских, проживавших в других западноевропейских странах (не славянских и не лимитрофных) было: в Германии, после отлива беженцев в 1923–25 годах из-за финансового кризиса, около ста тысяч. В Австрии – 2958, в Бельгии – 7000 (цифра преуменьшена), в Англии и её колониях – 4000, в Дании – 300, а в Данциге – 269, в Испании – 500, в Греции – 1659, в Голландии – 300, а в Венгрии – 5045, в Италии – 2500, в Норвегии – 170, в Швеции – 1000, в Швейцарии – 2266, в Турции – 1400.
Славянские государства
Относительно славянских государств надо заметить, что количество русских в них шло на убыль, тогда как в западноевропейских странах увеличивалось. Объясняется это тем, что первоначально эти страны приняли большое количество выехавших во время Одесской, Новороссийской и Крымской эвакуаций, но постепенно эта масса беженцев переехала во Францию и другие страны. В Чехословакии к этому присоединилось другое обстоятельство. Ввиду того, что в чешских высших учебных заведениях учились тысячи русских на государственных стипендиях, страна была только переходным этапом на пути русских зарубежников, которые, по окончании образования, разъезжались по всему миру.
Статистика 1929/30 года даёт следующие цифры: Болгария – 21.330, Югославия – 29.500 Чехословакия – 23.640.
Лимитрофы
Если количество русских, составляющих меньшинства и входивших в Русское Зарубежье, было значительным, о чём было сказано выше, то беженцев, то есть поселившихся в данных странах после революции, было немного: в Эстонии – 16.422, в Финляндии – 14.318, в Латвии – 9.908, в Литве – 5.000, в Польше – 50.000, в Румынии – 7.000.
Внеевропейские страны
Другими крупными центрами, где сосредоточились русские, выехавшие после революции из России, были Дальний Восток (полоса отчуждения Китайско-Восточной железной дороги и китайские города Пекин, Шанхай и Тяньцзинь) и Соединённые Штаты Америки. Определить количество вновь прибывших русских очень трудно, так как они вливались сразу в массу местного русского населения и входили в местную жизнь. Всё же можно исчислить количество русских, осевших в Китае после революции, в несколько десятков тысяч, а в Америке примерно в сто тысяч.
4. Денационализация, ассимиляция и борьба за русский язык
С самого начала русскому рассеянию пришлось столкнуться с вопросом денационализации молодых поколений и со стремлением правительств тех стран, в которых русские поселились, их ассимилировать. С другой стороны, если для подрастающего поколения проблема денационализации представлялась почти неизбежной, то ассимиляция, то есть потеря своего русского облика, русских традиций и русских качеств, казалась опасной – и с ней необходимо было бороться.
Для старших поколений, как вполне уже оформившихся в России, так и для тех, которые выехали уже в сознательном возрасте, вопрос о денационализации почти не вставал. Но для тех, кто продолжал или начинал своё среднее образование вне родины, он был очень острым.
В 1945 году, по указанию французского правительства, Национальный институт демографии произвёл широкую анкету в русской среде для выяснения причин, способствовавших или препятствовавших ассимиляции русских. В числе факторов, которые, по данным анкеты, должны были способствовать ассимиляции русских во Франции, упоминаются: натурализация, смешанные браки, мобилизация молодёжи во французскую армию, вхождение русских во французские профессиональные организации и употребление молодёжью французского языка вместо русского в повседневной жизни. На практике все эти «положительные факты», которые должны были способствовать ассимиляции, не дали тех результатов, которые от них ожидали французы, кроме последнего – французского языка.
В числе отрицательных факторов, мешающих ассимиляции, анкета называет: национальное чувство русских и их убеждение в своей принадлежности к великой нации, русские общества и объединения, приводящие к тому, что русские мало общаются с окружающей средой и живут более или менее замкнутой жизнью, организации молодёжи, как витязи, сокола, скауты и разведчики, которые охраняют молодёжь от полной денационализации, русские школы и пансионы и, наконец, принадлежность большинства русских к религиозным общинам.
В числе препятствий анкета упоминает также многочисленные трудности, которые русские встречали и встречают со стороны властей как в отношении труда, так и применения своих способностей и талантов.
Анкета настаивает на неудаче ассимиляции, тогда как эта последняя не является чем-то положительным. Достаточно вспомнить французское население Канады, которое в течение двух веков хранит свои традиции и язык, но является частью государства и входит во все его интересы.
Необходимо особенно подчеркнуть разницу между денационализацией и ассимиляцией. Первая есть вхождение в новую нацию, принятие её строя и лояльное отношение к стране, гражданами которой становятся прибывшие; вторая стремится к утере новыми гражданами своего национального облика, превращение в людей, похожих на местное население («симилис» – подобный, похожий), так как никогда пришельцы из другой страны, как бы они ни стремились быть подобными местным жителям, не будут признаны таковыми коренным населением. Русские, даже принявшие подданство и прожившие в стране десятки лет, оставались для местного населения чужими или в лучшем случае русскими, а чаще только «грязными иностранцами» (саль этранжэ).
В деле сохранения национального облика и качеств русского человека на чужбине сыграли очень большую, если не решающую, роль русская культура, которая высоко ценилась и ценится во всём мире, и русский язык, за чистоту которого боролись лучшие сыны рассеяния. Со стороны самого русского зарубежья шла неустанная и упорная борьба за сохранение русской культуры, как в русских школах, так и в организациях молодёжи.
Русский язык за рубежом подвергался в прошедшие полвека не только опасности быть заглушённым местными языками, но и внутреннему засорению, вернее, вторжению в него в каждой стране местных обыденных слов. Так образовались франко-русский, немецко-русский или американо-русский жаргоны, но значения их не следует преувеличивать, так как они ограничивались разговорным, а не письменным языком.
Первые, кто подняли знамя борьбы за чистоту русского языка, были писатели И. А. Бунин, Н. А. Тэффи и А. И. Куприн. Потом об этом писал кн. С. М. Волконский, который уже в России до революции читал лекции об «искусстве языка». Никита Майер издавал в Париже журнал в защиту чистоты русского языка, но главная заслуга в его хранении и ограждении принадлежит русским педагогам-подвижникам, которые самоотверженно работали в русских школах, разбросанных по всему зарубежью. Поэтому обзор культурно-просветительной работы зарубежной России – надо начать с начальных школ и средних учебных заведений.
Часть II
Культурно-просветительная работа русского зарубежья
1. Начальные и средние школы
Борьба за просвещение и воспитание молодого поколения, покинувшего родину, началась с первых же дней русского рассеяния. Уже в Константинополе, как русским педагогам, так и общественным деятелям, пришлось столкнуться с трагической проблемой тысяч детей, частью сирот или оказавшихся без родителей и без призора, а частью тех, которые хотя и имели родителей, но не имели возможности ни продолжать своё образование, ни даже получить начатки знания.
В своей книге «Зарубежная Русская Школа», которая, к сожалению, охватывает только самый ранний период истории русского зарубежья до начала 1924 года и касается, главным образом, школ, находившихся в ведении Земгора, В. В. Руднев даёт полную и очень живую картину борьбы за души русских детей в начале рассеяния (Париж, 1924. 278 стр. с многочисленными иллюстрациями). Он считал, что в начале русского рассеяния в материальной и моральной помощи нуждалось двадцать тысяч детей. Отмечая создание в странах рассеяния к 1 января 1924 года 47 русских средних учебных заведений и многочисленных низших школ, В. В. Руднев пишет:
«Совершенно нельзя понять успехов зарубежного школьного дела, если не оценить по заслугам роль русского учителя, самоотверженная деятельность которого, зачастую в самых невероятных жизненных условиях, только и сделала возможным сохранение и даже дальнейшее развитие русской национальной школы в изгнании».
Далее В. В. Руднев отмечает беззаветную преданность русского зарубежного учительства своему делу:
«Учитель получает нищенское содержание, составляющее лишь часть самого низкого беженского прожиточного минимума. Он вынужден зачастую пополнять свой бюджет тяжёлым физическим трудом. В классе он вынужден обходиться без самых необходимых учебных пособий или приготовлять их самому во внеурочное время. Тем не менее и в этих условиях русский учитель не оставляет своего дела, не бросает его даже тогда, когда ему предоставляется возможность переменить своё занятие на более выгодную в материальном отношении профессию».
Слова, сказанные В. В. Рудневым, относятся как к учителям, так и учительницам зарубежья, этим настоящим подвижникам и «будителям» русского национального сознания.

Вадим Викторович Руднев (187?–1940)
Турция
Особое место в русском школьном деле за рубежом родины представляет собою обслуживание детей и подростков в Турции, так как оно было очень ограничено во времени (1920–22) и проходило в исключительно тяжёлых условиях. Из почти двухсоттысячной волны беженцев 1920 года трёх эвакуаций (Новороссийской, Одесской и Крымской), оказавшихся в Константинополе и его окрестностях, к 1924 году осталось меньше десяти тысяч. После 1923 года прекратили свою работу иностранные гуманитарные организации и русские общественные учреждения, но за два года с небольшим была проделана очень большая и плодотворная работа, которая послужила потом примером для других стран рассеяния.
Главная волна беженцев прибыла в Константинополь в ноябре 1920 года и осталась, несмотря на зимнюю погоду, буквально под открытым небом. Первыми жилищами многих русских были сырые землянки, необитаемые и полуразрушенные дома, палатки и даже пещеры на берегах Босфора и Мраморного моря. Дети особенно страдали и подвергались опасности морального одичания и физической гибели. Надо было принимать немедленные меры к спасению тысяч русских «беспризорных». Одним из первых откликнулся на нужду Временный комитет союза городов во главе с П. П. Юреневым и А. В. Жекулиной, начавший свою работу уже в декабре 1920 года. Благодаря ассигновке Земско-городского комитета (Земгора) удалось с февраля 1921 года наладить культурно-просветительное и школьное дело в Константинопольском районе. Пришли на помощь и иностранные благотворительные организации: Международный Красный Крест, Американская организация помощи, Американский Красный Крест, английские благотворительные общества и отдельные американцы, друзья русских: г-жа Бристоль и профессор археолог Уиттимор, который создал потом большое дело помощи русским студентам. Удалось наладить раздачи питания и белья.


Русские эмигранты в Стамбуле
Земгором были созданы три гимназии, три прогимназии, десять начальных школ, два детских дома, десять детских садов, площадок и яслей и шесть детских столовых. Параллельно с Земгором школы и интернаты основывались другими учреждениями: отметим гимназию В. В. Нератовой, гимназию прихода св. Николая Чудотворца в Харбие1, приют-школу Британского благотворительного общества в Буюк Дере, начальную школу баронессы Врангель и католическую интернат-школу, основанную о. Сипягиным.
Начиная с 1922 года школы и приюты стали переводиться в другие страны, главным образом, в Болгарию и в Бельгию, а к 1924 году осталась лишь школа-приют в Эрен-Кей, находившаяся на содержании английского общества «Британский фонд помощи и восстановления», в котором в 1922 году жило триста русских детей.
Следующей по трагизму положения русских, и, в частности, детей, была Греция.
Греция
Если в Турции надо было устроить очень большое количество детей и молодёжи, то в Греции их было значительно меньше. Всего беженцев насчитывалось не больше четырёх тысяч, но, тогда как в Константинополе были сосредоточены многие иностранные благотворительные учреждения, пришедшие на помощь русским, положение последних в Греции оказалось значительно худшим. В самом начале они встретили полное сочувствие и поддержку, но вскоре Греция была наводнена собственными беженцами из Малой Азии, после окончания неудачной войны с Турцией и потери малоазиатских территорий.
Особенно трагично было положение русских, помещённых в Салоникский лагерь, куда попало много больных, раненых и стариков.
Школьное и просветительное дело началось с Афин, где его поддержали как русское посольство, так и митрополит Платон Одесский, собравший в Америке значительные суммы. Была открыта прогимназия. В Салоники прибыли из Крыма 1200 человек, размещённых в госпитальных бараках французской армии. Сперва все получали по 6 франков в день, что едва давало возможность питаться. Потом эта сумма была уменьшена до 2 франков при полной невозможности найти работу. Большинство русских в Салониках было нетрудоспособно, и, из-за малярийной местности, начались поголовные заболевания. Трагизм положения усугублялся ещё тем, что ни одна страна не давала визы на въезд нетрудоспособным – больным, старикам или инвалидам, и они были обречены на постепенное вымирание. Всё же русским организациям удалось вывести часть беженцев в другие страны и, главным образом, в Сербию, и к осени 1923 года в лагере осталось лишь четыреста жителей. Несмотря на очень тяжёлые условия в Салониках, по инициативе родителей и группы педагогов, была учреждена гимназия, деньги для оборудования которые были получены от разрешённого правительством сбора на улицах Салоник и от митрополита Платона (Рождественского).
Славянские страны
Совсем иным было положение русских в славянских странах, где не только правительства, но и родственные славянские народы пошли навстречу русским.
В. В. Руднев в своей книге о Русской Школе отмечает, что в «радушии народных масс, в готовности правительств на жертвы для облегчения участи беженцев есть одна черта, которая делает пережитое русскими в славянских странах особенно знаменательным и в жизни славянства историческим. Чисто идеалистический и исполненный симпатии характер порыва, которым был охвачен весь славянский мир под впечатлением разразившейся над русским народом катастрофы. Этот могучий моральный порыв, особенно ценный в нашу жестокую бездушную эпоху, не может не принести плодов».
Болгария
В Болгарию были перевезены из Константинополя гимназии Земгора, которые положили основание гимназиям Шуменской и Дольне-Ореховской. В Плаковский монастырь были эвакуированы с острова Лемноса кубанские школы, преобразованные потом в сельскохозяйственное училище. Гимназия В. В. Нератовой была переведена в город Пещеру, а военная гимназия из Галлиполи была устроена в городе Горно-Паничерево.
Точного учёта количества русских, прибывших в Болгарию, не было произведено, но предположительно их было 34 тысячи. Так как среди них было много военных, то мужчин считалось 28 тысяч, а детей 2400. Созданная совместными усилиями болгар и русских школьная сеть обслуживала в Болгарии всю массу детей и молодёжи. Первые две гимназии были основаны в 1920 году по частной инициативе. В Варне, где сосредоточилось большое количество русских, средняя школа была учреждена С. Кононовичем, а в Софии – Русско-болгарским комитетом. Земгор, со своей стороны, основал ряд детских садов и начальных школ, во главе которых стал уполномоченный Земгора ген. Александр Владиславович Арцишевский, человек очень энергичный и хороший педагог. Его помощницами по заведыванию детскими домами были Ольга Николаевна Мечникова и Александра Михайловна Милославская (Кононова). Мечникова была, кроме того, приглашена читать лекции для болгарских женщин-педагогов и для устройства их яслей и детских садов. Впоследствии О. Н. Мечникова переехала в Париж и встала во главе приюта «Голодной Пятницы», а А. М. Милославская – во главе детского дома в Марселе. Благодаря поддержке министра народного просвещения Ляпчева, очень ценившего А. В. Арцишевского, русские школы в Софии, Варне и других городах начали получать с осени 1923 года денежную поддержку от правительства.
После падения правительства Стамболийского, враждебно относившегося к русским, новое правительство 14 августа 1923 года приняло на себя содержание тех школ, которые до того были исключительно на иждивении Земгора. Надо также отметить педагогические труды Варвары Павловны Кузьминой, которая стояла во главе субсидируемой французским правительством средней школы.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе