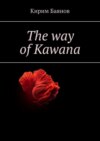Читать книгу: «The way of Kawana», страница 3
Нет. Я этого писать не буду. Выкину, вычеркну, заштрихую где-нибудь по пути домой. Зачем знать, каково тем, у кого нет лимузина?
Что прибавляет вам жизни? Что влечет каждый раз на известную колею?
Может быть, чай? Или кофе?
Что возвращает вас к светлому будущему, быть может не такому осияному и многому перспектив, но, по крайней мере, освобождающему от обыденности серых буден?
Может быть затачивание карандаша или распитие пива за стойкой закусочной. А может, перекладывание и распределение бумажной тяжбы?
Что еще возвращает вас к бодрости, здравому смыслу? Быть может осознание, что, в конце концов, скоро закончится первая половина полудня и будет время выкурить сигарету? Подумать над тем, как улучшить свое финансовое положение и разложить по полочкам в голове весь неприятный роман с Л. Н. Толстым.
Может быть, вы утешитесь тем, что у вас хотя бы отсутствует роман с кокаином?..
А быть может, пина-коллада с рожками из мороженного.
Мне трудно читать ваши мысли. Тем более, когда их так много.
Да и зачем?
Каждый волен сам себе мыслить, что угодно. И лучше всего мыслить себе что-то хорошее. All that I have is what you giving me…
Ну, пусть даже так – мыслить каково тем, кто не возлагает больших надежд, а довольствуются малыми; и каково тем, чьи надежды рушатся, ничтожатся жерновами его величества случая. Но в этом есть что-то другое, и было бы неплохо его увидеть. Другие возможности. Это утешает, так же как хорошие мысли в головах хороших людей.
Мне нет смысла, обращать внимание на то какие у кого головы. Пусть это делают те, кто этому хорошо обучены. А для меня все, кто читает «Гастрономические путешествия», прекрасные головы. Я лицемер. Лгу вам в глаза. Не читайте Набокова и Толстого. Они мне враги. Враги моего кредо. Ведь все, что пишут, должно волновать…
Скверные шутки от скверного настроения. Его не изменить как памятник нынешним дням. А памятник нынешним перипетиям выглядит, наверное, как иголка, – острая и тонкая, которую легко потерять в стогу с сеном.
Ищу свои сумки в вещевом трекере, забывая на время Набокова и Агеева, чуя моих любимых классиков, с которыми не расстаюсь. Их не так уж много.
Отсюда я уеду на авто или чем-то похожем, дымящем и пыхтящем в переполненном автосалоне, пропахшем бензином и старой резиной. Но мне удается сесть на новенький мерседес, совсем просторный и почти что пустой, пахнущий прелыми листьями, захлопнувшейся за дверьми остановки.
Возвращаясь домой, всегда в голову приходят какие-то сторонние мысли. О кровати, о праздновании новогодней ночи, в зимнюю погожую пору, когда снег стоит подтаявшей мокрой коркой и сверху сыплются пушистые завитушки, – как прекрасные заморочки, которыми полны романы странного чудака, ты подбираешь их и радуешься.
Когда ты уже на месте, не в состоянии думать ни о чем, кроме того, что ты наконец-то вернулся. А пока…
Я болтаюсь на сидении то влево, то вправо, низко склонившись в полночных сумерках над листом бумаги, и снова ничего не приходит на ум. Я вычеркиваю, как и обещал ненужные строки, но благодаря этому что-то уходит вместе с ними, – незаметно, случайно, оставляя следы на меркнущей под луной бумаге. Мой рассказ становится все сбивчивей и распорот как наволочка, из которой моросит дождь. Беден и краток путь.
А потому я возвращаю все как есть и уже не помню, когда в последний раз заглядывал в записную книжку.
Города проносятся в мерном танце передо мной, и я забываюсь, приходя в себя за чашкой горячего кофе на остановках в Ялту, дую на руки в холодную предрассветную ночь. Это я пересек океаны времени, чтобы случится здесь…
Довольно странная мысль, то поселилась во мне из бессмертного Брема Стокера.
Девушка напротив меня жмется к парню в остроконечном капюшоне, – худому и высокому, – прячет половину лица в ладонях.
Сходящие на этой станции не расходятся. Лишь оттащив грузные сумки немного дальше от ступенек автобуса, продолжают стоять, обдумывая свои дальнейшие планы. Кто-то срывается с места и уволакивает за собой багаж, кто-то дожидается очередного автобуса. Разговаривают немногие, совсем едва-едва тихо. Шум движущегося со стороны шоссе и станции автотранспорта накрывает нас отголосками эха и гомоном улиц. Почти прояснело небо. Я тоже стою, как другие возле ступеней у открытой двери, и дышу мокрым воздухом во влажной росе.
Оттого что я пересек Атлантику и несколько раз туда и обратно, побывал в Бадель-Бадель, по сути, наплевать этому парню и этой девчушке. Наверно также, как и мне на то, что зеленоглазая стюардесса пересекла по воздуху чуть ли не весь Старый свет.
Откуда мне знать, а вдруг она увлекается экспериментальными видами спорта? Тем более что она зеленоглазая…
У зеленоглазых, знаете ли, особый темперамент и подавляющее их большинство увлекается мужскими видами спорта, особо повышающими адреналин. Нет, я не астролог, просто занимаюсь псевдо-вешанием лапши на уши. Как? Ну не будем никого обижать. И так уже достаточно нахамил Толстому.
Наплевательская погода. И на мою улыбку не отвечает никто, кое-кому наверняка из-под сердца хочется списать ее на трудности путешествий.
Но я не подвел. И никому не дал уснуть этой ночью, рассказывая по пути анекдоты.
Сон ушел, а вместе с ним пришел Мелитополь. Всегда хотел побывать в этом городе. Его роскошный небольшой парк с кленами и выложенным камнями названия с датой города на небольшой площадке, прямо за зданием автостанции пленили меня своей тоскливой степенностью и видом грубого рандеву: отрешенных лавочек, разбросанных то тут, то там, редкими звуками, долетающими с той стороны вокзала. Завлекли обходительностью горожан и подмигивающим светофором на городской террасе.
Мне показалось, будто я попал в свой родной, – город старых лестригонов и отчаянных выпивох. Когда я следовал по парковой дороге вниз к сплошной стене магазинчиков и кофейн, схожесть была лишь поверхностной в обман моего утомленного поездкой внимания, но, впрочем, не оставляло меня удивляться немыслимому сходству дорог и закусочной, которой я соблазнился.
Для меня сейчас было бы в самый раз намешать красный перец с кофе и кока-колой, чтобы вконец протрезветь, но красного перца не оказалось и таблетки аспирина, который можно было бы размешать в алкоголе, тоже.
Я принимаюсь пить кофе. Горячий. Крепкий. Душистый. Словно он из настоящих зерен. Или эти зерна, по крайней мере, хорошей обжарки.
Мои глаза, утомленные бессонной ночью, воспринимают окружающий мир через какую-то мутную преломляющую солнце линзу, и я понимаю, что это просто-напросто замаранное окно.
Вновь вскидываю свой рюкзак и сдаю его уже в камеру хранения. Возвращаюсь в парк. После чего беру билеты и усаживаюсь под одной из ив. Хочу продолжить работу, но ничего не выходит. Только пустое и нетронутое, в котором я зарисовываю скамью с жасмином и несколькими штрихами намечаю кумушки у подножий скамей.
Как шаман вуду я прыгаю и бью в бубен в кругу соседушек, неспешно поедающих солнечный виноград и перебрасывающихся друг с другом улыбками.
Я пересек океаны времен и топи морей, чтобы рассказать вам о безмолвной тихой реке, плывущей вдоль безрадостных берегов, о том, как печальны они под конец нашей жизни, – словно покоящиеся чайки на погребальных камнях, болтающиеся на волнах морской пены и на пятнах израсходованного соляра… Залива, имя которому Балаклава, – в цвету садов и опьяняющих букетах молодого вина, когда мы поднимаем голову и видим в полете птицу, а на утро выпиваем стакан воды и становимся еще хмелее от еще неперебродивших остатков. О том, как похожи страны и полуострова с островами; что здесь в этом краю отдыхали великие люди; что он скоро будет со мной и мои мысли путаются друг в друге, будто в сетях отважных листригонов. О том, что время течет здесь не так как там. А там, не так, как здесь…
Распущенные почки вербы, желтые листья яблонь. Подернутые охрой листья кустарников и винограда, – таким я увижу Крым…
Под конец дня, болтающиеся провода теле- и коммуникационных узлов на заволоченной серой дымкой улице, ближе к вечеру, всегда навевают грусть.
Особую.
Несравненную ни с чем описанным классиками, полную журчащей по трубам теплосети воды и напоенную весенней прохладой, – когда еще ни зима, ни осень; когда все еще тепло и по-летнему тихо. Лишь тонкий еле колышущий ветви ветер скользит по углам домов и теребит листву, – шуршащую и замолкающую в толщи глухого шума, звенящего тишиной телеэкрана, выставленного на нулевой канал.
В такое время сладкий, немного подгнивший инжир воскрешает не только ваши надежды, но и самые приятные воспоминания о том, что было и будет. Ешьте его, а те, кто лежит подобно осенним листьям пусть подымит сейчас, и всегда, порыв ветра, расстелет их новым узором, подобно радужному ковру, в котором есть место небу, солнцу и травам, – повторяющемся изо дня в день, из минуты в минуту, в вечном движении противоположностей, что так притягивают друг друга.
Я выхожу на автовокзале и пересаживаюсь в японскую малолитражку в городах разбитых дорог, присаживаюсь на первое место рядом с водителем и надеюсь, больше никто не подсядет.
Так и есть.
Когда мы почти подъезжаем к выбеленным гаражам перед супермаркетом в тонкой узенькой дорожке часто окутанной сливой и разнотравьем, водитель крякает недовольно и скорбно обращается ко мне:
– Посмотри, что за дорога?
Говорит об автоинспекции и упоминает о своих мыслях, что вместо того, чтобы брать с людей штрафы, лучше бы исправили в нашей стране само название.
Я отвечаю, что это же страна такая, какой она есть и молчу.
Я почти дома.
И где-то тут, там… меня ждет хайвэй-Дженни, которую я творю сам в этой мешанине из лоскутков былых фантазии, бессеребряной красоты и бессмертных классиков.
Последняя сигарета. Последняя… Как смерть…
Все время последняя, говорит в моем сердце Гребенщиков и Мэрилин Монро…
А потом я, трезвея, задаюсь последним вопросом, который не хочу говорить про себя и вслух. Быть может, этот город, в котором я не был так долго уже потерян, давно потерян для меня…
Вполне…
Иллюзия, навеянная дорогой.
Так много нужно сказать, но почти все не к месту.
И я вычеркиваю это из моего блокнота. Вы думаете, это лишнее? Кому-то придется по вкусу. Возможно… Вполне…
Я уже здесь. Выхожу. Это моя остановка, а вам думаю дальше…
Пусть вас везет Дженни…
Через пустынные автострады и парковые аллеи, по дороге мимолетных иллюзий, наполненных жизнью ваших грез и желаний, – осуществимых и неосуществленных, – мимо автостоянок и магазинов. Банок из жести, катающихся по тротуарам и застывших в янтаре фонарных огней, под скамейками и возле мусорных баков. Мимо деревцев, уснувших с птицами, срывающихся с веток и хлопающих крыльями при первом же звуке двигателя, мимо кладбищ и одиноких пустых тоннелей, наполненных бликами трассирующих огней над головой и в спицах, проносящихся за вашей спиной, мелькающих далеко впереди.
А вы держитесь за спину. Не смейте говорить куда ехать. Вы всего лишь попутчик, и рискуете им остаться, если будете нетерпеливы.
Пусть дует в лицо вам ветер, облизывает щеки и плечи.
Пусть кажется, что это беспросветный тоннель, безостановочная погоня наперегонки с жизнью увлекает вас в никуда и вы знаете, что начинали путь неоткуда…
Но так и есть.
Это дорога.
Пусть она кажется вам чем-то большим, потому что так будет…
И я услышу также отчетливо, как вы, рокот двигателя, шорох шин, стелющихся по мостовым и шоссе, припомню, что важно знать, что любовь, это не только дорога или трасса с двусторонним движением. Это дорога, в которой вы меняетесь, а за рулем, каждый из вас, следуя своими путями…
Пусть города проносятся мимо. Но что-то остается. Что-то неуловимое, – скользящее и мимолетное, соскальзывающее в пустоту летней ночи, тишину и механический шум мотора.
Притормаживайте на поворотах.
Глядите на распускающиеся ветви саги. Иначе вас одолеет то, что одолевает каждого, кто пробовал на вкус ночи в Арле. В привычно-безразличное небо добавлены краски индиго, и все, что творится там внизу, станет для вас пустою гаванью, в которую так дурно и не с руки возвращаться.
Пусть Дженни везет вас, а я выхожу. Это мой дом. Я здесь живу.
These… few words of Truth
Славный день или славная ночь. В них так хочется раствориться и только привычное тиканье часов, безмолвно двигающих стрелки, медленно вплетаясь в сладкую полутьму эркера, дают о себе знать. Я думаю о прекрасной незнакомке, повстречавшейся мне в сети и блеск привычного бордо прибавляет в бокале. Я думаю о ней все чаще. За эту ночь я вспомнил ее почти десять раз и что-то случилось со мной. Что-то ускользает.
Как пристыла красота, которой не замечаешь. Шапки деревьев за окном в цвету и росе от тумана. Я не замечаю их, думая о ней. О том, что не отказался бы от пары слов за чашечкой кофе хотя бы приблизительно криво-косо на общем, о фугу, марципане, хотами и ее родном брате, бывшем реноме из Сун Хунг Кай или КНУК, Гайтаме или бодзюцу, ее родном доме, и о том, как сейчас там. Пуэре, и что говорила ее экономка о дзайбацу в Чжоу, готовила мама на рождество, и как она справлялась по дому, будучи занята в Anker Чанша. Что делает теперь, после выпуска из университета, и отчего так многострадален быт. Что она планировала на уикэнд и Боду, когда на нее свалилась куча проблем, инвестиций в будущее, если они есть, каждодневная суета. И в этот славный момент, когда у нее выдалась приятная минутка уйти в законный отпуск, мне было бы интересно, что она делает в такой дыре, как та, из которой давно никто не выезжал, чтобы никогда в нее не возвращаться.
Что она здесь делает? В этом маленьком провинциальном городке.
Возможно, она искательница странных развлечений, в своей форме более чем достойных перверсий, а быть может в ней скрыта душа авантюриста. И каждый раз, сидя в Sun Hung Kai Вачай за столом маленького офиса, она за своим маленьким Huawei Colorful или Colorfly, уже дома, жаждала всегда перемен.
Есть ли у нее все еще желание отведать омлет по-французски с рук русской кухни? Если да, то пусть в эту ночь, как будто в Хакаме или Чанша: на восточном побережье идет дождь и плавают пластиковые стаканчики возле плавучей прачечной, перед джонками на причале горят огни больших городов. Люди и технополис, струящаяся автомобилями развязка и хайвэй празднуют победу над крохотным существованием, суетясь и вия объятия. В улочках захламленных дворов плавают желтые огни флу и неона; в колодцах и узлах водостоков, в развилках шоссе, на перекрестках и круговой, в танце больших перемен, медленно утопает в тумане город. В неслышно спустившейся ночи, она, как дома, бросает ключи на маркетри перед входной дверью, сбрасывает пальто. И плывет на кухню, – в строгом воротничке, набрасывая по пути кардиган. Он куплен по цене два за одно. Готовит себе кофе, поправляя манжету, выправляет воротничок изуверской компашки, в которой проводит большую часть своей жизни, не имея возможности оплатить вовремя счета и хоть как-то улыбнуться радио Хунань, болтающего о всякой всячине, как обычно, как всегда проводя ночь в одиночестве под аккомпанементы колонок Toshiba или хитати сэйсакусё: глядя на хрупко подрагивающие светодиодами Сэйко, которое она купила на барахолке в базарном ритме бешено агонизирующего сидё, под звуки джаза и ритмы станции «саппоро на сегодняшний день стоит всего лишь десять тысяч», вспоминая о днях веселья на дни рождений и праздник мая, считая недостающие двадцать сен из отложенных в качестве подарка коллеге по работе, – помнит, что здесь виски стоит всего лишь девять, (особенно под маркой Саппоро), в местной пивнушке местного разлива не добавляют пива к воде, и у меня все так же весело, как у нее.
Ей некуда спешить и сдаваться в аренду вечно терзающей ее дзайбацу несколько раз на день. Негде упасть в сети безумной ночи и ритма авто, пользующего ее саму, чеки и счета, выставленные за отсрочку, – распрощаться с совестью, выдержкой и самообладанием, цейтнотом и ворохом головокружительных пустяков. Чашечка кофе, которую она пьет, – не прикрыв ладошкой рот – не призыв к исполнению четко указанных церемоний, не долг перед традициями или формальностью, а пустая разбавленная мной фантазия. Здесь нет зубоскальной компании, каждую секунду норовящей отгрызть от нее пару фибр и пожевать в исступлении воротничок. Отколоть номер с ее жетоном или отжать пару йен в ритме «Follow me» Kretzmer & Shaper. Нет вечной тоски. А если и есть, то только такая, как сейчас, в River of Cristal, где каждое ее неохотно исполняемое желание, проявляющих интерес к их пациентам забегаловки на Набережной, есть нечто интеллигибельное и посредственное в сводке набежавших купюр. И даже без них, официанты здесь не краше, чем в Чанша.
Пора забыть о работе. Омлете, что рождает собой долг культурных традиций перед толпой, и наслаждаться этой чашкой кофе наконец так, как будто в робком танце больших городов настала последняя ночь. Под сетью вязкого флуоресцента и ночных алле, лотков, затишье колодцев под оптоволоконной проводкой пахнет безконечной тишиной. Светит луна. И она заглядывает в окно, в чашку, под спуд чая, на дне которой сверкает бутон хризантем. Суп поспел сам, его не надо готовить, из омлета не надо выбирать кориандр и тмин. Ее набережная ничуть не отличается от моей, а в банке с вареньем тоже есть ежевика. Она хороша с молоком. И пусть в этот день она попробует этот коктейль.
Пауки? Что ж. в банках с вареньем они мечтают пожевать не только мух, но и чей-то проездной на самый ранний поезд. Под день всех святых и час вербного воскресенья здесь так же медленно распускаются почки. Из тебя пьют соки, готовят рагу и подают омлет. Но сегодня вечером, все эти блюда в меню растроганных пауков.
В прачечной тебя ждет печальная бабка с бельем, а в кассе приема платежей ее обложат матом из удовольствия послушать ответ.
В этом мире нет виски Arran. Каждый, кто в нем живет – искатель ночных мудырь, памир и разбавленных силуэтов, уютного тепла и холодных Ксу-ксу. Нельзя покидать свой дом после полуночи; а там в реке незабвенных эвфем, всё так же течет избитое кредо времен: «Память – единственное, что остается. Только она, достойна сожалений, за ее отсутствием. Только там есть место кафешке, людной прачечной и обычной хандре по усталой рутине за рюмкой Карт Блё и Карт Рэд в тридцати миллилитрах Велюр. Нуар – это не жанр, а песнь убитого консерватизма. Усталого от жизни и конфетти лояльной прагматики. Скупого эссе. И чая в кино». Его нужно смотреть, когда нет настроения читать провокации за пять сотен йен, промоакции за двести, и ставить крестики на клеточках немых диагоналей, griddler, сумма сбоку и крестики-нолики по-изуверски. В этой забегаловке нет ничего особого, как нет в той, что на реке в Хунань. В ней нет эстетики Нуар и пригодной для этого культуры, нет восхищения хулиганскими вылазками в область археологии и убитой мостовой с колотящим об асфальт баночкой из-под пепси-колы на углу супермаркета полупьяного хипстера, рисующего ими на Хюндай своего соседа кружки от Мерседес Бэнц. В этом нет ничего необычного.
Это их имена пишут в запыленном стекле: «Сука», «Тварь», «Ответишь мне». И «Ты, просто недоносок, падла!».
Что это такое, эти русские слова?
Местный жаргон.
Не требуется перевода. Различные варианты вполне допустимы. Не всегда обозначают одно и то же.
Что и говорить, ты всегда делаешь чай с хризантемами и кардамоном. Эта девушка на фото – не ты, а кто-то другой. Она так счастлива, что кажется будто сошла с небес в розовых Кензо. Она не замечает пауков и банок с помидорами, не терпит лести и лжи. Она не ты… Ты повзрослела. Так мало осталось от клубничного суфле и молока с ежевикой… Ты берешь еще ложечку кахета, и она тянется за ней, словно сироп. Славное суфле.
Не уверен, что взаимность располагает к общению, потому что в ней мало осталось от Хуавэй. Это век техногена. Мы все разговариваем с завитушками под абсент. Не внешняя красота, красит человека. Но и не внутреннее тепло. Не тепло, там, где холодно. Холодно там, где все время снег. Красит любого человека комплекс. Если он большой, то в замок входить всегда приятней, чем в замызганный коридор. Его сложно отличить от карикатурных, но еще сложнее найти. Легкий характер, и малые дозы цинизма.
Нет никаких иллюзий в моем желании скачать картинки из различных частей света мадам самого преклонного и не совсем, пенсионного возраста. Они развлекаются скриншотами и перепиской за чашкой валокардола с гуакомоле и канапе под скрипучий вальс. Это ли то, что мне нужно? Удивляюсь тем, кому – да…
Пока. После того – наступит расплата.
Мило если это удовольствие во благо, безобидно и собирает огромную толпу желающих погллазеть, тех, кто трезв и кому уже далеко за пятьдесят.
Сколько печали было из сиюминутной слабости. И не говори, прекрасная незнакомка из Сайтама или Сун Хунг Кай. Славно, что все, что нужно, чтобы этой ночью светила луна довольней и красно – всего лишь молоко и две чашки кофе, ежевика и суфле под кахета. Нет особой важности в проблемах, упоминать о них еще дурнее. Их было много, и они навалились скопом. Но я выдержал. Так же, как и ты.
Луна сегодня особенно хороша. В ней видно сквозь тлен заволокших ее облаков, сумрак толстых туч. Они плывут на восток, пряча ее за собой, как густой деготь, – медленно заливая в стакан цикорий на белой фарфор. Гало прячется за ними, и дождь, хоть и мелкий, сладок, словно дикий мед.
В такую ночь задумываешься о том, что может быть, ты что-то упустила, что может случиться, призрачно и эфемерно. В чем смешалось вмешательство невероятного и смысл привычного, – в мире простых людей, где привычное неотличимо от призрачного. Печаль… Ты думаешь так же, как я. Это недурно, но хотелось бы холодных капель на распаренной коже.
В этом мире простых людей, где мечты выдаются за явь, свет льётся не так резво, как здесь, в твоей чашке, за окном, в море оставленных под окном авто и позабытых забот. Во дворике тихо падает тишина, спотыкаясь о бесконечное молчание. Ночной колодец в коробках серых домов, в глуши полнота беззвездной ночи и безмолвный колодец. Бочка двора переполнена сном. А за кустами слив и сирени прячется, все еще не уступающий апрелю март. В Окаяме идут дожди и моросит туман. Я думаю, что он там для приятной хандры и случайно слабости. Для души, когда пусто, жарко и душно внутри. Но меня осаживает вдруг незатейливая фантазия, падающие ключи на битум асфальта, и я дую на кофе. Ты тоже? В самом деле? В нем плавают точки над i, и немыслимое удивление падающих на голову мишурой заморочек, – в кружеве из обид и старых, как мир идей, что им правят цифры математических эмблем. Знаки души под запретом законов бездушных этей. Шаркающие шаги в свете укромного уголка, пересекающие припарковую зону у парковки. Одинокий прохожий. Мы все идем разной дорогой, в разных направлениях, каждый со своим багажом, но рано или поздно они приводят к одной: куда уходят те, кому незачем куда-то идти; куда уходить, если нет надобности идти? За целью которой, стоит только конец пути – белый шум болтающего без умолку радио Кавасаки в белом наряде из приукрашенных конфетти, обертках для послезавтра, вчерашней погоде, торгах и пустой Чаньши, где струится недопитое карт Велюр с арабикой. В рутине быстрой реки, что все время стремится в пустое, зыбкое море интриг, стараясь развеять нашу слабость, к Большему, чем просто закономерность в лабиринте – факир, который плавает в спирте MacPheil. Ошибок, задач и веры в ответ. Математической точности. И холодной логики, приумножающей лишь себя саму в себе. Мудрость, печаль, ветер и горсть надежд. Грязный хлеб на столе. Открытое васаби. В планах у осени квартиры внаем и закрытая дверь. Things, that bites…
Математическая точность лжи, что каждый раз выходит за рамки дозволенного, повторяя одну и ту же прозу жизни: если тебе не по нраву грязный хлеб на столе, тебе с ним жить.
Что-то меняется… Но что?
Что-то происходит… Но где?
Что-то в этом чай и чашках кофе с молоком… Ежевика? Она хороша только к молоку. Запомнила?
Я складываю свою зажигалку.
Что-то далеко. В перерывах на обед, забытых мечтах и фатальных суфле на столе немытый кофейнь. Что еще придумает эта жизнь? Фатальное кофе в перерывах на ланч под тортю избитых надежд?
Что-то уходит. Но куда? Пропадает в мишуре мелькающих мимо тебя этей, мыслей и призраков табачных огней, спуде безнадежных дней. Ставших тенями людей? Огней ночных авто в перестуке колес по мостовой, в метро. В юрких ручейках реки, что творит из нечистот, краски жизни, – увлекаясь игрой в маджонг, несет свои воды в праздничной канве присутствующих из нужды вещей. Все уходит, плывет, течет, как песок сквозь пальцы на оставленном тобой в тишине дайкири на безлюдном пляже. И вечер там – будто вечер в крем-брюле. Но в пустой тишине, где главное блюдо ты. В этой вечной тишине снующих людей, мелькающих авто и череде рутин. За чертой города… Подать рукой. Открывается ночная заводь, места утех, закрываются лотки и лавки. Прячутся под тряпки торгаши и лоточники, под замки ходульной избы – мелкая персть судьбы. Хочется плюнуть, но слюна засыхает во рту.
Что-то меняется. Но где?
Что-то уходит, плывет, течет, но куда?
Что-то происходит, но когда? Что-то проходит, остывает, струится, как вода, но зачем?
Что-то перестает быть таким, каким было раньше, – маленькая мадмуазель из Сайтама пользуется вещами больших людей. Но вешать свои победы и обналиченные чеки от бинарных торгов куда? Что теперь делать с дайкири на пляже и куда пойти выпить кофе, чтобы найти пустой бюллетень от прошлогодних выборов? Где? Что сказать? Потому что теперь надо сказать очень многое. Многое не сказанное – томится на душе.
Куда подевалась твоя забытая всеми грация, и где ее теперь искать. Откуда приходит эта скука отчаянного кофе со сливками и куда уходит звездное небо под болонже. Где этот пляж, на котором продают билеты в большое приключение в парк на горе и куда подевался хипстер, который торгует пластиковыми карточками в кредитном отделе под предлогом обресть райскую жизнь.
Куда направляют билеты в авиакассах бессрочных со спичками в кармане, помятых стикеров? Откуда приходит ветер надежд? Он дует так неловко и неуклюже. Поневоле становишься творцом мрачной эстетики. Нуар – не жанр фантастики или безумной, распухшей от инфантильности, пускающей слюни фантазии.
Это проза безнадобности. В ней пустует самое главное, что осталось от пляжа с пахлавой и стикерами авиабилетов в кармане, жизнь лучшую, мелькающих, снующих, текущих и сигналящих авто, призраков, ставших абсолютно незнакомыми тебе людей, лучше скелетов ракушек на безлюдном пляже и мостовой с кружочками от Мерседес Бэнц. Где Moby «Guitar, flute and strings», Linking Park и «My December» помнит «Kite»…
Хочется плакать – почему бы и нет. Только не от чего. Вас никто не услышит. Даже больше – не смотрит в окошко с луной. Поздняя чашка кофе, – как смытый налет Кензо.
Хочется кричать – кричите. Из всех пускающих слюни, бесстыжих, распухших и бредовых фантазии, эта… самая инфантильная. В нет строгих правил и белых воротничков. Отходит ко всем чертям новый вечер. Тускнеет небо над песочным крем-брюле в ракушках олигоцен и морских коньков, застывает в капельках янтаря, облепляя трупики мух и москитов. Курится дым Hem из Мумбай. Ароматы загадочной Индии. В курильницах блуждает забытый, всеми принюхавшийся аромат. Слон на подставке из полистоун блестит слюдой в маслянистых свечах. Что-то в сумерках, падающих в свете полукруглой, трезвой как звон манат, луне. Ты не находишь?
Что-нибудь корсиканское…
Может быть ром?
Что-нибудь сладкое. Из забытых снов…
Что-нибудь необычное – тысяча и одна ночь.
Что-нибудь для души… Всего понемногу. Всего одна ночь под бужуле с карпом и отжившими призраками надежд. Всего-навсего для тебя и для меня. Там, прячутся маленькие вещи больших людей.
These… few words of Truth.
Холодный ветер. Дымлю понемногу. Чашечка кофе и молоко с ежевикой. Запомнила? Хорошо.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе