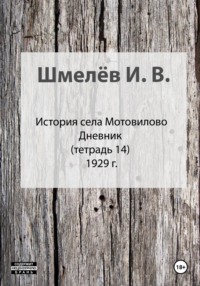Читать книгу: «История села Мотовилово. Тетрадь 14», страница 5
Центр – руководство. Сталин о коллективизации
А там, в Москве, в белокаменной нашей матушке–столице, после смерти вождя Ленина, велась, очевидно, жестокая борьба за власть в нашей России. После смерти Ленина, в 1924 году, государственная власть перешла в руки Совета народных комиссаров, во главе которого стоял Рыков Алексей Иванович. Но руководство столь обширной страной не было единоличным. Российское государство стало управляться коллегиально: Калинин Михаил Иванович – всероссийский староста; Бухарин Николай Иванович, Зиновьев Г.Е., Каменев Л.Б. и Троцкий Л.Д. (Бронштейн) Лев Давидович, – занимая в государственном аппарате видные посты, участвовали в деле руководства страной. Руководство государством шло гладко и спокойно, за исключением угроз извне, в частности со стороны английского премьер-министра лорда Чемберлена и конфликта на КВЖД. Откуда-то взявшемуся, а, видимо, всего скорее появившемуся из недр Закавказья и авантюристически пробравшемуся в центральный орган партии, грузину по национальности Джугашвили – Сталину Иосифу Виссарионовичу, видимо, не нравилось это коллегиальное руководство страной Советов, и он задался целью и всячески стал стараться, как бы пробраться к прямому руководству всей партией всем государством и всем народом. Самым ненавистным идейным противником у Сталина оказался Троцкий, которого он, Сталин, задался целью отстранить от руководства и физически уничтожить. А ведь Троцкий, как соратник Ленина и вместе с ним свершили революцию, и он, Троцкий, в гражданскую войну, возглавляя молодую, только что создавшую советскую красную армию, пользовался большим авторитетом, как среди Красноармейцев, так и среди всего народа. В народе, в первые годы установления советской власти только и было на устах: «Ленин, Троцкий!». Троцкий, обладая большим ораторским искусством, никогда во время произношения речей не пользовавшись «бумажками», завлекал и покорял слушателей, и остриём своего слова разил противников Советской власти в России, которые ратовали за возвращение к старым порядкам. Своим противникам, которые возглавляли контрреволюцию, он со всей смелостью словесно бросал в глаза: «Если нас насильно заставят уйти, то мы громко хлопнем дверью!» – подразумевая под словом «громко» без сопротивления не сдадимся и жестоко расправимся с контрреволюцией! При жизни Ленина (он возглавлял совет народных комиссаров) при подборе человека на пост Генсека партии (РКП), он не доверял личности Сталина, считая его очень грубым и авантюристическим. Ленин предупреждал своих соратников: «Если Сталина допустить до руководства, то этот повар будет готовить только острые блюда!» – так образно выражался Ленин. В те времена (после смерти Ленина) в общественных местах: в государственных учреждениях, клубах и в прочих местах, можно было видеть портрет, на котором изображён Ленин, сидящий рядом со Сталиным, но это (как оказалось, по слухам) есть ничто иное, как искусственный фотомонтаж, сделанный каким-то фотографом по указанию самого генсека партии Сталина. Самым решающим моментом в деле поднятия авторитета Сталина в РКП, пожалуй, явился его доклад по национальному вопросу, с которым он выступил на одном из съездов партии. После этого доклада партийцы не русской национальности, ещё более воспряли духом, и всемерно поддерживая Сталина, вознесли его авторитет. Русским же лидерам в партии пришлось несколько приутихнуть, и Сталин, чувствуя, что его замыслы претворяются в жизнь практически, всячески стал наступать на своих идейных противников, особенно на Троцкого, которого он физически не переносил, чувствуя в нём своего смертельного врага. Сталин стал применять свою, присущую грузину, коварную и хитрую тактику, он искусно поссорил меж собой всех своих идейных противников: Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Рыкова, Каменьева-Пятакова. Общую атаку направив, конечно на Троцкого, назвав идею Троцкого неприемлемой для партии, и как бы порочной для народа, – «троцкизмом!»
Троцкий, Зиновьев, Бухарин и Рыков выступали за то, чтобы в России была полная свобода частной собственности: торговли и всемерного развития мелкой промышленности и единоличного сельского хозяйства на селе в лице крепкого мужика-труженика. Они настаивали на том, чтобы крестьянам на основе «смычки» с городом оказывать всякую помощь от государства и давать кредиты для приобретения сельхоз-машин и прочих орудий, необходимых для поддела производства товарного зерна в стране. Сталин же выступал против всего этого, он предложил партии свой план индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, на основе Ленинского лозунга: «Мелким сельским хозяйством из нужды не выйти!» Партия как бы раскололась на два лагеря: за Сталиным пошло большинство, но и Троцкий остался не в одиночестве, его поддерживали многие члены партии и такая крупная делегация, как Ленинградская, выступила против ЦК партии, которой, конечно, уже возглавлял Сталин. В партии открылась ожесточённая борьба. Троцкий, возглавляя организованную им «платформу 83-х» стал открыто противиться Сталинским планам. Летом 1927 года в Ленинградском партийном клубе взорвалась бомба, неизвестно кем подложенная: или троцкистами, или же сторонниками Сталина. Всего скорее – последними, так как Ленинградская партийная организация у Сталина сидела на носу! В декабре 1927 года, на XV съезде партии Сталин вплотную поставил вопрос об индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. Он говорил: «Успех мелкой промышленности в условиях НЭПа и отставание сельского хозяйства, особенно производства товарного зерна (в котором ощущает острую недостачу, растущая армия и город) в условиях мелкого раздробленного сельского хозяйства (из-за разделов семей и частных переделов пахотной земли, из-за чего земля кроилась на узкие полосы), не имея средств вести правильную обработку земли, соблюдать севообороты, бороться с покрывающими всё поле межами и сорняками и применять удобрения. Либо мелкое хозяйство, либо колхозы. На базе тракторов ломая межи!» – прямо поставил вопрос перед делегатами съезда Сталин. «Если мы будем сидеть по-старому в мелких хозяйствах, хотя и вольными гражданами, на вольной земле нам всё равно грозит неминуемая гибель, которая изойдёт из-за границы нашего Советского государства!» – напоминал он. После разгоревшихся жарких дискуссий, с противниками коллективизации, съезд принял постановление (о первой пятилетке) – взять курс на коллективизацию сельского хозяйства, взять курс на укрепление просталинских командных высот во всех отраслях народного хозяйства, курс на ликвидацию капиталистических элементов, как в городе, так и в деревне. Сталин торжествовал, Троцкий потерпел фиаско!
Но, не мирясь с существованием Троцкого, всегда преследуя его, как смертельного врага, и не перенося вообще «троцкизма», Сталин предложил на съезде исключить из партии Троцкого, Зиновьева, Пятакова, Радека и Преображенского, которые примыкали к «троцкизму» и выступали за его идеи. Но Сталин не ограничился исключением Троцкого из партии, он в 1929 году вынудил его покинуть свою страну Россию, выселил его заграницу. Троцкий, покинув родину, поселился в Мексике. Но и вдали Троцкий не давал Сталину идейного спокойствия. Он жаждал его физического уничтожения. (Летом 1940 года, находясь в огороде своего дома, Троцкий был убит ударом кирки по голове подосланным агентом.)
Расправившись с «троцкизмом» идейно, «троцкизм» как таковой не исчез, он перерос в «левый» троцкистско-зиновьевский блок. Вдохновители этого блока на словах были за колхозы, а на деле рассчитывали на культурных арендаторов земельных угодий. Их партия окрестила, как «двурушники». В отличие «левых», «правая» оппозиция во главе Бухарина и Рыкова выступала с агитацией, что с колхозами ничего не выйдет. Не надо трогать кулака, «он сам врастёт в социализм», что капитализм в нашей стране не предоставляет никакой опасности для постройки социализма. В связи с этим, чувствуя поддержку в верхах, кулачество на селе воспряло духом. Они говорили: «Мы не беззащитны, имеем опору и помощь среди верхушки в лице Троцкого, Зиновьева, Бухарина, Рыкова, Каменьева, Пятакова, хотя они и исключены из партии. Воодушевлённое такой поддержкой кулачество стало сопротивляться налоговой политике «генеральной» линии в деревне. Во время хлебозаготовок в некоторых местах России наблюдался саботаж и отказ в продаже хлеба государству. Партия бросила лозунг: «Опираясь на бедняка, в союзе с середняком решительно бороться с кулачеством». Кулаков и торговцев лишили избирательных прав, лишили «права голоса» и в случаях невыполнения твёрдых заданий по хлебозаготовке стали насильно отбирать «излишки» хлеба, как у кулаков, а также (дошла очередь) и у зажиточных крестьян.
Ввиду того, что 25% зерна от заготовок шло бедноте, бедняки всячески «обнаруживали» хлебные запасы у зажиточных мужиков, доносили об этом местным властям и помогали этот хлеб конфисковать. Конечно, дело не обходилось без затаённой ранее злобы, зависти, мщении, вплоть до прямого предательства соседей, родственников, односельчан. Хотя к концу 1928 года в государстве и были уже накоплены достаточные резервы хлеба, которые были созданы на основе развивающихся передовых хозяйств села, но партия от коллективизации не отказалась, а, наоборот, во все концы советского союза из Центра полетели директивы о быстрейшем развёртывании колхозного строительства. В директиве указывалось, что не в порядке насилия и нажима, а в порядке показа жизни в уже созданных колхозах и великой силы добровольности и убеждения «заставить» крестьянина-середняка пойти в колхоз. В сёлах и деревнях организовывали делегации крестьян для поездки и показа жизни колхозников в сёла, где уже были созданы колхозы. Радио, газеты и журналы всячески разглагольствовали о выгодности колхозов, о хорошей жизни в них, восхваляя их, всячески агитировали и заманивали в колхоз. На лицевой странице (выходившего в то время) журнала «Лапоть» был помещён рисунок, на котором изображён самый народный мужик, всероссийский староста Михаил Иванович Калинин. Он изображён едущим за рулём трактора «Фардзон» с довольно улыбающимся лицом. Под рисунком весьма агитирующая надпись гласила: «Я вступил в колхоз, кто следующий?» Из городов с заводов и фабрик было послано в деревню для организации колхозов 25000 работников, которые получили название «Двадцатипятитысячников». Они-то и возглавили колхозное строительство на селе, и стали первыми председателями колхозов. В село Мотовилово был так же послан двадцатипятитысячник Федосеев Николай Алексеевич. С 1928 года началась так называемая первая пятилетка, в течение которой по плану ВСНХ предусматривалось построить в стране 518 новых фабрик и заводов, и 1040 машинно-тракторных станций (МТС), которые должны оснащать колхозы тракторами и другими сельхозмашинами. При МТС-ах были созданы политотделы, на которые возлагалась всемерное укрепление колхозов, и всемерно-беспощадная борьба с кулачеством, как классом.
В связи чрезвычайных мер против кулачества в центре «правые» объединились с «левыми» в единый блок для совместной борьбы с так называемой генеральной линией партии. Блок, не смирившись с политикой Сталина, не только вступился в защиту кулачества, и в промышленности они стали делать своё дело сопротивления. Они вынуждены были прибегнуть к вредительству. В районе Донбасса, где добывается уголь, они стали провоцировать вредительство: затопляли шахты, выводили из строя машины. За это вредительство перед государственным судом предстала так называемая промпартия во главе Рамзина. Духовенство кулаков, торговцев-трестовцев, а также мельников и прочих «эксплуататоров» советская власть сочла, как негодными элементами в среде народа, признав их опасными людьми для общества. Всячески стала их притеснять, принижать: лишила избирательных прав (права на голосование при выборах в советы и права быть избранными). Таких людей в народе прозвали «лишенцами», и это нарицательное прозвище было весьма унизительной кличкой, порой для людей ничем не вредных честных и трудолюбивых людей села, которых власть решила физически истребить, ликвидировать, как класс! Чтобы вредители не могли обмануть ЦК ВКП(б) – партия бросила лозунг «Мы отстали от других на 100 лет!» с призывом к народу: «За овладение техникой!» (значок ЗОТ).
Собрание о колхозе
Зачастили с поездками в Мотовилово посланцы из Арзамаса, разные уездные представители: врачи в селе выступали с лекциями о гигиене и санитарии в быту – о здоровье женщины; агрономы проводили лекции по улучшению севооборота, с переходом на многопольный, о борьбе с межами и сорняками, говорили о необходимости перехода на крупное коллективное хозяйство, разъясняя его выгоду, с применением машин и удобрений. Инструкторам уездного комитета партии, на основании директив из центра было поручено немедленно создавать колхозы. Вот с такой-то целью в декабре 1929 года в Мотовилово и приехала целая бригада агитаторов из Арзамаса. Собрание о создании колхоза, как и всегда, по весьма важным делам, собрали в обширном классе школы. По такому важному вопросу, народу в школе собралось уйма, как говорится «пушкой не прошибёшь!» Сюда собрались не только мужики и бабы, но с кряхтеньем прибрели даже старики и старухи, а вездесущим ребятишкам и вовсе понадобилось быть тут!
Как и обычно заблаговременно заняв места за партами перед началом собрания, мужики ведут разговор о том, о сём, шумно беседуют, курят, откашливаются, плюют. Не успевшие занять места за партами, томно толпятся в коридоре, вытягивая шеи, заглядывают в битком набитый народом класс. Вот из здания сельского совета пришли представители власти, Васляев, какой-то очкарь и рыжеватый мужчина. Уездная делегация во главе того же колченого Александрова, который хрупко скрепя деревянной ногой, прохромал к столу, предназначенному для президиума. Призвав к вниманию, и угомонив публику, сидящую в зале, председатель сельсовета Бурлаков М. открыл собрание. Президиум из пяти человек: Бурлакова и четырёх представителей из города, избрали единогласно. С докладом о создании колхоза в Мотовилове выступил Александров. Обращаясь к присмиревшему залу, он начал так:
– Товарищи! Товар-и-щи! Товар-ищи! – получилось у него так из-за того, что он был не только безногий и хром, но и ещё косноязычен.
Говорил как-то лающе, проглатывая некоторые слова, не досказав их до конца. С начала своей речи он подробно остановился о темноте, о невежестве крестьянского быта, причиной которого является мелкое раздробленное хозяйство, о разделении больших семей на мелкие, которое ведёт к частным переделам пахотной земли, о вреде трёхпольного севооборота, о межах, о зловредных сорняках, которые заполняют всю землю, зимуя в тех же несчётных в поле межах. Затем он перешёл к восхвалению коллективного хозяйства, где земля будет общим достоянием народа, и не будет знать межей и сорняков на больших земельных массивах, удобнее будет применять минеральные удобрения и обрабатывать поля тракторами, применяя и другие сельхозмашины. На полях будет введён многопольный севооборот, как основной ключ к изобильному урожаю. И народу в колхозе будет жить вольготно.
– Только для тупоумных невежд эти упрямые факты покажутся не убедительными! Мелким же единоличным хозяйствам из нужды не выйти! – употребил он в своей речи Ленинский лозунг.
– А мы и не думаем из неё выходить-то! – не выдержав долгой и томной речи Александрова, выкрикнул с места Николай Ершов. – Хотя ты, товарищ Александров, и хорошо говоришь, а всё равно от твоих хороших слов золотом не пахнет. Вот ты о нашей нужде говорил. У нас и нет никакой нужды, а если и есть, какая нужда-то, мы её тут же изживаем, – оживлённо продолжал Николай, чувствуя, что его никто не одёргивает, не останавливает, и Александров рад минуткой передышки, так как он в продолжение своей речи, тянувшейся уже около часа, заметно устал. – А что касаемо насчёт сельхозмашин, то вон Василий Савельев – один, да имеет две веялки, и молотилку совместно с шабром Иваном Федотовым, – азартно продолжал Николай. – И дальноземье с межами, и сорняками теперь нам не помеха. Ведь мы разделились на группы. Теперь у нас в поле не работа, а лафа. И теперь урожайность нашей земли попрёт, только трудись себе на здоровье! А кто, ежели какую нужду имеет, вроде отбойной бедноте, гольтепе, т.е. так они пущай и идут в колхоз! А мы мужики-труженики со стороны поглядим, может и мы раззадоримся, понравится – пойдём, не понравится – погодим! Да и вы раненько приехали к нам с этим самым колхозом, лучше бы понаведывались через недельку! – так смело выступивший со своей речью, бойко закончил её Николай.
Николаева речь заимела поддержку некоторых мужиков и баб, из-за чего по всему залу послышались одобрительные усмешки, в помесь с ехидными ухмылками, которые оскорбительно подействовали на Александрова из-за чего лицо его приняло облик неудачно испечённой ватрушки, но чтобы для первости не помешать делу, он не применил никаких угроз Ершову, а только деликатно и, шутя, сказал ему:
– Вот ты, товарищ, прервал меня, я даже запамятовал, на чём я остановился и с чего начать продолжать свою речь! – весело улыбнулся он.
Зал поддержал шутку весёлым гулом, заулыбались и сидящие за столом президиума. Мысленно ухватившись за прерванную идею своей речи, Александров снова увлёкся своим докладом, продолжая расхваливать ту же колхозную жизнь, в которой будет не жизнь, а полная чаша.
– А садов висячих вы нам, случайно, не пообещаете?! – выкрикнул кто-то из зала, не поднявшись с места.
– Нет, садов висячих мы вам не обещаем, а зажиточную жизнь гарантируем! – с подъёмом в голосе ответил Александров.
– Эт курочка-то ещё в гнезде, а о яичке-то уже слышится везде! – бойко пронёсся над головами сидящих чей-то резвый голос из задних рядов.
– Не прерывайте докладчика, – встав с места и постучав карандашом о графин с водой, властно крикнул в зал председатель собрания Бурлаков, давая возможность продолжать свою речь Александрову, которая уже стала надоедать и нудить слушателям, его взволнованная горячая речь.
– Товарищ Лександров! Уж больно ты говоришь, стараешься. Смотри, не об…сь с натуги-то, не подать ли ложку?! – как обычно, без всякой задней мысли спокойненько, под оживлённый хохот зала высказался с места Яков Забродин в адрес оратора.
Тот, смущённо остановившись на полуслове, наклонив голову к Бурлакову, спросил:
– Что это ещё за невежество?
Бурлаков на ухо ему ответствовал. Тот, видимо, поняв, что «этот мужик» (т.е. Яков) обладает словесным юмором, так что не обращайте на него внимания. Александров, обращаясь к Забродину, желая осведомиться спросил:
– А зачем ты о ложке-то упомянул, дорогой приятель, это куда она мне спонадобилась? Я здесь у вас обедать не собираюсь! – с какой-то обидой закончил он.
Для ответа Яков, встав с места ответил:
– Да не в обеде суть, а об ложке речь зашла из-за того, что у нас в селе, в народе то есть, принято и укоренилось такое правило, что если кто долго и горячо заболтается, то предлагают ему ложку, чтоб он поскрёб около своего зада, где не накипело ли?!
– Ха-ха-ха, го-го-го! – раздалось по залу.
– Этими похабными словами ты только вставляешь нам палки в колёса и показываешь своё невежество! Как твоя фамилия?! – опугливо строго спросил Якова Александров.
– Моё фамилиё ма…а кобылья, – дерзко и бойко под общий взрыв смеха всего зала резанул Яков.
Дело было приняло курьёзный оборот. Александров и вся делегация пришли было в гневное раздражение, но Бурлаков, вступившись за Якова, старательно уговорил Александрова и, дело уладив, раздражение утихомирил. После этого инцидента, у Александрова отпала вся охота долго распространяться с докладом, и он, закругляясь, закончил свою речь:
– В общем-то, наилучшая дорога для крестьянина – колхоз!
В прениях подстрекаемая мужиками-весельчаками и бабами-подругами, первой выступила чуть подвыпившая Дунька Захарова, она порастолкав стоявших в проходе мужиков, выступила вперёд и, бесстыдно задрав свой подол выше колен, так, что сверкнули её розовые ляжки, и мелькнуло чёрное пятно, бессовестно похлопав ладошкой по нему, обращаясь к президиуму, громко и демонстративно выкрикнула:
– Вот где ваш колхоз!
Взрыв общего смеха, шума и гогота потряс всё здание школы, от колебания спёртости воздуха и пламя в лампе помигало-помигало и погасло. В зале поднялся невообразимый шум и топот, словно в здание школы ворвался эскадрон конницы. Зажжённая кем-то спичка около стола президиума частично утихомирила взбеленившийся зал, лампа снова зажжена, публика приутихла, но улыбки ещё теплились на устах почти у всех, но гул затихал.
– Ты, гражданочка, очень грубо и бесстыдно поступаешь, тут об серьёзном деле речь идёт, а ты… – гася весёлую улыбку на лице, шутливо и незлобиво заметил Дуньке Александров. – Если ты не желаешь пойти в колхоз, мы тебя, пожалуй и не примем, уж больно ты развязано себя держишь! – укоризненно добавил он ей.
– А мы все в один голос заявляем: не хотим в колхоз и баста! – просверлил воздух чей-то резвый басовитый голос.
– Не хочу в колхоз, давай коммуну! – под общий шум выкрикнул Ершов. – Записывайте в коммуну меня первого! – надсадно, повторно крикнул он в адрес президиума.
– Да ты что это, уважаемый гражданин, так ретиво выступаешь за коммуну-то? – спросил его Александров.
– Как что, а может быть я свой план имею, мне работать-то в коммуне в поле-то неколи будет. Я ведь вон какой батюк, не замухрышкам чета и на личность-то приглядчив, так что я под общим-то одеялом, среди баб промышлять буду. Без «работы» не останусь, так что на этот счёт у меня свой расчёт! – самовосхвалённо проговорил Николай.
– Ну, в отношении коммуны вопрос затрагивать ещё рано, народ наш до этого ещё не созрел, нам на данном этапе нужно создавать не коммуны, а колхозы, т.е. первичный вид общежития народа, а когда мы эту стадию переживём, тогда и о коммуне вопрос настанет! А насчёт общего одеяла это ты зря! – встав из-за стола президиума, взялся разъяснять вопрос о коммуне не только Ершову, но и всем присутствующим один из уездных представителей, то и дело поправляя на носу свои очки, а Александров, не в меру уже измучавшись со своим докладом, в это время присел на край скамьи и отдыхал…
– Слушай-ка, Миколай! – обратился к Ершову мужик-весельчак Митька, сосед по скамейке, когда Ершов, разгорячённый выкриками о коммуне, сел на своё место. – Ты, случайно, Луке-то не сродни? – ехидно улыбаясь, спрашивал он Николая.
– Какому Луке? Нет у нас в сродстве никакого Луки! – по-серьёзному ответил Николай.
– Как какому! – известно какому Луке Лудищеву! – под общий смех всех, в окружении слушающих мужиков допрашивал Николая тот же Митька, любитель сам посмеяться и людей посмешить.
– А что, или я больно похож на Луку-то? – самодовольно улыбаясь, спросил его Николай.
– А как же, недаром ты со своим началом в любую дыру лезешь! У тебя вон какой носище! – снова под гогот добавил Митька.
– Ты меня на удочку не лови, я не карась, а ёрш колючий! – и меня не сопричисляй к простачкам каким-нибудь. А что касаемо моего носика, то прямо тебе не в хвальбу скажу, у меня что на витрине, то и в магазине! – самодовольно улыбаясь, с задором и выхвалкой изрёк он.
Он ещё хотел что-то добавить, да звонкие удары карандаша о графин за столом президиума заставили его обратить внимание к ходу собрания. А Митька, не вслух для Николая, а для приближённых мужиков, с ехидством насмешливо всё же высказался в адрес Николая:
– Видно, правильно в народе говорится, «плохое дерево растёт в сук, да в болону, а Николай Ершов растёт в хрен да в голову!»
Пока собрание идёт своим чередом: кто вопросы задаёт и выслушивает ответы президиумовцев, кто с речью сам выступает. Пока речь в зале зашла о какой-то эксплуатации и о батраках, на скамьях в окружении, где сидел Василий Ефимович, шёл приглушённый свой разговор, в котором шла речь о предполагаемой пагубности колхозной жизни:
– Ох, колхоз, колхоз! – выбрав подходящий момент, когда очередной говорящий мужик прерывал свою речь. – В колхозе на всё карточки введут: на хлеб, на портки, на свет, на печные трубы, и даже на баб! – мечтательно продолжал Василий, наблюдая за тем, что его мужики слушают со всем вниманием. Стращая жизнью, которая как-то туманно, но неотвратимо вырисовывалась над горизонтом крестьянского бытия, он продолжал. – Отрежут от карточки талончик и дозволят хоть вот тебе, например, Венедикт, с какой-нибудь бабой ночку поспать, с такой-то талон в месячной карточке-то будет только один; вот и думай, и размышляй: потерял этот талончик и весь месяц пройдёт у тебя ни за бабочку!
– Одним словом, в колхозе не жизнь будет, а одно наказание! – поддержал Василия сосед по скамейке Венедикт.
А Василий Ефимович, погрузившись в печальные размышления о надвигающейся непрошенной ломке всего уклада деревенского быта, в душе проклинал ещё и не созданный колхоз: ему и слушать-то о нём было противно, и мысленно придумывал благовидный предлог, под которым можно было бы незаметно отсюда смотаться. Вскоре он поспешил из зала удалиться, поднявшись с места, он направился к выходу.
– Ты куда? – спросил его Венедикт.
– В уборную, я скоро вернусь!
Совсем неудивительно, что на таком исторически важном собрании в прениях выступали немногие. Это и понятно: встретившись с таким новым делом как колхоз, многие мужики выжидающе отмалчивались, а бабы и вовсе решили только слушать, что говорят, поэтому на собрании выступали только говоруны и деловые люди, которые в этой ломке векового уклада деревенского быта предвидели что-то замысловатое и с сомнением относились к этому вопросу. Николай Ершов снова попросил слова:
– Я лично в колхоз хоть завтра, да баба у меня – на дыбы! – поднявшись с места и утирая пот с раскрасневшегося, как рак, лица. – Да и я боюсь, как бы какого подвоху вы нам не подсунули! – обращаясь к президиуму, продолжал он.
– Какого подвоху? – спросил его Александров, плохо разбирая издали, что конкретно хочет сказать Ершов.
– А ты яснее говори и погромче, а то мямлит, гнусавит себе под нос, здесь еле слышно, о чём ты хочешь высказаться! – раздражённо вступил в разговор в помощь Александрову инструктор Укома партии Васляев. – Ты подойди сюда, ближе к президиуму, и выкладывай, что у тебя наболело, – сказал он.
Николай охотно двинулся вперёд, руками раздвигая тесно сидящих и стоящих в проходе.
– Разрешите пройти вперёд, дайте доступ к сцене! То бишь к президиуму, – чуть было не смутился, словесно поправился он. – Ну-те-ка! Посторонитесь, позвольте пройти «женщине с ребёнком», – образно обратился он к неуступчивой толпе, которая из-за тесноты упорно продолжала сидеть и стоять в проходе, млея от пота. – А ну, разрешите «проехать с телегой»! – с шуткой прикрикнул он, что заставило толпу несколько посторониться около него. – Подвинь баню-то, я сарай поставлю, – вежливо обратился Николай к стоявшей на его пути Дуньке Захаровой, которая из принципа не хотела уступить и освобождать для него проход. – Что вы тут на самом ходу встали и не пропускаете: сами ни туда, ни сюда не проходите и людям путь загородили, – с раздражением проворчал Николай, слегка, но с силой отодвигая разопревшее тело Дуньки.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе