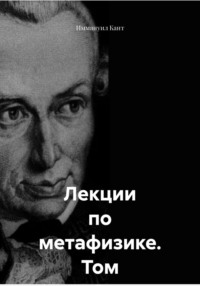Читать книгу: «Лекции по метафизике. Том 2», страница 7
Автор говорит ещё о возникновении и исчезновении и говорит, изменение из несуществования в существование есть ortus (возникновение), и обратно есть interitus (исчезновение). Ortus ex nihilo есть происхождение субстанции, об акциденциях нельзя сказать, что они возникли из ничего – ex nihilo ortum est есть то, части чего имели предсуществование. Аннигиляция (Annihilatio) также касается лишь субстанции, акциденции суть лишь модусы существования (modi existentiae) субстанции. Но это не изменение самой вещи, ибо оно может происходить only с существующими вещами. Ortus означает бытие, которому предшествует небытие. И interitus, которому следует небытие. В явлении субстанцией является то, что остаётся, тогда как определения меняются. Это есть условие, при котором мы называем нечто первично-субстанциальным, а именно, что оно пребывает. Ибо если бы не было ничего пребывающего, что не возникало бы и не исчезало, мы не могли бы иметь опыта об изменении. Должна быть субстанция, изменение которой мы только и можем воспринимать. У того, что пребывает, было состояние А, и теперь состояние В, следовательно, оно изменено чем-то, и это perdurabile (пребывающее) мы называем субстанцией. Когда говорят, всё в мире изменчиво, это значит: возникает и исчезает nothing but акциденции и соединения тел.
2. Способ и образ, каким части сложены, т.е. форма. Сущность всякого сложного состоит в форме, т.е. в modo compositionis. Древние говорили: forma dat esse rei. Под этим они понимали, что материя в каждой вещи есть нечто реальное, но форма составляет различие вещей; и мы должны мыслить её скорее, чем вещество. У субстанции уже многое представлялось как содержащееся в ней, но это были не части, например, душа состоит не из мыслей; они ей присущи. Следовательно, есть nexus, который есть не nexus сложения, но nexus присущности. Мы берём теперь первый; сложное, поскольку оно не рассматривается как часть чего-то другого, есть целое (totum). Целое и сложное оба относятся к частям. – Многое, поскольку оно становится агрегатом воедино – здесь это называется сложное и, когда многое однородно, количество (quantum). Теперь мы говорим лишь о сложном как таковом (compositum quatenus est compositum). Реальное сложное есть то, части которого могут существовать также и сами по себе вне связи с другими – части которого никогда не могут существовать вне связи с другими, есть идеальное, например, умозаключение есть идеальное сложное, его части могут существовать только в душе. Тело есть реальное сложное. 3. Части реального композита находятся в общении (commercio), и все субстанции, поскольку они пребывают в общении, составляют реальный композит. Общение есть взаимное влияние (influxus mutuus), ибо каким иным образом возможно общение различных субстанций, как не через то, что одна определяет нечто в другой? Ведь субстанции воздействуют друг на друга; например, в теле все части находятся в общении; то, что не в общении, не принадлежит к нему. Связь высшей причины со своими следствиями ничего не связывает, не является общением. Следовательно, причина не принадлежит к числу следствий.
4. Всякое целое, состоящее из субстанций, состоит из простых субстанций. Еще заметим: автор вопреки Лейбницу утверждает, что композит не следует называть субстанцией, хотя бы его части и были субстанциями, ибо сложение есть лишь акциденция. Это, конечно, верно, но есть не что иное, как тонкость различения. Лейбниц говорит, что тела суть субстанциальные феномены; они кажутся таковыми, но лишь части их суть субстанции. Вероятно, он вкладывал в это иной смысл, нежели тот, который ему приписывают Вольф и автор; иначе он всегда мог бы придерживаться этого [мнения], что всякий легко понимает. (Монада есть не что иное, как единство неделимой субстанции, т.е. такой, которая не может быть мыслима далее как агрегат множества субстанций. Теперь возникает вопрос: о всяком ли субстанциальном композите можно сказать, что он состоит из простых субстанций, т.е. является ли он монадным? – Да, поскольку он есть ноумен, ибо всякая связь есть не что иное, как отношение. Поскольку субстанции по определению знают внешнее существование сами по себе, то можно устранить все отношения, и субстанции останутся и будут простыми. Ибо если бы они не были просты, то сложение не было бы устранено. Но как обстоит дело с реальным композитом как феноменом? То, что представляется как субстанциальный композит лишь посредством чувств – и где даже субстанции являются таковыми лишь для чувств, – то здесь это отпадает, ибо доказательство рушится. Явление субстанции не есть сама субстанция, и то, что справедливо в отношении последней, не применимо к первому. Допустим, тело состояло бы из простых частей, но из этого не следовало бы, что его тень состоит из простых миль. Если мы устраним всякую сложность, то не останется ничего.)
5. Если в композите из субстанций ничто не является субстанцией, кроме частей, от которых мы абстрагируемся от всякой композиции, являющейся лишь акциденцией их взаимного отношения, то остаются субстанции, которые суть [сущности] без сложности; следовательно, в каждом субстанциальном композите субстанции суть простые части. Если я отвлекусь от всякого отношения, то останется простое. Это совершенно верно, если я говорю о композитах, поскольку они суть ноумены, ибо рассудок не может мыслить ни одного композита без того, чтобы прежде не помыслить простые субстанции. Простое есть субстрат всего сложного у ноуменов. Композиция есть отношение субстанций, поскольку они находятся в общении; но это не имеет места в случае феноменальной композиции. Реальный композит, поскольку он есть явление, рассматривается в пространстве. Пространство не состоит из простых частей, следовательно, и композит тоже. О постоянном явлении я не могу сказать того, что справедливо в отношении субстанций, поскольку они мыслятся рассудком. Тела суть явления и находятся в пространстве, следовательно, не состоят из простых субстанций. Если бы мы познали неизвестное, лежащее в основе тел и производящее телесные явления, то мы познали бы исключительно простое, находящееся в общении. В явлении мы превращаем феномены в субстанции, но мы должны при этом оставаться при понятии субстанции, ибо постоянное явление его допускает. Чтобы говорить о простых сущностях, мы должны выйти из мира чувств, но тогда у нас не будет доказательства объективной реальности нашего понятия, ибо мы не можем привести ни одного примера; но со всеми явлениями это осуществимо. Композиты, примеры которых я могу привести, суть гипостазированные феномены (phaenomena substantiata). Однако то, что справедливо в отношении ноуменов, к ним неприменимо.
6. Познали ли мы благодаря этому учению что-либо новое? Нет, ибо через категорию субстанции мы не познаем вещей. Опыт должен давать нам примеры – а это есть явления. Мы точно так же не можем понять, каким образом субстанции должны составлять целое – в отношении явлений, находящихся в пространстве, это возможно, – но не каким образом субстанции сами по себе, ибо здесь мы должны отвлечься от пространства, поскольку оно есть форма чувственного созерцания. Мы ведем речь теперь о пространстве и времени.
Пространство и время суть не определения вещей, поскольку они мыслятся рассудком, но поскольку они даны нашим чувствам; следовательно, они суть формы созерцаний. (Мы подходим теперь к важным понятиям такого рода, что, если нам удастся раскрыть их природу, они изменят весь план метафизики и изгонят все те противоречия, которые лишили метафизику ее кредита.) Пространство есть внешнее чувство, время – внутреннее. Материей всех явлений является ощущение, и то, чему оно соответствует, есть реальное. Философия: реальное мы познаем лишь a posteriori, формальное же – a priori. Представление о воздействии объекта на нас есть ощущение, стало быть, нечто субъективное, и мы должны познавать его исключительно a posteriori. В нашем чувственном познании имеется нечто, относительно чего мы имеем представление a priori, – это форма явления: для внешнего [явления] – пространство, для внутреннего – время. Они суть та форма, в которой объекты будут являться нам, когда они воздействуют на нас; поэтому мы можем представить себе многое, чего никогда не видели, например, конусы и пирамиды, как в геометрии; соответственно, пространство и время можно познавать a priori.
Кроме явления, в опыт входит еще нечто, ибо он не есть просто восприятие, но единство взаимосвязанных восприятий согласно всеобщим правилам. Материя должна быть дана, форма же состоит в рассудочных понятиях. Таковы категории; они составляют форму всего человеческого опыта – и единство явлений a priori; это также категории, например, субстанция; они суть не что иное, как связь многообразного в явлении согласно правилам. – Таким образом, мы можем познавать a priori:
1. Форму созерцания, то есть пространство и время, и
2. Форму рассудка, поскольку она применяется к чувственности; или форму мышления объектов, являющихся нам; это есть рассудочное понятие и составляет форму опыта.
Пространство и время, принадлежащие чувственности, и категории, принадлежащие рассудку, составляют те понятия, которые мы можем иметь a priori и которым можем дать соответствующие объекты в опыте. У нас есть также иные трансцендентные понятия, которым, однако, не может быть дан никакой объект в опыте; их следует отличать от трансцендентальных. Последние суть такие, посредством которых я лишь представляю возможность синтетического познания a priori; «трансцендентальный» можно передать по-немецки как überschwenglich [превосходящий, выходящий за пределы]. Понятия имманентны, если их пример может быть дан из опыта или по аналогии с опытом. – Эти понятия суть основа возможности познания a priori – и синтетического познания a priori. Они всегда были камнем преткновения.
О пространстве говорят, что оно есть нечто само по себе, но тогда без вещей оно есть ничто, ибо в пространстве есть места; место, или способ, каким вещи находятся рядом друг с другом, не существует, если нет никаких вещей. Тем не менее, наш рассудок представляет себе: оно предшествует всем вещам, рассматривается как всеобъемлющая receptaculum [вместилище], которое не содержало бы в себе ничего, кроме мест для вещей. Им не могут быть и отношения, ибо нельзя представить, чтобы они существовали без вещей. Пространство не есть вещь, но все же некое нечто, в котором я могу представить себе все отношения. Так что же такое пространство?
С временем дело обстояло точно так же. Время есть то, в чем состоят изменения; оно не есть вещь, но в нем находятся вещи; оно не предполагает существования вещей, но я должен иметь время, в которое полагаю вещь. Если я удалю все вещи, то остается время, в котором ничего нет, но в котором нечто может возникнуть. Что же оно такое? Истечение мгновений. Что они такое вновь? Поскольку [философы] были вынуждены считать пространство и время чем-то, но не вещью, они не знали, что с ними делать. (Автор говорит: Ordo successivorum est tempus – порядок последовательного есть время; post se invicem posita coniuncta succedunt – следующее друг за другом соединенное находится одно после другого. Следовательно, время есть связь вещей, поскольку они следуют друг за другом – но одновременность он опускает, а это есть важное отношение. Когда вещи одновременны? Когда они существуют в одно и то же время; а последовательны – когда они суть вещи в разное время. И последовательность никто не может понять, не предполагая времени, следовательно, определение ложно. – Пространство есть ordo simultaneorum extra se positorum – порядок одновременного, расположенного вне друг друга. Чтобы вещи могли находиться вне друг друга, требуется пространство. Говорят, что вещи можно представить себе вне друг друга и без пространства, например, я говорю: одна субстанция отлична от другой! – Да, но положение «вне» также предполагает пространство; это говорит и автор: simultaneorum extra et intra se posita – одновременного, расположенного вне и внутри себя; иначе я не могу видеть, каковы отношения различных вещей друг к другу.)
Автор объясняет пространство через Ordo extra se positorum [порядок расположенного вне себя]. Extra se positorum суть вещи в различных местах. Понятие места предполагает понятие пространства, и это понятие уже принимается как известное: ordo plurium, quatenus post se existunt est tempus – порядок многого, поскольку оно существует одно после другого, есть время. Быть друг после друга значит быть в разное время, следовательно, здесь происходит объяснение того же самым же [idem per idem].
Главный вопрос заключается в том, являются ли они [пространство и время] самостоятельно и независимо от нас существующими вещами, ибо в таком случае они отличны от всех возможных вещей, которые в них находятся. Большинство древних философов отвергало это. Затем некоторые полагали, что пространство есть определение вещей.
Поскольку пространство и время состоят целиком из отношений и содержат их в себе, то полагали, будто это отношение вещей, поскольку они связаны, и составляет пространство, а поскольку одно определяется другим в ряду – время; таким образом, они были бы подлинными отношениями, которые, не будь вещей, исчезли бы, хотя умом их можно помыслить как возможные. Другие же считали, что это – не что иное, как всеобщее понятие об отношениях вообще. Посмотрим, так ли это обстоит на деле.
Если бы они были отношениями, мы не могли бы иметь о них понятия a priori, что, однако, имеет место в геометрии; или же мы должны были бы познавать свойства пространства из отношений вещей, и тогда все синтетические положения a priori в геометрии были бы невозможны; a posteriori мы можем познавать свойства, но тогда не существует аподиктических положений. Пространство – не понятие, а созерцание. Понятие presupposes созерцание. Мы не можем доказать свойства какой-либо вещи А, не изобразив ее [в пространстве]. У нас есть только одно пространство, и, говоря о многих пространствах, мы подразумеваем части единого бесконечного пространства. Но с понятием дело обстоит иначе: например, добродетель – не часть всеобщей добродетели, однако с всеобъемлющим пространством это не так. Созерцать вещь a priori – значит созерцать вещь, которая вовсе не дана; и потому я не могу созерцать ничего, кроме формы чувственности, того, как я созерцаю вещи; и эта форма находится во мне. Пространство должно быть чем-то подобным, а именно – формой внешнего явления. Оно есть не нечто, присущее вещам самим по себе, а то, что заключено в нас.
Теперь я могу это разъяснить: оно есть формальная сторона внешних явлений, и потому свойства пространства можно познавать a priori. Это условие, при котором только и возможны явления, есть чистое внешнее созерцание. Теперь понятно, как они могут предшествовать вещам или, вернее, явлениям. Они касаются исключительно природы чувственности, сообразно с которой последняя только и может быть подвержена воздействию. (Пространство и время дают нам познание a priori до всякого опыта, следовательно, они не могут быть заимствованы из опыта. – Положения a priori мы узнаем по необходимости; такие необходимые положения мы имеем в геометрии, например, между двумя точками возможна только одна прямая линия; время также дает такие необходимые положения, например, два времени не могут быть одновременно; следовательно, они не могут быть свойствами вещей самих по себе. Усмотреть вещи сами по себе a priori здесь совершенно невозможно. Так как они, стало быть, не являются определениями объекта, то они должны быть определениями субъекта – то есть формами нашей чувственности. Пространство есть форма, посредством которой мы созерцаем внешние вещи, время – посредством которой мы созерцаем самих себя. То, что мы познаем через внешнее и внутреннее чувство, есть лишь явление, а не вещи сами по себе. – Можно было бы сказать: но ведь мы могли бы познать и самих себя? Да, там, где мы активны, можно сказать, что это не относится к чувственности; но когда мы наблюдаем за собой, это есть не что иное, как ряд внутренних явлений. Ведь мы можем наблюдать всё лишь так, как мы внутренне подвергаемся воздействию.)
(Теперь мы можем также увидеть, как мы познаем время и пространство a priori. Вещи сами по себе мы не можем созерцать a priori – но как же мы можем созерцать a priori явления? Потому что я могу знать, как они будут на меня воздействовать – ведь они не вещи сами по себе; например, я не увижу никакого тела иначе, как только если лучи света из точки тела сойдутся в точке на моей сетчатке – это я могу понять a priori.)
(Следовательно, пространство и время также не имеют силы для вещей самих по себе – но вещи как феномены находятся в пространстве и времени; это есть основание трансцендентальной эстетики. Эстетика есть учение о чувственности. Древние разделяли всё на αἰσθητά [чувственно воспринимаемое] и νοητά [умопостигаемое]; теперь это слово используют для обозначения чувственного удовольствия и называют учением о вкусе. – Так как последнее не может по праву быть возведено в ранг науки, то лучше оставаться при значении, данном древними. Трансцендентальная эстетика есть рассмотрение вещей как объектов чувств, поскольку мы можем познавать их a priori; она показывает основания возможности чувственных созерцаний a priori, которые основываются на пространстве и времени.)
(Если я говорю, что нечто обладает протяженностью, то это есть явление – ибо протяженность есть определение пространства. Когда мы говорим о возникновении и исчезновении, изменении и т.д., мы говорим лишь о феноменах. Это не имеет никакого смысла, если мы говорим только о ноумене.)
Понятие времени мы не можем иметь a posteriori, ибо как бы мы стали извлекать его a posteriori? У нас вовсе не было бы опыта, что одно следует за другим, если бы это понятие не лежало в основе. Оно не есть понятие об отношениях вещей, иначе мы не могли бы иметь a priori свойств времени и аподиктических положений о нем, например: между двумя моментами есть только одно время – два времени не могут быть одновременно – время имеет лишь одно измерение; но если бы его свойства были понятиями об отношениях, мы не могли бы иметь всех этих положений – время также есть созерцание. Все вещи находятся в одном и том же времени. – Все времена суть части одного и того же времени. Созерцание содержит не свойство вещи, а субъективную форму чувственности, то, как я подвергаюсь воздействию. Формой внутреннего чувства является время. Это я могу усмотреть a priori, то, как мое внутреннее чувство созерцает само себя, и могу сказать об этом многое a priori.
Имеют ли эти понятия также объективную реальность, или же они суть entia rationis [сущности разума]? Бесспорно, они имеют объективную реальность, но ограниченную лишь объектами чувств; они имеют силу для всех явлений. Крузий говорит: все вещи находятся где-то или когда-то; это должно быть ограничено лишь явлениями.
Совокупность всех возможных объектов чувств есть мир чувств; следовательно, эти понятия имеют силу только для чувственного мира – мир есть агрегат явлений. Я, конечно, могу помыслить intelligibilis mundus [умопостигаемый мир], подобно тому как мы представляем себе mundus sensibilis [чувственный мир], который может быть познан только рассудком; но рассудок не имеет способности созерцать, а лишь размышлять о явлениях; следовательно, он не может знать, каковы вещи сами по себе. Он может производить опыты, но через них он постигает лишь связь явлений, а не вещи сами по себе.
Явление и видимость должны быть различены. Явление как явление может быть истинным. Видимость есть восприятие, посредством которого я захотел составить понятие, не принимая в расчет всех других восприятий. Явление не судит. Если мы хотим судить о явлениях, мы судим истинно, когда это происходит на основании всех восприятий; если же я хочу судить лишь на основании одного восприятия, то это есть видимость.
Бог познает вещи сами по себе, ибо его познавательная способность порождает вещи. Мы же познаем только явления, то есть способ, каким мы подвергаемся воздействию, и вещи должны воздействовать на нас, иначе мы ничего о них не знаем. – Пространство и время суть не что иное, как представления о вещах, и теперь мы имеем ключ ко многим задачам.
Если явления суть не что иное, как представления, и поскольку все чувственные вещи суть явления, то все чувственные вещи суть не что иное, как представления. Следовательно, явления существуют только в самом представлении. Поэтому мы можем сказать: существует лишь столько, сколько заключено в нашем представлении о чувственном мире. Например, допустим, что во время музыки люди потеряли слух – тогда для них музыки также не существовало бы, равно как и для тех, у кого нет музыкального слуха. Объекты сами по себе не существуют.
Благодаря этому мы избавлены от многих заблуждений. Например, конечен мир или бесконечен? Вопрос, вызвавший столько трудностей, теперь отпадает и звучит так: буду ли я продвигаться в ряду своих восприятий бесконечно или нет? И на это ответ определенен: бесконечно.
Конечное и бесконечное.
Величина, которая не может быть воспринята непосредственно как величина, оценивается через последовательное измерение. Я представляю её себе как некое качество. Quantitas qualitatis есть степень – так определяет автор, и совершенно справедливо: непосредственно она не представляется как количество, но опосредованно, а именно – через последовательность. Точно так же можно сказать: quantitas rationis (основания) есть степень. Степени суть противоположные экстенсивные величины – таковы пространство и время и всё, что в них заключено. Для внутренней величины употребляют выражение «степень», а не «величина», которое применимо лишь к экстенсивным величинам. Всякая реальность имеет степени. От ощущения – вплоть до мысли, где я мыслю себя самого в отношении рассудка, то есть вплоть до апперцепции, – существуют степени. Нечто может иметь столь малые степени, что я едва способен их заметить, но всё же я остаюсь сознающим их. В опыте, собственно, нет ни наибольшего, ни наименьшего.
У нас есть три понятия: maximi, illimitati и infiniti; они очень близки между собой, но всё же различны. Maximum есть то, больше чего ничего невозможно. Illimitatum есть отрицательное представление о наибольшем. В maximo содержится понятие тотальности, которой недостаёт ничего из того, что требуется для определённого рода вещей. (То, что содержит всё некоего рода, есть illimitatum; то, что содержит не всё и т.д., есть ограниченное; limitatum, таким образом, противопоставляется omnitudo.) Illimitatum, следовательно, может означать maximum, поскольку оно представлено через отрицательное понятие. Нечто может быть illimitatum сравнительно, но не абсолютно; maximum есть положительное, а illimitatum – отрицательное понятие тотальности. В infinito я представляю себе отношение величины вещи к её сущности. Отношение величины к возможности её измерения определяет либо саму величину, либо бесконечность; я не говорю, сколь велика вещь сама по себе – она больше всех понятий, с помощью которых я обычно измеряю. Его смешивали с illimitatum: мы оцениваем величины последовательно, прибавляя одно к другому. Всякий счёт есть прогресс в конструировании величины. Величина, конструирование которой возможно через конечный прогресс, есть quantitas finita; бесконечная же – та, чей прогресс бесконечен. Вещь саму по себе я не могу назвать infinitum. Оборот речи приводит к тому, что illimitatum часто называют бесконечным. Само по себе это не одно и то же. В феноменах можно сказать: это и illimitatum, и infinitum. Ens summum мы представляем как illimitatum; можем ли мы назвать его infinitum? Это не подобает, ибо через это я не выражаю больше, чем через ens summum, то есть оно содержит всё, что может содержать сущее, или вообще – ему ничто не недостаёт; а через infinitum я говорю не о том, что есть само сущее, но лишь о том, что его величина не может быть определена в отношении к мере; посредством этого я не знаю, сколь велико оно само, велико ли оно или нет, – но лишь то, что оно слишком велико для любого из моих понятий; однако по этой причине оно не обязательно должно быть наибольшим среди всех вещей. (Infinitum не указывает, сколь велика вещь сама по себе, но в отношении к мере оно больше всякого числа. Всякая оценка величины в пространстве и времени относительна. Например, Солнце далеко от Земли; относительно же неподвижных звёзд оно близко к Земле; и чем меньше мера, тем больше число. – Абсолютная величина есть всеобщность; если мы берём нечто в отношении ко всеобщности, то оно ограничено. Абсолютная метафизическая величина есть величина ens realissimi; через всеобщность мы познаём вещи сами по себе также и через ограничение omnitudo.)
(Понятие бесконечного касается лишь феноменов, то есть только пространства и времени, и всего, что в них возможно, и только к ним мы должны его применять. Если я говорю: Бог есть ens infinitum, – то это означает illimitatum.) (В ноуменах есть maximum, но в феноменах нет ни maximum, ни minimum.) Infinitum означает продвижение в бесконечность при измерении величины. Infinitum в отличие от illimitatum называется infinitum mathematicum; и поскольку оно тождественно с illimitatum, оно называется infinitum reale. Quantum relative ad unitatem aliquam dabilem omni numero maius есть бесконечное; если оно больше всякого числа, то оно превосходит моё понятие, ибо я могу составить определённое понятие о величине только через число. Существо, которое имеет определённое понятие о величине без числа, может постигать и бесконечное. В отношении высшего существа мы не сможем употребить этого слова, ибо оно предполагает, что у нас есть мера. Для этого требуется гомогенность, но высшее существо не имеет гомогенного. В illimitatum я не сравниваю его ни с какой мерой, и понятие бесконечного может применяться только к феноменам; ибо оно предполагает, что прогресс от одного к другому больше всякого числа. Прогресс совершается во времени. В явлениях бесконечно ли объект или же прогресс? Феномен я не могу назвать бесконечным, ибо он есть ничто вне меня. Если бы чувственный мир был вещью сам по себе, то можно было бы спросить, бесконечен ли он. Так, я не могу спросить: бесконечен ли мир в пространстве, но: должен ли я продвигаться в мире в бесконечность? Да, прогресс и регресс в бесконечность возможны, но, с другой стороны, нельзя представить, чтобы некое quantum было бесконечным. Будущая вечность бесконечна; она не есть infinitum datum, но бесконечное возможное продвижение изменений, которые могут следовать друг за другом; она есть бесконечная возможность, а не действительность. (Бесконечность бывает прогрессивной – она касается потенциальной величины, или коллективной – она касается актуальной величины. Infinitum actuale нельзя помыслить, но potentiale – можно; например, будущая вечность есть не нечто действительное, но соединение множества времён, и оно может быть бесконечным. – Если бы мы захотели представить себе наполненное collectivum actuale, то нам пришлось бы вообразить, будто все части действительны – мы должны были бы пройти через них и собрать их, но это снова есть определение бесконечного; поэтому бесконечное collectivum actuale не невозможно само по себе, ибо мы не говорим ничего более, кроме того, что величина не может быть познана определённо без числа – ибо, поскольку мы уходим в бесконечность, мы не можем выразить её никаким числом – но для рассудка, который не должен полагать величину через числа, это было бы иначе.) (Понятие infinitum должно было бы быть также понятием maximi, больше которого ничего невозможно – но это есть illimitatum; но из этого ещё не ясно, содержит ли бесконечная вещь всё. Из этого пытались доказать разное. Numerus infinitus, говорят, невозможен. Это аподиктически истинно. – Это было бы число, которое больше всех чисел; но поэтому, как далее заключали, multitudo infinita не невозможна, например, бесконечное пространство. Мы говорим: оно есть число миль – но здесь вовсе нет числа; доказывали это так: multitudo infinita была бы наибольшей по своему определению; но к любой величине можно ещё прибавить единицу, следовательно, наибольшая, а потому и бесконечная величина, невозможна – если так вырезать определения, можно доказать что угодно). Некоторые авторы говорят: поскольку нет бесконечного числа, то нет и бесконечного. Summus infinitus est contradictio, но не бесконечное множество. Надо различать infinitum actuale и potentiale. Potentiale, в котором возможен прогресс в бесконечность, не дано; actuale же дано. Неограниченное принадлежит к ноуменам; я представляю себе, что в нём недостаёт никакой реальности; ограничивает понятие, которое относится к феномену. Границы мы мыслим в пространстве и времени, ограничения – в ноуменах; quod rationem in se continet limitis vel in tempore vel in spatio есть граница, которая, следовательно, может быть только у феноменов. Infinitum mathematicum non est dabile, то есть оно не может быть представлено мне как полностью существующее; например, будущая вечность не может быть дана полностью, иначе это не была бы вечность. Через что мы представляем себе величины как полностью существующие? Только через прогресс добавления от одного к другому. Бесконечная величина не может быть дана, потому что и прогресс в бесконечность должен был бы быть полностью дан, или прогресс должен был бы быть завершён, а это невозможно представить. Так же нельзя представить себе бесконечное пространство, но прогресс в пространстве можно представить как бесконечный. Если бы мы захотели представить, что оно существует ещё до прогресса, то мы составили бы себе понятие со свойством, с которым мы его вовсе не можем мыслить, ибо мы не можем мыслить никакую величину иначе как через прогресс. (Мера есть величина, которую мы можем познавать созерцательно.) Прогресс в бесконечность имеет место, ибо я могу продолжать величину в бесконечность и в добавлении всегда идти дальше; также и в грядущей вечности его можно помыслить. Прогресс в неопределённое (in indefinitum) меньше, чем в бесконечное. Здесь мне просто не положена определённая граница. Мы говорим теперь…
О тождестве и различии
Ныне автор рассуждает о предикатах сущего, относительных. Он именует их предикатами связи (отношения), что не есть благо. Предикаты служат для распознания тождества и различия, но тогда отношения (relation) быть не должно; например, два человека могут быть весьма схожи или совпадать во многих признаках, не имея ни малейшего отношения друг к другу.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе