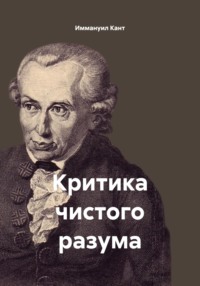Читать книгу: «Критика чистого разума», страница 3
Зарубежные трактовки:
– Генрих Генц (Heinrich Henke) считает, что Кант здесь закладывает основу для трансцендентального идеализма, поскольку исследует условия возможности опыта (Henke H. Kants Kritik der reinen Vernunft im Grundriss. Berlin, 2015).
– Дитер Хенрих (Dieter Henrich) обращает внимание на архитектонический характер кантовской системы: критика – лишь первый шаг к построению полной философии (Henrich D. The Unity of Reason. Harvard, 1994).
Вопросы для проверки:
– В чем разница между трансцендентальной критикой и трансцендентальной философией?
– Почему Кант исключает моральные принципы из трансцендентальной философии?
3. Чувственность и рассудок как два ствола познания
Кант утверждает, что человеческое познание имеет два источника:
1. Чувственность (предметы даются в созерцании).
2. Рассудок (предметы мыслятся).
Отечественные интерпретации:
– И. С. Нарский подчеркивает, что это разделение радикально отличает Канта от эмпириков и рационалистов (Нарский И. С. Кант. М., 1976).
– В. А. Жучков отмечает, что Кант здесь предвосхищает свою теорию синтеза в «Трансцендентальной аналитике» (Жучков В. А. Немецкая философия эпохи Просвещения. М., 1989).
Зарубежные исследования:
– Эрнст Кассирер (Ernst Cassirer) видит в этом разделении основу для кантовского коперниканского переворота (Cassirer E. Kant’s Life and Thought. Yale, 1981).
– Майкл Фридман (Michael Friedman) указывает, что Кант здесь закладывает основу для современной философии науки (Friedman M. Kant and the Exact Sciences. Harvard, 1992).
Рекомендации:
– Как это разделение связано с априорными формами чувственности (пространство и время)?
– Почему Кант говорит о возможном общем корне чувственности и рассудка?
Библиографический список источников к Введению Критики чистого разума Канта.
Введение к Критике чистого разума Иммануила Канта – один из ключевых текстов философии, поэтому его анализ требует привлечения авторитетных источников. Ниже представлен библиографический список с описанием каждого из них.
I. Предмет и цель «Критики чистого разума».
1. Определение критики разума.
Кант, И. Критика чистого разума / Пер. Н. Лосского. – СПб.: Наука, 1999. – С. 45.
«Наше познание начинается с опыта… но отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта» (B1).
Здесь Кант формулирует центральную проблему своего исследования: возможность знания, независимого от опыта. Это введение ключевого понятия априорного знания.
Аллисон, Г. Кантовский трансцендентальный идеализм. – М.: Канон+, 2013. – С. 50-55.
«Кант не отрицает роль опыта, но показывает, что сам опыт возможен только благодаря априорным структурам» (с. 52).
Аллисон подчеркивает, что Кант не отвергает эмпиризм, а предлагает его трансцендентальное переосмысление.
2. Различие между чистым и эмпирическим знанием
Кант, И. Указ. соч. – С. 46-47.
«Познание a priori называется чистым, если к нему не примешивается ничего эмпирического» (B3).
Кант приводит примеры чистого априорного знания (математика, логика) в отличие от естествознания, содержащего эмпирические элементы.
Критическая интерпретация:
Стросон, П.Ф. Границы смысла. – М.: Идея-Пресс, 2004. – С. 95.
«Кант ошибочно считал, что математика полностью априорна – современная наука показывает её зависимость от конвенций» (с. 97).
Стросон оспаривает кантовское понимание априорности с позиций аналитической философии.
II. Априорное знание и его критерии
1. Всеобщность и необходимость как признаки априорности
Кант, И. Указ. соч. – С. 48-49.
«Если какое-то суждение мыслится как строго всеобщее, т.е. так, что невозможно ни малейшее исключение, то оно не происходит из опыта» (B4).
Кант утверждает, что универсальность и необходимость – критерии априорного знания.
Историко-философский контекст:
Кассирер, Э. Жизнь и учение Канта. – СПб.: Университетская книга, 1997. – С. 180.
«Кант впервые показал, что априорные формы – не врожденные идеи, а условия конституирования опыта» (с. 182).
2. Синтетические суждения a priori
Кант, И. Указ. соч. – С. 52-54.
«Во всех теоретических науках разума содержатся синтетические суждения a priori как принципы» (B14).
Введение ключевого понятия синтетического априори, расширяющего знание независимо от опыта.
Феноменологическая интерпретация:
Гуссерль, Э. Критическая философия Канта. – М.: Академический проект, 2011. – С. 460.
«Кант предвосхитил проблему интенциональности: синтетическое априори – это связь между сознанием и миром» (с. 462).
III. Трансцендентальное знание и критика метафизики
1. Понятие трансцендентального
Кант, И. Указ. соч. – С. 60-62.
«Я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов» (B25).
Онтологическая интерпретация:
Хайдеггер, М. Кант и проблема метафизики. – СПб.: Владимир Даль, 1997. – С. 110.
«Трансцендентальное у Канта – это раскрытие временности как горизонта понимания» (с. 112).
2. Критика догматической метафизики
Кант, И. Указ. соч. – С. 70-72.
«Догматический метод без предварительного исследования возможностей человеческого разума ведет к иллюзиям» (BXXXV).
Современная оценка:
Гудинг-Уильямс, Р. Кант и проблема метафизического познания. – Cambridge UP, 2001. – P. 60.
«Кант не уничтожает метафизику, а переводит её в критическое русло» (p. 62).
IV. Задачи философии после «Критики»
Три фундаментальных вопроса
Кант, И. Указ. соч. – С. 832.
«Все интересы моего разума объединяются в трех вопросах: 1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. На что я могу надеяться?» (B833).
Антропологическая интерпретация:
Бахтин, М.М. Философия поступка. – М.: Русские словари, 2003. – С. 50.
«Кантовские вопросы – не абстракции, а экзистенциальные проблемы человека» (с. 52).
V. Структура человеческого познания в трансцендентальной философии Канта
1. Чувственность и рассудок как два ствола познания
Кант, И. Критика чистого разума. – С. 78-80.
"Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий слепы" (B75).
Кант вводит фундаментальное разделение познавательных способностей на:
– Чувственность (получает созерцания)
– Рассудок (мыслит через понятия)
Патнэм, Х. Разум, истина и история. – М.: Логос, 2002. – С. 112.
"Кантовское разделение предвосхитило современные дискуссии о соотношении сенсорных данных и концептуальных схем" (с. 115).
2. Априорные формы чувственности: пространство и время
Кант, И. Указ. соч. – С. 82-85.
"Пространство не есть эмпирическое понятие, выводимое из внешнего опыта" (B38).
Кант доказывает, что пространство и время – не объективные реальности, а субъективные формы чувственности.
Критическая интерпретация:
Рассел, Б. История западной философии. – М.: Академический проект, 2009. – С. 670.
"Кантовская теория пространства была опровергнута неевклидовой геометрией" (с. 672).
Ответ на критику:
Фридман, М. Кант и точные науки. – М.: Языки славянской культуры, 2017. – С. 95.
"Трансцендентальный статус пространства у Канта относится не к физическому, а к феноменальному пространству опыта" (с. 98).
VI. Категории рассудка и их роль в познании
1. Таблица категорий
Кант, И. Указ. соч. – С. 106-108.
"Эти понятия рассудок черпает не из природы, а предписывает её" (B159).
Кант выделяет 12 категорий, организующих опыт (количество, качество, отношение, модальность).
Пипер, А. Кантовская теория опыта. – М.: Канон+, 2015. – С. 134.
"Категории можно рассматривать как систему базовых когнитивных операций" (с. 136).
2. Трансцендентальная дедукция категорий
Кант, И. Указ. соч. – С. 130-135.
"Многообразное в созерцании необходимо подчинено категориям" (B143).
Сложнейший раздел, где Кант доказывает объективную значимость категорий для всякого возможного опыта.
Аналитическая интерпретация:
Строуд, Б. Значение трансцендентальной дедукции. – В кн.: Кант и современная философия. – М.: РОССПЭН, 2014. – С. 89.
"Дедукция устанавливает необходимые условия для возможности самосознания" (с. 92).
VII. Границы человеческого разума
1. Трансцендентальные иллюзии
Кант, И. Указ. соч. – С. 350-355.
"Разум впадает в иллюзии, когда пытается выйти за пределы возможного опыта" (B352).
Критика традиционной метафизики (рациональной психологии, космологии, теологии).
Прагматическая интерпретация:
Рорти, Р. Философия и зеркало природы. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1997. – С. 156.
"Кант показал, что метафизические вопросы – это не вопросы о мире, а о нашем способе его описания" (с. 159).
2. Проблема вещи-в-себе
Кант, И. Указ. соч. – С. 120-125.
"Мы познаем не вещи, каковы они сами по себе, а лишь их явления нам" (B59).
Один из самых спорных моментов кантовской философии – непознаваемая реальность за пределами опыта.
Диалектическая интерпретация:
Гегель, Г.В.Ф. Наука логики. – М.: Мысль, 1999. – Т. 1. – С. 78.
"Вещь-в-себе – это пустая абстракция, снятая в процессе диалектического познания" (с. 81).
VIII. Значение «Критики чистого разума» для современной философии
1. Влияние на последующую философскую традицию.
Бубнер, Р. Современная немецкая философия. – М.: Весь мир, 2007. – С. 45.
"Все значительные философские течения XIX-XX веков определялись своим отношением к Канту" (с. 48).
2. Кант и проблемы современной эпистемологии.
Современные исследования:
Макдауэлл, Дж. Разум и мир. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. – С. 201.
"Кантовская проблема соотношения концептуального и неконцептуального остается центральной для современной теории познания" (с. 205).
Заключение: актуальность кантовской философии.
Критическая философия Канта сохраняет свою значимость благодаря:
1. Глубокому анализу условий возможности познания.
2. Разработке трансцендентального метода.
3. Постановке фундаментальных вопросов о границах человеческого разума.
Перспективные направления дальнейшего исследования:
– Сравнительный анализ кантовского трансцендентализма и современной когнитивной науки.
– Переосмысление кантовской этики в контексте современных моральных проблем.
– Анализ эстетических идей Канта в свете современной философии искусства.
"Звездное небо над головой и моральный закон во мне" (Кант) продолжают вдохновлять философские искания в XXI веке.
Для дальнейшего исследования рекомендуется:
– Углубиться в анализ трансцендентальной дедукции категорий
– Рассмотреть связь теоретической и практической философии Канта
– Изучить современные дискуссии о природе априорного знания
Часть первая. Трансцендентальное учение о началах.
Раздел первый. Трансцендентальная эстетика.
§ 1.
Каким бы образом и при помощи каких бы средств ни относилось познание к предметам, непосредственное отношение к ним и то, к чему как к цели стремится всякое мышление, есть созерцание. Оно имеет место лишь постольку, поскольку предмет нам дан; а это, в свою очередь, возможно (по крайней мере для нас, людей) только благодаря тому, что предмет определенным образом воздействует на нашу душу.
Способность (восприимчивость) получать представления тем способом, каким предметы воздействуют на нас, называется чувственностью. Следовательно, посредством чувственности предметы нам даются, и только она доставляет нам созерцания; рассудком же предметы мыслятся, и из него возникают понятия.
Всякое мышление, однако, должно прямо (непосредственно) или косвенно (опосредованно) через определенные признаки в конечном счете относиться к созерцаниям, стало быть, у нас – к чувственности, потому что никаким иным образом предметы не могут нам быть даны.
Воздействие предмета на способность представления, поскольку мы подвергаемся воздействию со стороны его, есть ощущение. То созерцание, которое относится к предмету посредством ощущения, называется эмпирическим. Неопределенный предмет эмпирического созерцания называется явлением.
В явлении я называю материей то, что соответствует ощущению, а формой – то, благодаря чему многообразное в явлении может быть упорядочено в определенных отношениях.
Так как то, в чем только и могут быть упорядочены ощущения и приведены в определенную форму, само не может быть в свою очередь ощущением, то, хотя материя всех явлений дана нам только a posteriori, форма их должна целиком a priori пребывать в душе и потому может рассматриваться отдельно от всех ощущений.
Я называю чистыми (в трансцендентальном смысле) все представления, в которых нет ничего, принадлежащего к ощущению. Соответственно, чистая форма чувственных созерцаний вообще будет a priori обнаруживаться в душе, в которой все многообразное явлений созерцается в определенных отношениях.
Эта чистая форма чувственности сама будет называться чистым созерцанием. Так, если я отделю от представления о теле то, что рассудок мыслит о нем, – например, субстанцию, силу, делимость и т. д., а также то, что принадлежит к ощущению, – например, непроницаемость, твердость, цвет и т. д., то от этого эмпирического созерцания еще останется нечто, а именно протяженность и образ. Это принадлежит к чистому созерцанию, которое a priori, даже без действительного предмета чувств или ощущения, пребывает в душе как чистая форма чувственности.
Науку о всех принципах чувственности a priori я называю трансцендентальной эстетикой.
Таким образом, должна существовать такая наука, составляющая первую часть трансцендентального учения о началах, в противоположность той, которая содержит принципы чистого мышления и называется трансцендентальной логикой.
Немцы – единственные, кто теперь употребляет слово «эстетика» для обозначения того, что другие называют критикой вкуса. Здесь лежит неудачная надежда, которую питал превосходный аналитик Баумгартен, – подвести критическую оценку прекрасного под принципы разума и возвести ее правила в науку. Однако эти усилия тщетны. Ибо указанные правила или критерии по своим важнейшим источникам суть лишь эмпирические и потому никогда не могут служить определенными a priori законами, которым должно было бы подчиняться наше суждение вкуса; напротив, само это суждение есть подлинная проверка правильности этих критериев. Поэтому целесообразно или вовсе отказаться от этого названия и сохранить его за той наукой, которая является истинным знанием (чем мы также приблизились бы к языку и понятиям древних, у которых было знаменитое разделение познания на aistheta kai noeta), или разделить это название со спекулятивной философией и понимать эстетику отчасти в трансцендентальном смысле, отчасти в психологическом значении.
Итак, в трансцендентальной эстетике мы прежде всего изолируем чувственность, отделив все, что мыслит рассудок посредством своих понятий, так чтобы осталось только эмпирическое созерцание.
Во-вторых, мы отделим от этого созерцания все, что принадлежит к ощущению, так чтобы остались только чистое созерцание и простая форма явлений – единственное, что чувственность может дать a priori.
При этом исследовании окажется, что существуют две чистые формы чувственного созерцания как принципы a priori познания, а именно пространство и время, рассмотрением которых мы теперь и займемся.
Трансцендетальная эстетика.
Глава первая. О пространстве.
§ 2. Метафизическое изъяснение этого понятия.
Посредством внешнего чувства (свойства нашей души) мы представляем себе предметы как находящиеся вне нас и притом всегда в пространстве. В нем определены или могут быть определены их образ, величина и отношение друг к другу.
Внутреннее чувство, посредством которого душа созерцает самое себя или свое внутреннее состояние, не дает, правда, созерцания самой души как объекта, однако оно есть определенная форма, при которой только и возможно созерцание ее внутреннего состояния, так что все, что принадлежит к внутренним определениям, представляется в отношениях времени.
Внешне время не может быть созерцаемо так же, как и пространство, будто оно нечто в нас.
Что же такое пространство и время? Суть ли они действительные сущности? Или только определения или даже отношения вещей, но такие, которые принадлежали бы им самим по себе, даже если бы они и не созерцались? Или же они суть такие определения, которые присущи только форме созерцания и, следовательно, субъективному свойству нашей души, без которого эти предикаты не могут быть приписаны ни одной вещи?
Чтобы разъяснить это, рассмотрим сначала понятие пространства.
Под изъяснением (expositio) я разумею ясное (хотя и не подробное) представление того, что принадлежит к понятию; метафизическим же изъяснение бывает, когда оно содержит в себе то, что представляет понятие как данное a priori.
1. Пространство не есть эмпирическое понятие, выводимое из внешнего опыта.
Ибо для того чтобы определенные ощущения относились к чему-то вне меня (то есть к чему-то в другом месте пространства, чем то, где я нахожусь), и точно так же для того чтобы я мог представлять их как находящиеся вне и рядом друг с другом, следовательно, не только как различные, но как находящиеся в разных местах, для этого уже должно лежать в основе представление о пространстве.
Следовательно, представление о пространстве не может быть заимствовано из отношений внешнего явления через опыт, но, напротив, этот внешний опыт сам возможен только благодаря этому представлению.
2. Пространство есть необходимое a priori представление, лежащее в основе всех внешних созерцаний.
Никогда нельзя себе представить, чтобы пространства не было, хотя можно легко мыслить, что в нем нет никаких предметов.
Поэтому оно рассматривается как условие возможности явлений, а не как зависящее от них определение, и есть a priori представление, необходимо лежащее в основе внешних явлений.
3. Пространство есть не дискурсивное, или, как говорят, общее понятие об отношениях вещей вообще, а чистое созерцание.
Во-первых, можно представить себе только одно пространство, и если говорят о многих пространствах, то под ними разумеют лишь части одного и того же единого пространства.
Эти части не могут предшествовать единому всеохватывающему пространству как его составные элементы (из которых было бы возможно его сложение), а могут мыслиться только в нем.
Оно по существу едино; многообразное в нем, а следовательно, и общее понятие о пространствах вообще основывается исключительно на ограничениях.
Отсюда следует, что в отношении пространства a priori созерцание (не эмпирическое) лежит в основе всех понятий о нем.
Так и все основоположения геометрии, например, что в треугольнике две стороны вместе больше третьей, никогда не выводятся из общих понятий о линии и треугольнике, а из созерцания, и притом a priori с аподиктической достоверностью.
4. Пространство представляется как бесконечная данная величина.
Хотя всякое понятие надо мыслить как представление, которое содержится в бесконечном множестве различных возможных представлений (как их общий признак) и потому охватывает их под собой, однако ни одно понятие как таковое нельзя мыслить так, будто оно содержит в себе бесконечное множество представлений.
Тем не менее пространство мыслится именно так (ибо все части пространства бесконечны и существуют одновременно).
Следовательно, первоначальное представление о пространстве есть a priori созерцание, а не понятие.
§ 3. Трансцендентальное изъяснение понятия о пространстве
Под трансцендентальным изъяснением я разумею объяснение понятия как принципа, из которого можно усмотреть возможность других синтетических a priori знаний.
Для этого требуется:
1) чтобы такие знания действительно вытекали из данного понятия;
2) чтобы эти знания были возможны только при допущении данного способа объяснения этого понятия.
Геометрия есть наука, определяющая свойства пространства синтетически и тем не менее a priori.
Что же должно быть представление о пространстве, чтобы такое знание о нем было возможным?
Оно должно быть первоначально созерцанием; ибо из одного лишь понятия нельзя вывести положения, выходящие за пределы этого понятия, как это происходит в геометрии («Введение», V).
Но это созерцание должно быть a priori, то есть находиться в нас до всякого восприятия предмета, следовательно, быть чистым, а не эмпирическим созерцанием.
Ибо геометрические положения все аподиктичны, то есть связаны с сознанием их необходимости, например: пространство имеет только три измерения; но подобные положения не могут быть эмпирическими или суждениями опыта, равно как и выводиться из них («Введение», II).
Каким же образом может существовать в душе внешнее созерцание, которое предшествует самим предметам и в котором понятие о них может быть определено a priori?
Очевидно, не иначе как поскольку оно имеет свое местопребывание только в субъекте как формальное свойство последнего – подвергаться воздействию предметов и таким образом получать непосредственное представление о них, то есть созерцание; следовательно, только как форма внешнего чувства вообще.
Таким образом, только наше объяснение делает понятной возможность геометрии как синтетического a priori познания.
Всякий иной способ объяснения, если он даже внешне сходен с нашим, может быть надежно отличен от него по этому признаку.
Выводы из вышеизложенных понятий.
a) Пространство вовсе не является свойством каких-либо вещей самих по себе или их отношением друг к другу, то есть не представляет собой определение, присущее самим объектам и сохраняющееся, даже если отвлечься от всех субъективных условий созерцания. Ни абсолютные, ни относительные определения не могут быть восприняты a priori до существования вещей, которым они принадлежат.
b) Пространство – это не что иное, как форма всех явлений внешних чувств, то есть субъективное условие чувственности, при котором только и возможно для нас внешнее созерцание. Поскольку способность субъекта воспринимать воздействия от объектов необходимо предшествует всем созерцаниям этих объектов, можно понять, почему форма всех явлений дана a priori в сознании до всякого реального восприятия и почему она, будучи чистым созерцанием, в котором все объекты должны определяться, содержит принципы их отношений до всякого опыта.
Следовательно, мы можем говорить о пространстве, протяженных существах и т. д. только с человеческой точки зрения. Если отвлечься от субъективного условия, при котором мы получаем внешнее созерцание (а именно от того, что объекты воздействуют на нас), то представление о пространстве не будет иметь никакого значения. Это свойство приписывается вещам лишь постольку, поскольку они являются нам, то есть являются объектами чувственности. Постоянная форма этой восприимчивости, которую мы называем чувственностью, есть необходимое условие всех отношений, в которых объекты созерцаются как находящиеся вне нас, а если отвлечься от этих объектов – чистое созерцание, именуемое пространством.
Поскольку мы не можем превращать особые условия чувственности в условия возможности самих вещей, а лишь в условия их явлений, мы вправе утверждать, что пространство охватывает все вещи, которые могут являться нам внешне, но не все вещи сами по себе – независимо от того, созерцаются они или нет, и кем бы они ни созерцались. Ведь мы не можем судить об интуициях других мыслящих существ и о том, подчинены ли они тем же условиям, которые ограничивают наше созерцание и для нас общезначимы.
Если мы добавим ограничение к понятию субъекта, то суждение становится безусловным. Например, утверждение «Все вещи находятся рядом в пространстве» справедливо лишь при условии, что эти вещи берутся как объекты нашего чувственного созерцания. Но если я добавлю это условие и скажу: «Все вещи, как внешние явления, находятся рядом в пространстве», то это правило становится общезначимым и без ограничений.
Таким образом, наши рассуждения доказывают:
– реальность пространства (т. е. его объективную значимость) в отношении всего, что может являться нам как внешний объект,
– но одновременно идеальность пространства в отношении вещей, рассматриваемых разумом самих по себе, то есть без учета нашей чувственности.
Мы утверждаем эмпирическую реальность пространства (в отношении всего возможного внешнего опыта), но вместе с тем его трансцендентальную идеальность – то, что оно есть ничто, как только мы отвлекаемся от условий возможности всякого опыта и рассматриваем его как нечто, присущее вещам самим по себе.
Нет иного субъективного представления, относящегося к чему-то внешнему, которое могло бы называться a priori объективным, кроме пространства. Только из пространственного созерцания можно выводить синтетические положения a priori. Поэтому (строго говоря) никакой идеальности им не присуще, хотя они и схожи с представлением пространства в том, что принадлежат лишь к субъективным свойствам чувственного восприятия – например, зрения, слуха, осязания (через ощущения цвета, звука, тепла). Но поскольку это лишь ощущения, а не созерцания, они сами по себе не позволяют познать объект, тем более a priori.
Цель этого замечания – предостеречь от попыток пояснить идеальность пространства с помощью совершенно недостаточных примеров, вроде того, что цвета, вкусы и т. п. справедливо считаются не свойствами вещей, а лишь изменениями нашего субъекта, которые могут даже различаться у разных людей. В таком случае то, что изначально само является лишь явлением (например, роза), в эмпирическом смысле принимается за вещь саму по себе, хотя в отношении цвета она может казаться разной каждому глазу.
Напротив, трансцендентальное понятие явлений в пространстве – это критическое напоминание о том, что:
– ничто из созерцаемого в пространстве не есть вещь сама по себе,
– пространство – не форма вещей, присущая им самим по себе,
– объекты сами по себе нам вовсе не известны,
– то, что мы называем внешними объектами, есть лишь представления нашей чувственности, формой которой является пространство,
– их истинный коррелят (т. е. вещь сама по себе) через это не познается и не может быть познан,
– но в опыте о нём никогда и не спрашивают.
Трансцендентальная эстетика.
Глава вторая. О времени.
§ 4. Метафизическое истолкование понятия времени
1. Время – не эмпирическое понятие, выводимое из какого-либо опыта. Ведь одновременность или последовательность не могли бы быть восприняты, если бы представление времени не лежало в их основе a priori. Только при этом условии можно представить, что нечто существует в одно и то же время (одновременно) или в разное время (последовательно).
2. Время – необходимое представление, лежащее в основе всех созерцаний. В отношении явлений вообще нельзя устранить само время, хотя можно мысленно убрать из него все явления. Следовательно, время дано a priori. Только в нём возможна вся реальность явлений. Они могут исчезнуть, но само время (как общее условие их возможности) не может быть устранено.
3. На этой априорной необходимости основывается возможность аподиктических принципов об отношениях времени или аксиом времени вообще. Например:
– Время имеет лишь одно измерение: разные времена не одновременны, а следуют друг за другом (тогда как разные пространства не следуют друг за другом, а сосуществуют).
Эти принципы нельзя вывести из опыта, ибо он не дал бы ни строгой всеобщности, ни аподиктической достоверности. Мы могли бы лишь сказать: «Так учит обычное восприятие», но не: «Так должно быть». Эти принципы действуют как правила, при которых вообще возможен опыт, и учат нас до опыта, а не из него.
4. Время – не дискурсивное (общее) понятие, а чистая форма чувственного созерцания. Разные времена – лишь части одного и того же времени. Представление, которое может быть дано только через единичный объект, есть созерцание. Да и положение «Разные времена не могут быть одновременны» нельзя вывести из общего понятия. Оно синтетично и не возникает из одних лишь понятий. Оно непосредственно содержится в созерцании и представлении времени.
5. Бесконечность времени означает лишь то, что всякая определённая величина времени возможна только через ограничение единой лежащей в основе времени. Поэтому исходное представление времени должно быть дано как неограниченное. Если части и всякая величина объекта могут быть представлены только через ограничение, то целое представление не может быть дано через понятия (ибо они содержат лишь частичные представления), а должно основываться на непосредственном созерцании.
§ 5. Трансцендентальное истолкование понятия времени.
Я могу сослаться на пункт 3, где я, ради краткости, включил собственно трансцендентальное рассмотрение в метафизическое истолкование. Добавлю лишь, что понятие изменения (а с ним и понятие движения как изменения места) возможны только через и в представлении времени. Если бы это представление не было a priori (внутренним) созерцанием, то никакое понятие, каким бы оно ни было, не могло бы сделать мыслимым возможность изменения – то есть соединения противоречащих предикатов (например, нахождение вещи в определённом месте и её отсутствие в том же месте) в одном и том же объекте. Только во времени можно обнаружить два противоречащих определения в одной вещи, а именно – последовательно.
Таким образом, наше понятие времени объясняет возможность многих синтетических знаний a priori, как, например, в общей теории движения, которая весьма плодотворна.
§6 Выводы из этих понятий.
a) Время не является чем-то, что существовало бы само по себе или было бы объективным определением вещей, оставаясь даже если отвлечься от всех субъективных условий их созерцания. В первом случае оно было бы чем-то действительным без всякого действительного объекта. Что касается второго случая, то время, как определение или порядок, присущий самим вещам, не могло бы предшествовать объектам в качестве их условия и познаваться априори через синтетические суждения. Однако последнее вполне возможно, если время – не что иное, как субъективное условие, при котором в нас могут происходить все созерцания. В таком случае эта форма внутреннего созерцания может быть представлена до объектов, то есть априори.
b) Время есть не что иное, как форма внутреннего чувства, то есть созерцания нас самих и нашего внутреннего состояния. Оно не может быть определением внешних явлений: оно не относится ни к форме, ни к положению и т. д., но определяет отношение представлений в нашем внутреннем состоянии. И поскольку это внутреннее созерцание не дает образа, мы пытаемся восполнить этот недостаток с помощью аналогий, изображая временную последовательность бесконечной линией, в которой многообразное образует одномерный ряд, и заключаем от свойств этой линии ко всем свойствам времени – за исключением того, что части линии существуют одновременно, а части времени – всегда последовательно. Отсюда также ясно, что представление времени само есть созерцание, поскольку все его отношения могут быть выражены во внешнем созерцании.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе