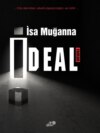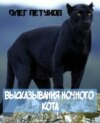Читать книгу: «Проект Лумумба», страница 2
В начале лета 1961 года, поехали мы к отцовской тётке, в Сухуми. С бабушкой, на поезде. Спустя примерно недели через три – к нам подъехали из Баку и папаня с маманей. С ними, за компанию, приехал и сотрудник отцова предприятия, с женой. А сотрудник этот – Николай, работал ранее, водителем данной бэхи. Вот, поэтому и был он приглашён в турне. Папахен, тогда ещё не сильно овладел мастерством управления. А главное – содержания этого раритета, «на ходу». А Николай, проехал за рулём, все 400 тысяч километров государственного пробега. Упоминаемого образца, немецкого, автопрома. Он лучше всех, знал его «болезни». Но, из всех конструктивных огрехов, заметен был лишь один. Это «прямозубые» – первая и вторая скорости. На «задней», специфическое гудение прямозубой пары не ощущалось. Потому, что – «задом наперёд», автомобиль едет довольно редко. И недалеко… Всё остальное, было вполне «на уровне». Во многом, даже, выше! Централизованная смазка всей ходовой, за исключением двух крестовин кардана – не была успешно реализована, ни на одной машине советского автопрома. А на «бэхе», стоило несколько раз качнуть ногой педаль, смазочного насоса. Слева, от входа рулевой колонки в пол. Так и надобность, лазить под машиной, со шприцем – отпадала. «Реечное» рулевое управление, делало автомобиль очень чувствительным, в поворотах. Как на «формуле»! «Сотовый» радиатор водяного охлаждения, не давал возможности «закипеть» двигателю. Ни при каких, крутых и затяжных подъёмах. «В подъём», хуже всех ходила «Победа». «По прямой» нас могла «достать» только «Волга» ГАЗ-21. Но, ближе к 120-ти, она начинала «взлетать». И терять управление. Аэродинамика подводила, беднягу. А нашу, наоборот… После сотни – «плющило» к полу. С ЗИМом, никогда не «гонялись». Ничего не могу сказать.
Ну, с машиной – понятно. Неискушённые в этой теме, даже утомились читать. Поэтому, хватит о железе. Перейдём к людям. А конкретно, к отцовой тётке – Петровой Елене Васильевне. Родилась она, так же, как и брат её Сергей – в Сухуми. В самом начале прошлого века. Кем были их родители – мне не известно. Но проживали они в доме, который построили пленные немцы. Дом – красный кирпич, под черепичной крышей. На, почти метровой высоты, кирпичных сваях. Потому, что иногда – бывают там наводнения. Так что без подвала. Дом, не на набережной, а на второй, от моря, улице. Возможно, я ошибаюсь, но улица называлась тогда – ул. Кирова. Дом 25, или 27. Забегая вперёд, скажу, что мой отец продал этот дом, в 1976-м. Проживал-то он в Баку. Приехал в Сухуми, на похороны тётушки. Она одна жила. Отец с ней не общался. С тех пор, как понял, в середине 60-ых, что некоторый денежный должок, он ей вернуть не сможет. Что за сумма?? Да вот, на покупку всё той же «бэхи» … Думал, что получится, но… Не тут-то было! Семья, двое детей, сам – инженер, жена – тоже. По 120 руб. в месяц. Плюс, бабушкина пенсия 85 руб. При таком доходе, возврат долга тётке – как-то не планировался. Не общались, короче. Но, в упомянутом 76-ом, отца вызвали в Сухуми. Тёткины соседи. А тётки-то, уже и нет. Но есть завещание. На отца и на меня. А я в это время, срочную службу служил. Под Кировабадом. В Ханларе, в войсках ПВО. Папаша, по телефону, объяснил мне ситуацию. Спросил: «Что делать будем?». Я никогда не задумывался, как живут люди в одном населённом пункте, но ещё имеют жильё и в другом месте. Поэтому, отец спросил прямо: «Ты в Сухуми хочешь жить, или в Баку? И там, и здесь – не получится! Решай.» «Чего тут думать, конечно – в Баку!» – ответил я. «Тогда, дом я продаю» – вынес вердикт папа. И продал. По-быстрому. С потерями, конечно, но «в целом» – нормально. Кому продал-то?? Вот, непосредственно – городскому прокурору и продал!
Подробнее, о тётушке отцовой – о Елене Васильевне. Дома, в быту – именовалась она Лёлей. Так что в кругу моих родственников, было две тёти Лёли. Одна – отца тётя, другая – тётя матери. Какая из них, была колоритнее – вопрос, конечно, сложный… Сухумская тётя Лёля, в ранней ещё молодости, без родительского благословения, самовольно – закрутила роман с каким-то прибалтийским дипломатом. И сбежала, с ним. Вышла замуж и забыла, про отчий дом. В Сухуми… Вот латвийским дипломатом, или эстонским, был тётин Лёлин муж – Филипп Калиот \или Калеот\, мне неизвестно. Известно лишь то, что с приходом советской власти в Прибалтику, бедолага Филипп был расстрелян. А жена его, тётя Лёля Петрова-Калиот, была отправлена, куда-то в Сибирь. Но, не в концлагерь, а на вольное поселение. В какую-то деревуху. Где и пребывала она, с конца тридцатых – и до середины пятидесятых, годов. Жизнь там была нелёгкая, но сельские местные, её уважали. Было ли у неё, ещё какое-либо образование, кроме Института благородных девиц – мне не известно. Но несколькими европейскими языками, она владела. И кулинарить умела отменно. Также, была хорошей спортсменкой. В этих «сибирях», она дважды проваливалась, под лёд. Зимой. При переходе реки. И оба раза, ей удавалось выплыть, из-подо льда. Что удавалось редкому мужчине-сибиряку. Сельские женщины её уважали: она им и кулинарные рецепты, диковинные показывала, и шить, и вязать не «по-сибирскому», обучала. Так вот и проходили сибирские будни тёти Лёли. Отпустили её, только, после смерти Берии. Тогда массово освобождали репрессированных.
Вернулась тётя Лёля, не в отчий дом, в Сухуми. А приехала туда, откуда её забрали. Толи – в Ригу, толи – в Таллин… Не обессудьте, уточнить мне – уже не у кого. Нашла там женщину, которая у них работала, «по дому». Наёмная работница, короче. Не хочется писать – «прислуга» … И эта женщина, по прошествии, более полутора десятка лет, говорит бывшей хозяйке: «Вот, Елена – мне удалось спасти вот эти, эти, и эти – ваши вещи. Из числа мебели, посуды и одежды! Когда те, которые вас увезли – вернулись, на следующий день. И взялись, выносить вещи, я начала скандалить: «Вы, куда – моё имущество тащите?? Это моё, и это – моё, мне бывшая хозяйка – всё это подарила! А я – пролетарий, меня нельзя раскулачивать! Я сейчас жаловаться пойду! К вашему начальству!». Те, носом «покрутили-покрутили», по телефону «позвонили-позвонили». Да и ушли. Более, никто, с тех пор не появлялся. За всё это время… Ошарашенная тётя Лёля, понемногу стала приходить в себя: «А, остался ли чемоданчик-несессер, зелёного цвета? Что с машиной, был «в комплекте? Там, всякие кружки-ложки, тарелки зелёные, пластиковые были? Для пикников, на природе?». А дело в том, что Филипп, каждые два года, менял автомобиль «Форд». На новую модель. Но всегда, все авто были зелёные. С чем это было связано, не уточнялось. Так вот, чемоданчик этот не находился в машине. На момент конфискации… А, по обычаю, заведённым Филиппом – лежал в углу платяного шкафа, или «гардероба». Вот и уцелел, этот несессер, с кружками и тарелками. Что и было предъявлено, изумлённой тёте Лёле. А вот теперь – самое интересное!!! Хозяйка «имущества» взялась, за один, из двух, зелёных, небольших, китайских термосов. Находившихся в чемоданчике. И открутила ту часть конструкции, которая удерживала стеклянную колбу термоса. Внутри внешнего, металлического корпуса. Каковы были эмоции отцовой тётушки, когда она увидела, что та долларовая «заначка», которой они с Филиппом обмотали колбу термоса – цела и невредима?? И в одном термосе, и в другом! А бывшая "домработница", взяла и отвернулась. Молча…
Как долго и о чём, говорили эти две женщины, известно было только им. Фактическая сторона, оказалась таковой: Елена Васильевна приехала в отчий дом. В Сухуми. К тому времени, Сергей – её брат и отец моего отца, уже вернулся с фронта. Где был ранен, но отлежался в госпиталях. Демобилизовался он, незадолго до окончания войны. Отпустили его «по ранению». Но, жив остался. Повезло. Слегка отдохнув, Сергей Васильевич, вновь, устроился на работу. По своей специальности. До войны, он трудился бухгалтером. По странному совпадению, отец моей маман – также был бухгалтером. И даже, главным! На границе, с Афганистаном. В населённых пунктах: Мары, Иолотань. На реке Пяндж и в её окрестностях, он занимался такой важной сферой, как «потребкооперация». То бишь, торговля… Причём – приграничная! Это очень интересная сфера «межличностных коммуникаций». На границе-то… А вот, Сергей Васильевич, проживая в Сухуми – выдающимся коммерсантом не был. Был он, средней руки, бухгалтером. Человек, нрава спокойного – после ранения и госпиталей, довольствовался зарплатой. Бабушка моя, жена Сергея – после войны приболела. Но это отдельная тема, с медицинским уклоном. Об этом, расскажу позднее. Отчасти, выводы мои о состоянии бабушкиного здоровья – они, эти выводы, не являются профессиональными. Потому что я, не врач. Но болею, сам. Видимо, той же болезнью. Которая и передалась мне, генетически. Как я думаю… Болезнь эта не смертельная, она хроническая. Но – неизлечимая. О болезнях, позднее… Продолжим о содержимом зелёных термосов. Какова была общая обстановка в стране, в середине 50-х годов прошлого века, уточнять не буду. Хотя, думается мне, что точнее слов Аркадия Райкина, не найти: «Словом, обстановка была мерзопакостная». На момент, своего возвращения в Сухуми – тётя Лёля уже не застала там ни жены, ни сына своего брата Сергея. Моя бабушка уже развелась с мужем и забрав сына Юрия, вернулась в Баку. В отчий дом.
Годам, к 50-ым, по окончании школы, папаня мой оказался в Баку. В квартире, в которой ранее, проживала его мама. С самого, своего рождения. И до тех пор, пока Сергей Василиевич, не увёз её в свой Сухуми. Переезд в другую национальную республику, это лишь на первый взгляд – совершенно безболезненная тема. На самом деле, не всё так просто… Сильным стабилизатором, здесь выступает русский язык. Население той, или иной республики, лучше, или хуже, но русским языком владеет. Но, не всё так ясно – бывает ребёнку. Ему нужны дополнительные разъяснения. Помнится, как папаня делился, со мной, своими школьными воспоминаниями. В бытность мою, ещё в начальной школе: «Нет, ну зачем нам, живущим в Абхазии, этот грузинский язык? Эта, никому не понятная письменность, ну зачем? Да этот грузинский, только, к экзаменам ближе, мы и начинали «учить-учить». В быту, этого языка и не слышно было». Для меня, этот момент был странным. Вдвойне. Наша ситуация, в Баку, была иной. Грузинский, а тем более, абхазский языки – были от меня несколько ближе, чем китайский, например. Но непонятны равностепенно. Более всего, поразила та эмоциональность, с которой папа мне толковал, о своих школьных затруднениях. В части региональной лингвистики. Видимо, детские воспоминания, оставили свой неизгладимо глубокий след, в папиной памяти. В части хитросплетений межнациональной политики. Того периода. В моём детстве, русский язык был практически единственным, используемым, в быту. Правда, он не был рафинированно чистым, как у теле- или радиодикторов. Присутствие массы, специфических, местных жаргонизмов, в бытовой, разговорной речи – особенным «моветоном» не считалось. Конечно, таким языком не разговаривали на официальных, или подобных таковым, мероприятиях. Но не владение русским языком – считалось явным признаком бескультурья и «дремучести». Но, тем не менее, школы с азербайджанским преподаванием, существовали. Их было меньше, но они были. Выбор, между русским и азербайджанским, вариантами обучения – производили сами родители. В ВУЗах, также существовал азербайджанский сектор. Но, здесь – количество студентов, одной специальности, было равным. Во всяком случае, в том институте, где проучились мои папа-мама, а впоследствии – и я сам.
Возвращаемся в Сухуми 1961-го года. На фото с автомобилем /номерной знак 56-17 ИУ/, слева направо – Петрова Елена Ильинична, в девичестве Суслова /моя бабушка по отцу/, Вера Васильевна Петрова и её сестра Елена Васильевна Петрова. В кепке, и с инжиром в руках – Николай Мясников. Бывший водитель, этого чуда немецкого автопрома. А я, на этом фото – отсутствую. Потому, что объелся инжира, в тёти Лёлином саду. И страдал остро, в связи с этим. Но поездка, в общем, мне очень понравилась. Масса впечатлений! Был совершен первый «поход на рыбалку». В городской черте Сухуми – протекает речка Сухумка. И впадает в Чёрное море. Но «консультантом», по подготовке к рыбалке – была моя любимая, бакинская бабушка. Которая хорошо разбиралась в школьном курсе математики. Что она и преподавала. А вот с рыбалкой, у неё не сложилось… Поэтому, на канцелярскую скрепку и картонную блесну – рыбы не могли клюнуть. По определению. Так что первая моя рыбалка – была неуспешной. Зато, днём позднее, был совершён визит в обезьяний питомник. Вот это, было уже интереснее! Но обезьянки, взаимного интереса, к посетителям не проявляли. На людей они глядели, как-то настороженно. Покормить обезьянок, чем-либо – не удалось. Служители питомника, активно пресекали попытки посетителей. Видимо, это объяснялось тем, что заведение – не было подразделением зоопарка. Вовсе. Обезьян здесь содержали-разводили, для дальнейшего использования в медицинских, и иных экспериментах. В «космических», наверное, в том числе. Иногда, питомцам удавалось «совершить побег», из клеток. Но не часто… Однажды, это когда ещё бабушка с папой-подростком, ещё жила в Сухуми – обезьяны совершили «массовый побег». Их ловили по всему городу. Выловить-то выловили, но «братья наши меньшие» – достаточные беспорядки устроить успели. И местные жители, настороженно относились к обезьянам, побаиваясь всяческих инфекций. Кто ж его знает, какие там эксперименты ставят…
В числе других «культурно-массовых» мероприятий, которые я посетил с бабушкой – был просмотр кинофильма «Собор Парижской богоматери». В летнем кинотеатре. Содержание фильма, как-то не отложилось в памяти. Внимание сосредотачивалось на другом. Пойдёт ли дождик? Всё шло, именно к этому… Но, пронесло! Гроза началась, уже на подходе к дому. Сильное впечатление осталось у меня, от этой грозы! Дело в том, что несколько дней, я жил ожиданием прихода, в Сухумский порт корабля «Адмирал Нахимов». Анонс этого мероприятия, публиковался в местной прессе. Городок невелик и население находилось, в предвкушении. Некоего зрелища. Ну хоть, какого-нибудь… Днём – пляж, а вечером? Телевидение тогда, уже было, но скучноватое. Да и телевизоры – были не у всех. И вот, стоя у окна, в кухне, я смотрел в темноту неба. Разрываемого ослепительными вспышками молний и оглушительным грохотом грома! Освещение в кухне было специально выключено. Для придания обстановке – большего драматизма. Держась за подоконник и широко расставив ноги, я воображал себя, стоящим у руля судна. Застигнутого морским штормом. За окном, почти вплотную к дому, раскачивались, на ветру, многочисленные фруктовые деревья. Которые, в моём воображении – играли роль морских волн. За иллюминатором, воображаемого судна. Во время «плавания», мой ковчег – повреждений не получил. И «команда», нисколько, не пострадала. На этом, псевдо-морское приключение и завершилось. А спустя пару дней, судно «Адмирал Нахимов» благополучно прибыло в Сухумский порт. Конечно, мы отправились на осмотр корабля. Но, как это было – я уже и не помню…
Ничего не сказал, пока что о матери Сергея, Елены и Веры Петровых – о Пелагее Матвеевне. Видел я её дважды, или трижды. За почти месяц пребывания, в этом доме. Она предпочитала находиться уединённо, в своей комнате. Но один из случаев нашего, с ней взаимодействия, выглядел так: на полу кухни, я заметил нечто, мне неизвестное. В длину, это неизвестное – было не более спичечной коробки. И оно шевелилось. Не очень активно, но признаки жизни подавало. Неоднократно предупреждённый, о возможном столкновении с недружелюбными обитателями Сухумских пенатов, я вызвал бабушку. Она, в свою очередь, вызвала Пелагею Матвеевну. То есть – бывшую свекровь. Та, оценив ситуацию, вынула из каких-то кухонных закромов огромные ножницы. И ухватив этими ножницами, как хирург, пинцетом, фиксирует удаляемые запчасти организма, произнесла свой вердикт: «Это – скорпион!». И удалилась, держа ножницы, с трофеем на вытянутой руке. Затем, скорпион был выкинут в унитаз. И смыт водой. Бескомпромиссно! Так, я впервые, увидел живого скорпиона. Затем, в процессе дальнейшего знакомства, с этим миром – неоднократно, сталкивался с этими ядовитыми созданиями. В период своей армейской службы. На территории Азербайджана. Рядовой и сержантский состав, отлавливали их, при случае. Погружали в бензин. На неделю. В воде, эти твари не дохли. Но и признаков жизни – не подавали. По извлечении из водного, несколько суточного плена, они оживали, вновь. Поэтому – применялся бензин. Затем, пробензиненного скорпиона высушивали и заливали эпоксидным клеем. Который покупался в гражданских магазинах. Тогда, он лишь недавно появился в торговле. И не всегда бывал, в продаже. В итоге этих манипуляций – получался брелок, неотличимый, от янтарного. Со скорпионом, внутри. Такой трофей, каждый был бы рад увезти домой. Но удавалось, единицам. Слишком много факторов, должны были совпасть, воедино.
Ну, про шашлыки в сухумском саду, рассказывать не буду. Шашлыки, как шашлыки, ничего примечательного. Так и прошло моё знакомство, с Сухуми. И сухумскими родственниками. В семейной, устной летописи сохранился один, забавный эпизод. Из обратного пути, в Баку. Едем мы, едем… Самому мелкому, из всего экипажа бэхи захотелось «в туалет». Автомобиль был остановлен. Страждущий – высажен. Высаженный, на обочине дороги, посреди степи, в недоумении: «И??». Родители: «Ну ты же в туалет просился, вот мы и остановились. Чего ждём-то?». И указывают мне, на степные просторы. Я: «А горшок? Что я вам, кошка, или собачка? Горшок, где??». Каковой был выужен, из багажника. И выдан. Вот, так-то! Порядок должен быть, а не «хухры-мухры». Далее, по возвращении домой – жизнь моя продолжала течь заведённым порядком. К 8-ми часам утра, ни мамы, ни папы, уже дома не бывало. В 7.20 папаня пересекал порог квартиры. Маманя выходила чуть ранее. Отец трудился в АзНИПИнефть, на Монтино /район в Баку/, и ему хватало 40-а минут, чтобы дойти до работы. Скорым шагом. Предприятие это было, по сути – «научно-исследовательским институтом». А вот, маме надо было выехать за пределы города. И достичь посёлка Лок-Батан. Это 20 километров от Баку, южнее. Посёлок, возник ещё в начале нефтяного бума. При царе-батюшке. А при советской власти – значительно приумножился. По причине расширившихся нефтяных разработок. Название маминой организации, как мне запомнилось, по сей день – ЦНИЛ. Затем переименовалось в ЦНИПР. Изначально, центральная научно-исследовательская лаборатория, по мере придания ей ещё и производства, поменяла и название, соответственно. Из всего «лок-батанского» периода своей деятельности, мама неоднократно, рассказывала об одном случае. Я, неоднократно, впоследствии возвращался к этой теме, настолько этот случай, показался мне примечательным. И поучительным… Работавшие, в этом посёлке, местные жители столовались в централизованном пункте питания, где питались и приехавшие из города, свою «на смену».
Уборка и вывоз бытового мусора\отходов, осуществлялась ответственным предприятием, ежедневно. Другое дело, что не со всех участков, в один день. Это всё происходило. Существовала какая-то очерёдность. Соответственно и персонал-мусорщики, были задействованы, согласно своего графика. Каждый. Так вот, был там некий работник мусорной команды, с длинными, как женские – волосами. Одет он был, как и все мусорные работяги. Во что-то замызганное и грязное. Когда он приходил в общественную столовую – народ, несколько сторонился. Это днём. А когда, вечером, после работы, умытый и причёсанный, в скромной, но чистой одежде – он стоял в очереди, в кассу той же столовки, от него уже не шарахались. Более того, он привлекал общее внимание, самой культурой приёма пищи. Аккуратненько, ножичком и вилочкой, он орудовал в своей тарелке. Тётки, из числа тех, кто «сидел на кассе» и пробивали чек – потом говорили о его чистейших ногтях. Что было фантастичным, в рабочей среде. А потом, хлоп… И он пропал. Спустя лишь пару недель, поползли разговоры. А ещё спустя, было объявлено, на политзанятиях – кем был этот мусорщик. Оказалось, что этот «деятель» – был офицером иранской разведки. В приличных чинах. Из иранской образованной и небедной семьи. И поэтому, товарищам советским трудящимся – следует быть бдительнее! Враг не дремлет!!! Вот такой случай. Конца 50-х, начала 60-х. В Лок-Батане. Управление «Карадагнефть». По аналогичному, если не поэтому, случаю был анекдот: разведка одной заокеанской страны, готовит суперагента, для переброски в СССР. Агент проходит всевозможные тренинги, вплоть до отработки реакции на вводную команду «крокодил справа/слева». Агент прыгает в соответствующую сторону, и наступив крокодилу на нижнюю челюсть, руками рвёт крокодила, вдоль хребта. Ну и тому подобные тренировки… Наконец, его забрасывают, на парашюте, в центр Сибири. Зимой. Приземлившись, закапывает парашют. В лаптях, плисовых шароварах и рубахе навыпуск – он выходит к населённому пункту. С гармошкой, в руках. На окраине, бабка тащит ведро с водой, из колодца. «Бабуля, дай водички испить». «Да чего ж водички – зайди в дом!». Поев борща, хлебнув бабушкиного самогона, подумал: «Этап внедрения – пока удачен!». А бабка спрашивает: «Милок, а ты – американец??». «Конец, бабка – майор контрразведки, я сгорел!» – думает агент. Но спрашивает: «Откуда вы узнали, это?». Бабка: «Да ты ж – негр!».
Каков был мой распорядок дня, как у не посещавшего детский сад, ребёнка? В 8.30 приходила бабулечка-няня и уводила меня. На прогулку, по садикам-бульварам. В процессе прогулки – съедался сухпай, выданный бабушкой. Это яблоко, бутерброд, пряник или нечто ещё. Затем, мы приходили к нянечке домой. И, следовал однократный приём порции, манной каши. Дальнейший часовой сон. У неё дома. Манная каша, нянечкиного приготовления – была ещё более ненавистной, чем домашняя. Днём заснуть, я не мог, даже дома. Ну нет желания, у меня – спать. Средь бела дня. Значит, следовал целый час – борьбы с собой и обстоятельствами. Всё это вкупе, меня настраивало – на, несколько, раздражённую ноту. Не помню, по какому поводу, я высказал своё неудовольствие. Но, помню только, как получил подзатыльник. В этот момент, я понял, что следует инициативу брать, в свои руки. И немедленно… Вечером, родителям и бабушке – я выложил весь пакет претензий. Про отвратительную кашу, в особенности. Про то, что спать днём – я не могу, не хочу и не буду! Ни при каких условиях!! И про подзатыльник, доложил… Ну и на том, «разбор полётов» был, окончен. Следующий день, начался, как обычно. Но, по окончании прогулки, когда мы прибыли домой к нянечке и я, только-только, приступил к сражению, с ненавистной кашей – нежданно, проявилась моя маман. Не вникая в излишние разговоры, она продегустировала содержимое моей тарелки. Определив, что в каше отсутствуют молоко, сливочное масло и сахар, на приобретение которых нянечке выдавались денежные суммы, согласно калькуляции – мама объявила о разрыве нашей договоренности. Определить сумму, полагающуюся к выдаче, по причине окончательного расчёта – с налёту не удалось. Было договорено, что стороны обдумают свои позиции и встретятся в воскресенье. Будет произведён окончательный расчёт. На этом, мой контакт, с нянечкой – был окончен. Навсегда! Чему рад я был, безмерно…
По возвращении из Москвы, после обстоятельных и продолжительных рассказов, об увиденном – я, пару-тройку дней, осваивал управление игрушечным автомобилем ЗИМ. Автомобильчик мне понравился! И я, с упоением, рулил и выруливал микро-лимузин. Дав мне недельку, для акклиматизации в родной квартире, папа провозгласил свой вердикт: «Итак, ребёнку уже 5 лет. Следует начать, готовить его к школе. Чтобы не хлопал ушами, в первом классе. Впервые столкнувшись с учебным процессом. Пусть приобретёт, хоть какие-нибудь, начальные знания. До школы. Ответственной, за этот процесс – будет бабушка. Она есть бывший, школьный преподаватель. Ей и «карты в руки». Вот так и окончилась моя бесшабашная, детская жизнь. Начались суровые, учебные будни. В 8.00 – родителей, уже дома нет. Происходит «подъём». Мой и бабушки. В разных комнатах. На приведение «спального места» в порядок, умывание и первый завтрак – выделено 30 минут. В 8.30 я, уже, должен сидеть за столом. Как за школьной партой. Раскладывать букварь, тетрадку и карандаш. Через месяц, карандаш был заменен перьевой ручкой и чернильницей. Не такой чернильницей, как в школе советской – «невыливайкой». А чернильницей стационарной. Атрибутом, более или менее, «респектабельного» кабинета. С медной крышкой. Продолжительность урока – 45 минут. Перемена – 10 минут. После третьего урока – «большая перемена», 20 минут. Четвёртый урок – последний. На «большой перемене», сладкий чай с печеньем или бутербродом. Далее, как у классика: «История понеслась вскачь – звеня подковами, по черепам дураков» …
Да ничего нового нет у меня, дорогой мой Фейсбук! Новое начнётся на следующей неделе. Когда посылка дойдёт. А что в посылке, из интернет-магазина? Вот когда получу, тогда и расскажу. Чтобы никто не сглазил! Возвращаюсь в дошкольное, своё детство. Учусь я и учусь. Пишу домашние задания и контрольные. Сдаю тетрадки, на проверку. Бабушке. Которая выставляет оценки. Хорошо, хоть дневника не было… Тем не менее занятия по такой схеме – раздражения у меня, не вызывали. Равно, как и восторгов… Надо, так надо. Нисколько не перетруждаясь, я отучился «таким макаром», два года. Каникулы были, согласно школьного расписания. В итоге: верхней планкой, моего предела знаний, в части точных наук – оказалось умение, совершать четыре арифметических действия. С десятичными дробями! Дело было в том, что бабушка исходила из простой житейской истины: «грузи, пока грузится». И работала она, в школе – только, со старшеклассниками… Вот и получилось так, что курс «начальной школы» мною был уже пройден. Ещё, до поступления, в 1-ый класс. Никто бабушку и не остановил. Просто, было некому… Что имело некоторые негативные последствия. Позднее. И в чём это выразилось? А вот, в том. В свои-то 7 лет, в положенный срок – сажусь за школьную парту. В восьмилетней школе №3, города Баку. Вдруг, начинаю понимать, что я чего-то не понимаю. Меня окружают инопланетяне. Или, всё ещё хуже… Инопланетянин – я сам. Вокруг, все дети, как дети. Подвижные, позитивные. Но ни читать, ни писать – не умеют! Что меня повергло, в состояние лёгкого шока…
Но, как человечек практичный, я понял – что случилось, то и случилось. Надо расслабиться и получать удовольствие. Вот теперь и начался отдых! Никаких домашних заданий и прочей мути. Всё ведь и так известно… Ничего экстраординарного, за период, с первого и по четвёртый классы, не приключилось. Такого, что врезалось бы в память. Хотя, определённо, негативный осадочек у меня остался, от одного случая. В третьем, кажется, классе это было. Сзади меня сидели два типа, из числа непроходимых двоечников. И вот, на какой-то контрольной по арифметике, просят они, чтобы я им написал решение задачки. На бумажке. По времени, это нисколько меня не затруднило, я вполне успевал закончить и свою работу, и им написать. Урок закончился, все посдавали свои тетради училке. Прозвенел звонок – выходим, из класса. Один, из этих типов, подходит ко мне и протягивает монетку, трёхкопеечную. Я: «Что это?». Он: «Это тебе. За сдувалку». И суёт мне эту монетку, в нагрудный карман школьной формы. Поворачивается и отбегает. Каков был товарный эквивалент, трём копейкам, тогда? За три копейки – можно было выпить газированной воды, с сиропом. Из автомата. Автоматов с газировкой, ни в школе, ни в пределах пяти кварталов – не было. В школе был буфет. Где мы и подкармливались. Но здесь, уже начиналось ощущаться пресловутое "имущественное расслоение». Покупательная способность в разных семьях – была различной. И это уже было заметно, детям. Пять копеек стоил бублик. Или пирожок с картошкой. Пирожок с мясным фаршем, как-то не припоминается. Из числа ассортимента школьного буфета. Пирожки, с фаршем – продавались в районе метро «Баксовет». Это кварталов шесть, от школы. Но, зато в школьном буфете, продавалась «котлета в тесте». По цене 10 копеек. Именовался этот продукт, на нашем сленге – «черепаха». Визуальное сходство имелось. Из теста, выглядывали «голова» и «хвост». Котлета, с кусочком белого хлеба, также стоила 10 копеек. Бутерброд с ломтиком колбасы, оценивался в 10 копеек. Булка стоила 10 копеек. Но ценовым апофеозом, школьного фастфуда – была сосиска, с хлебом. За 15 копеек. Такую, пятнадцатикопеечную, роскошь могли себе позволить два-три человека. Из класса, в 35 шалопаев. К чему я, столь подробно, перечисляю ассортимент буфета?
К тому, чтобы было понятнее, почему я не воспринял трёхкопеечную монету, засунутую мне в карман – за деньги. Ведь, на 3 копейки, ничего толкового купить нельзя. Нет, ну можно приобрести три коробка спичек, можно на трамвае проехать. Спички мне не нужны, трамвай в нашем районе, не ходил. Стакан воды газированной, с сиропом – тоже, «не вещь». Вопрос, с газировкой, в нашем доме – был решен кардинально. Раз в три года, папаня заправлял баллон пищевой углекислотой. Баллон этот был от тормозной, или какой другой системы, неизвестного мне механизма. Длиной сантиметров 60, диаметром 20. Оснащён этот баллон был ресивером, как на газосварочном аппарате. Собственно, он, как раз оттуда-то и был. От газосварки. И вот, заправив этот баллончик, до давления 80 атм. – папа угощал нас холодной газировкой. Это было особенно ценно – жарким летом. Ложка варенья, достойно, заменяла сироп. А в более прохладные периоды года, баллон просто пылился. В углу прихожки. Ожидая следующего сезона. Исходя из этого, всего – вывод. Три копейки, деньгами не являются. Поэтому, можно и не заморачиваться. Но история, начала приобретать детективный окрас! Закончились наши четыре урока. Началось время «продлённого дня». Так именовалось продолжение школьных занятий, для желающих. «Вторая смена», как бы… За три рубля, в месяц – ученик получал обед, из трёх блюд. Стандартный «столовский» ассортимент. Первое, второе и компот. Либо – кисель. Учащиеся первого класса – после прогулки и обеда, укладывались спать. На один час. В кровати, с чистым бельем и полотенцем, на спинке. Далее, дети работали над «домашним заданием». Под надзором, уже другого преподавателя-воспитателя. К пяти часам, вечера – всё… Все свободны. Бегом, домой!
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе