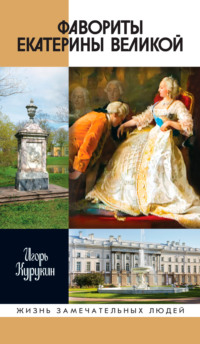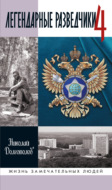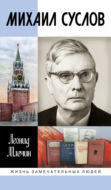Читать книгу: «Фавориты Екатерины Великой», страница 2
«Неутомимый лентяй»
Капитан переворота
Григорий Григорьевич Орлов (1734–1783) был не первым фаворитом Екатерины и не самым выдающимся – в качестве государственного мужа он оказался несостоятельным. Но до конца своих дней он оставался едва ли не наиболее близким императрице человеком. Даже куда более даровитого Потёмкина она ценила в первую очередь как верного и талантливого «ученика» и сподвижника, тогда как к Орлову, несмотря на его неблагодарность, буйные выходки и неспособность к делам, неизменно относилась с признательностью и какой-то особенной теплотой, никогда не забывая, что тот человек возвёл её на престол и был отцом её ребёнка.
«Случаи» людей XVIII столетия всегда порождали байки и легенды. Неизменно популярным являлся сюжет о «подлом» происхождении новоиспечённых вельмож – тем стремительнее и чудеснее выглядела их карьера. Можно вспомнить хотя бы пирожки с зайчатиной, которыми якобы торговал юный Александр Меншиков… Так случилось и с Орловым. Вышедшее в 1791 году в Германии занимательное сочинение «Anekdoten zur Lebensgeschichte der Fürsten Gregorius Gregoriewitsch Orlow» (Frankfurt; Leipzig, 1791)25 сообщало, что сын безвестного «прусского уроженца» по прозванию Адлер26 выслужился в рядах русской армии в генеральский чин и перешёл в православие, а его дети скрыли своё происхождение и стали именовать себя Орловыми, что помогло им выйти в офицеры гвардии.
Реальные Орловы по моде того времени считали своего родоначальника выезжим немцем «Пруския земли», однако на деле являлись представителями хотя и незнатного, но всё же «честного» рода, известного с XV века, постепенно возвышавшегося за боевые заслуги. Бежецкие городовые дети боярские Владимир Орлов и его сыновья служили первым царям из династии Романовых «с саблею да парой пистолей». Иван Владимирович стал было выборным дворянином, выходил в поход с двумя боевыми холопами и сложил голову в 1659 году в битве с украинскими казаками и татарами под Конотопом. Его сын Иван уже состоял в жильцах государева двора, воевал с турками и закончил жизнь в 1693 году московским стряпчим27.
Триггером карьеры Орловых, как и многих других дворянских фамилий, было петровское царствование с его войнами и преобразованиями. Все дети Ивана Ивановича вышли в люди и стали штаб-офицерами: Игнатий – майором, Никита – подполковником, Михаил – коллежским советником28. Старший же, Григорий (1672–1746), отец будущего фаворита, воевал с татарами на Днепре, прошёл всю Северную войну, во время которой отличился при Полтаве и в сражении при Гангуте «на море при взятии фрегата и галер». Затем были тяжёлый Прутский поход и бои в Померании. Григорий Иванович стал полковником личного полка А. Д. Меншикова – Ингерманландского, но в 1724 году вместе с братом Михаилом попал под суд по обвинению в скупке предназначенного для солдат хлеба, был разжалован и сослан на каторгу в Рогервик. Только после смерти первого российского императора «вины» с Орлова сняли и чин вернули.
В 1726 году 53-летний полковник венчался вторым браком с шестнадцатилетней Ириной Ивановной Зиновьевой, с которой народил славных сыновей. Он ещё успел послужить в Низовом корпусе в «новоприсоединённых» после Персидского похода Петра I провинциях Ирана, затем заготавливал мундиры для армейских полков, описывал конфискованные пожитки кабинет-министра А. П. Волынского, хоронил государыню Анну Иоанновну. Просился в отставку, но отпущен не был и при Елизавете Петровне стал действительным статским советником и новгородским вице-губернатором.
Дети Григория Ивановича уже относились к новому поколению елизаветинских дворян, которые отчасти усвоили европейские моды и нравы, но ещё не слишком тянулись к просвещению и изящным искусствам; основным делом в их жизни оставалась военная служба, а развлечениями – охота и весёлая гульба.
Собиратель сплетен о происходившем при дворе Екатерины II секретарь саксонского посольства Георг Гельбиг указывал, что трое старших братьев Орловых, в их числе второй по возрасту Григорий, «вступили в шляхетский кадетский корпус, где получили очень хорошее военное образование и особенно изучили главнейшие иностранные языки, немецкий и французский. Из корпуса Григорий вышел в гвардейский пехотный полк»29. На деле же он, в отличие от младших братьев Фёдора и рано умершего Михаила и кузена Григория Никитича (1728–1803), сделавшего позднее отличную карьеру при дворе, в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе никогда не учился30.
В литературе встречаются утверждения, что Орловы служили в Преображенском полку31. Братья действительно вступили в ряды гвардии в 1749 году, но в её старейшем полку состоял только старший, Иван; к 1756 году он дослужился до сержанта, но уже в 1761-м считался «в отпуску». Григорий же с младшим братом Алексеем с 1749 года числились сверхкомплектными «без оклада» (то есть без жалованья) рядовыми гренадерской роты не в Преображенском, а в Семёновском полку и в 1756 году также стали сержантами. Братья могли себе позволить столичую службу, поскольку за ними числились 2020 душ32. Так что старшим Орловым не суждено было овладеть ни военной теорией, ни иностранными языками. Как и у многих других дворянских недорослей той поры, их образование ограничилось караулами, учениями, парадами, торжественными церемониями во дворце. Свободное время молодые люди посвящали «веселию и роскошеству» и карточной игре…
Братьев ожидала обычная карьера гвардейцев, не замеченных при дворе и не имевших влиятельных родственников: получение первых офицерских чинов, перевод капитанами в армию и в лучшем случае выход в отставку полковниками. Но началась Семилетняя война, и оба поспешили в действующую армию – в созданный по инициативе влиятельного вельможи П. И. Шувалова Обсервационный корпус. Спешно набранные полки оказались не самыми стойкими и дисциплинированными, что не помешало молодому поручику Григорию Орлову отличиться в бою. В кровопролитном сражении при Цорндорфе 14 августа 1758 года он, трижды раненный, остался в строю. В этой схватке в плен к русским попал флигель-адъютант прусского короля Фридриха II граф Шверин, и Орлов с двоюродным братом Степаном Зиновьевым были назначены сопровождать знатного пленника в Петербург.
В Кёнигсберге, находившемся в тылу российских войск, с Григорием свёл знакомство такой же молодой армейский подпоручик Андрей Болотов. Он вспоминал, что Григорий с братом были «первые и наилучшие танцовщики на балах и как красотою своею, так щегольством и хорошим поведением своим привлекали на себя всех зрение»: «Ласковое и в особливости приятное обхождение их приобрело им от всех нас искреннее почтение и любовь; но никто тем так не отличался, как помянутый господин Орлов. Он и тогда имел во всём характере своём столь много хорошего и привлекательного, что нельзя было его никому не любить».
Высокий, широкоплечий и с «прекрасной талиею», Орлов был настоящей душой празднеств в доме генерал-губернатора. Болотов восхищался не только его красотой, но и выдумкой: на одном из маскарадов Григорий и Степан изображали «арапских» невольников в платье «чёрного бархата, опоясано розовыми тафтяными поясами; чалма украшена бусами и прочими украшениями, и оба они, будучи одеты одинаково, скованы были цепьми, сделанными из жести». В другой раз Орлов предстал «в платье древних римских сенаторов». «…мы, – вспоминал Болотов, – любуясь, ему несколько раз говорили: “Только бы быть тебе, братец, большим боярином и господином; никакое платье так к тебе не пристало, как сие”. Таким образом говорили мы ему, не зная, что с ним и действительно сие случится и что мы сие ему власно как предсказывали»33.
Весной 1759 года Григорий оказался в Петербурге, где продолжил вести рассеянную жизнь. Красавец оказался дерзким – состоя адъютантом генерал-фельдцейхмейстера П. И. Шувалова, соблазнил его любовницу, известную легкостью поведения княгиню Елену Куракину. Пикантная история, как граф Шувалов случайно застигнул их врасплох, наделала шуму в Петербурге, а лихой адъютант вылетел в обычные армейские капитаны. Считается, что именно тогда на него обратила внимание великая княгиня Екатерина Алексеевна – нелюбимая жена наследника престола Петра Фёдоровича, последний возлюбленный которой, молодой саксонский посланник Станислав Понятовский, недавно отбыл в Польшу.
Обстоятельства их первой встречи до нас не дошли, а потому придётся довольствоваться романтическим рассказом Гельбига:
«Екатерина после одной из неприятнейших сцен, которые она имела иногда с императрицей или с своим супругом, открыла, чтоб освежиться, окно, и ея взгляд упал на Орлова. Это мгновение решило всё. Взгляд красивого юноши был электрическим током, одушевившим Екатерину. Одна мысль о нём заполняла в ея сердце ту пустоту, которая образовалась вследствие отъезда графа Понятовского из Петербурга. С тех пор многое производило на неё впечатление, но лишь мимолётное. Григорий Орлов, вполне сознававший свою красоту и поэтому уверенный, так сказать, в своём успехе, очень скоро и не без удовольствия заметил как знаток, какое сильное впечатление произвёл он на великую княгиню. Так зародилась между Екатериной и Орловым интрига, шедшая обычным ходом. Ночныя потёмки прикрывали в комнатах Григория запретные свидания, остававшиеся тайною для дневного света. Последствия этого стали заметны ещё при жизни Елизаветы Петровны и вынудили великую княгиню притворяться, что у неё болит нога, и под таким предлогом показываться императрице не иначе как сидя»34.
Сама же Екатерина 12 лет спустя в «Чистосердечном признании» Потёмкину многозначительно объяснила свою прежнюю любовь «старательствами кн[язя] Гр[игория] Гр[игорьевича], которого паки добрые люди заставили приметить»35. Остаётся только гадать, какие «добрые люди» и с какой целью смогли заставить великую княгиню избрать себе любовника – или же влюблённая в Потёмкина Екатерина старалась представить дело таким образом, будто она-то не очень хотела оказаться в объятиях его предшественника, но мужчины такие коварные…
Единственным подтверждённым событием этой истории стало рождение 11 апреля 1762 года Екатериной, уже ставшей к тому времени императрицей, незаконного сына Алексея Бобринского. Младенец, появившийся на свет во дворце в результате тайных родов, был отдан на воспитание в семью камердинера Василия Шкурина, затем попал в дом другого доверенного лица Екатерины И. И. Бецкого, а оттуда для завершения образования в Сухопутный шляхетский кадетский корпус. По выходе из корпуса он был произведён в поручики Конной гвардии и отбыл за границу, где вёл разгульную жизнь и наделал долгов; после возвращения отправлен матерью в Эстляндию, в Ревеле женился на баронессе Анне Унгерн-Штернберг и жил в имении Обер-Пален под Дерптом. При императоре Павле Бобринский стал генералом, графом и владельцем столичного дома Григория Орлова, но нигде и ничем себя не проявил. «Реабилитировались» его потомки: сын Алексей стал крупным сахарозаводчиком; внук Александр – столичным губернатором и ученым-генеалогом; другой, Алексей – министром путей сообщений; правнук Алексей Александрович – известным археологом.
А вот относительно предполагаемых дочерей Орлова ясности нет, когда они были рождены и являлась ли их матерью Екатерина. Таковыми считаются «девицы Алексеевы» – Наталья, Елизавета и Екатерина, воспитывавшиеся в семействе многодетного полковника А. И. Алексеева и ставшие фрейлинами. Первая, если верна одна из называемых биографами дат её рождения (1758-й или 1759 год), не могла быть дочерью Орлова. Тем не менее в 1777 году тот выдал её замуж за своего адъютанта Фридриха Вильгельма (Фёдора Фёдоровича) фон Буксгевдена, впоследствии боевого генерала от инфантерии; после смерти Орлова им достался его замок Лоде.
Вторая якобы дочь Орлова и Екатерины II, Елизавета, в 1788 году стала женой Фридриха Максимилиана Клингера (1752–1834), немецкого писателя и драматурга, а по совместительству российского генерал-майора и директора Первого кадетского корпуса при Павле I. Младшая из сестёр, Екатерина родилась в ноябре 1763 года и только в 1798-м в 34-летнем возрасте по прямому приказанию императора была обвенчана с полковником Павлом Петровичем Свиньиным36. Какие-либо новые обстоятельства, могущие пролить свет на их родство с императрицей, нам неизвестны.
Как бы то ни было, ко времени воцарения Екатерины её с Орловым связывали уже не только интимные отношения, но и заговор против нелюбимого мужа и неудачливого политика Петра III. Сама Екатерина после переворота в не предназначенном для публики письме Понятовскому от 2 августа 1762 года призналась: «Уже шесть месяцев, как замышлялось моё восшествие на престол». Таким образом, временем начала событий, приведших к свержению Петра III, можно считать февраль. У нас нет оснований в этом вопросе не доверять Екатерине, тем более что австрийский посланник граф Мерси д’Аджанто в депеше от 13 июля 1762 года ссылался на свои зимние донесения о том, как Н. И. Панин, воспитатель великого князя Павла Петровича, вёл переговоры с его матерью о низложении её супруга37.
Однако в рассказе датского посланника барона Ассебурга тот же Панин называет иную отправную точку: он якобы «за четыре недели до переворота озаботился предоставлением престола другому лицу без пролития крови»38. Подруга императрицы, честолюбивая княгиня Екатерина Романовна Дашкова, в повествовании о перевороте подчеркнула, что «не спала последние две недели», а до того сообщила, как «в течение десяти дней число заговорщиков увеличивалось, но окончательный и разумный план всё ещё не созревал»39.
Екатерина в процитированном письме вслед за фразой о вовлечённых в заговор 30–40 офицерах и десяти тысячах солдат заявила: «Не нашлось ни одного предателя в течение трёх недель». И в этом письме, и в мемуарах она акцентировала внимание на 9 июня, когда император публично обозвал её дурой и собрался арестовать. Тогда-то Екатерина, по её признанию, и стала «прислушиваться к предложениям» недовольных и «дала знать различным партиям, что пришло время соединиться». В данном случае императрице было важно подчеркнуть, что она честно исполняла супружеский долг и только прямая угроза беззаконного развода и заточения заставила её пойти навстречу заговорщикам.
На основании этих свидетельств можно сделать вывод, что расширение круга заговорщиков до итоговых размеров произошло именно в последние недели перед переворотом. Разная «протяженность» заговора в приведённых сообщениях Екатерины, Дашковой и Панина, похоже, означает их неодновременное подключение к событиям и различную степень вовлечённости.
Чёткого плана у инициаторов заговора как будто не было, или же Екатерина обсуждала с каждым своим союзником разные сценарии. В письме Понятовскому она сообщила о замысле схватить мужа и «заключить, как принцессу Анну и её детей» в 1741 году, но упомянула и идею Панина совершить переворот в пользу наследника Павла, с которой, по её утверждению, категорически не соглашались гвардейцы40. Сам Никита Иванович о таком варианте по понятным причинам умолчал и лишь неопределённо сообщил о некоем «решительном действии»41. Однако о плане провозглашения Екатерины «правительницей» знал датский дипломат Андреас Шумахер – но с более радикальным завершением: заколоть императора во время специально организованного пожара и замаскировать убийство под «несчастный случай»42.
Заговорщикам предстояло заручиться поддержкой «солдатства», при этом до поры не расширяя круг посвящённых. Придворным заговорам XVIII столетия не хватало организованности и конспирации, характерных для более поздних времён. Не случайно Екатерина опасалась предательства, почти неизбежного в придворно-карьерном мире.
Избрана была наиболее удачная тактика. На начальном этапе в заговор, по-видимому, была вовлечена узкая группа близких людей (в том числе Григорий Орлов с братьями и Панин), которая за счёт своих связей и недовольства политикой Петра III смогла за три-четыре недели развернуть его в солидное предприятие; отсюда и разница в точках отсчёта времени подготовки «революции».
Сам же Григорий после назначения А. Н. Вильбоа генерал-фельдцейхмейстером занял при нём в январе 1762 года должность цалмейстера (казначея) Канцелярии главной артиллерии и фортификации, что давало доступ к значительным денежным суммам. А отмеченные Болотовым удаль, обаяние и «в особливости приятное обхождение» блестящего офицера способствовали привлечению сторонников.
Екатерина II указывала на «четыре отдельных партии, начальники которых созывались для приведения [плана] в исполнение»; «узел секрета находился в руках троих братьев Орловых». Такой представляется структура заговора «по горизонтали». «По вертикали» же он включал недовольных вельмож; некоторые из них (например, гетман, фельдмаршал и подполковник гвардейского Измайловского полка К. Г. Разумовский) были связаны с Екатериной ещё с 1756–1757 годов. Эти-то два «этажа» заговора и имел в виду бывший секретарь французского посольства в Петербурге Клод Рюльер, книгу которого о «революции» 1762 года всеми силами стремилось запретить российское посольство. А писал Рюльер о том, что Екатерина «управляла в одно время двумя партиями и никогда их не соединяла»43 – пока это не стало необходимым. К примеру, амбициозная княгиня Дашкова до конца своих дней считала себя центральной фигурой переворота и не подозревала об истинной роли Орловых – для неё они были простыми исполнителями; восемнадцатилетняя княгиня даже считала себя вправе вечером 27 июня отдавать им указания44.
Вельможи же, подобные Панину, Разумовскому, генерал-поручику и подполковнику лейб-гвардии Конного полка М. Н. Волконскому, преображенским подполковнику Ф. И. Ушакову и майору А. А. Меншикову, семёновским майорам Ф. И. Вадковскому и Я. А. Брюсу, в сходках и «вербовке» не участвовали. В привлечении людей такого ранга главную роль сыграла сама Екатерина, но об этом умалчивала: молодые офицеры представляли собой более выигрышный фон переворота, чем придворные интриганы. Императрица же умело связывала горячих гвардейских поручиков с «генералитетом»; Дашкова писала, что офицеры-измайловцы Рославлёвы и Ласунский чуть ли не шантажировали своего полковника тем, «что и он завлечён в заговор».
Состав названных Екатериной II «партий» гвардейцев указан в наградных документах – списках пожалованных за участие в перевороте в 1762 году и получивших за то же серебряный сервиз в 1765-м. В них выделяются три группы офицеров: преображенцы во главе с капитан-поручиком П. Пассеком, измайловцы с премьер-майором Н. Рославлёвым и конногвардейцы с ротмистром Ф. Хитрово. По непонятной причине в списках отсутствуют семёновцы; но в то же время миссию доставки арестованного «бывшего» императора в Ропшу возложили на двух семёновских офицеров – Щербачёва и Озерова. Похоже, четвёртую «партию» составляли братья Орловы, ведь Григорий и Алексей с 1749 года служили именно в Семёновском полку.
Екатерина знала больше, чем рассказала Понятовскому. Спустя 27 лет после переворота она писала графу Алексею Орлову: «Никогда не забуду 24, 26 и 28 июня». Что именно сделали Орловы 24-го и 26 июня, мы уже не узнаем. Непонятно также, каким образом участвовали в событиях некоторые лица, в том числе французский граф Сен-Жермен, которому через несколько лет отдадут должное вошедшие в силу Орловы: «Вот человек, который сыграл большую роль в нашей революции»45. Чем-то важным была обязана Екатерина и актеру Фёдору Волкову, которому вместе с его братом после переворота пожаловала дворянство и 700 крепостных душ. Мемуарист А. М. Тургенев назвал знаменитого комедианта «секретным деловым человеком» императрицы, получившим от неё пожизненное содержание и право входа без доклада46.
Накануне переворота, в июне, Екатерина, нуждавшаяся в средствах, обратилась за помощью к французскому послу Бретейлю. Просила она не то чтобы много – 60 тысяч рублей; однако дипломат, собиравшийся выехать из России, уклонился от деликатной операции, поручив её секретарю посольства Беранже. Но теперь уже отказалась сама просительница, пояснив во вручённой Беранже записке: «Покупка, которую мы хотели сделать, будет сделана, но гораздо дешевле; нет более надобности в других деньгах»47.
Очевидно, Екатерина нашла иной источник финансирования. О получении ею «ссуды» в 100 тысяч рублей у английского купца Фельтена сообщают только французские авторы сочинений о перевороте Лаво и Кастера48. Любопытно, что в числе главных героев переворота оказался скромный разночинец, кассир банковской конторы Алексей Евреинов. Как и Фёдор Волков, он стал потомственным дворянином, к коронации был награждён капитанским чином и в придачу десятью тысячами рублей (эквивалент трёмстам душам), закончил же необычную карьеру в 1765 году майором, получив при выходе в отставку четыре тысячи рублей за неведомые нам заслуги49.
Внешняя сторона переворота известна и подробно освещена50. Ранним утром в Петергофе якобы ни о чём не подозревавшую Екатерину разбудил прискакавший из столицы Алексей Орлов и повёз в город, где у слободы Измайловского полка их встретил Григорий. Измайловцы дружно принесли присягу государыне и во главе с ней, Орловыми и Разумовским двинулись на Фонтанку. Там их встретили выбежавшие навстречу семёновцы. Затем процессия вышла на Невский проспект к Зимнему дворцу, куда прибыли преображенцы и конногвардейцы. Во время молебна в Казанском соборе царицу окружали уже не только солдаты и офицеры, но и подоспевшие вельможи – К. Г. Разумовский, А. Н. Вильбоа, М. Н. Волконский; туда же явился Панин с наследником Павлом.
Заговорщики сумели правильно настроить солдат и не допустить никакого замешательства, что требовало предварительной подготовки и благожелательного отношения большинства офицеров. Сопротивление, если и имело место, было быстро сломлено.
Без какого-либо выражения недовольства на сторону Екатерины перешли Сенат и прочие учреждения. Утром 28 июня Пётр III даже не подозревал, что его власть уже не распространяется за пределы петергофской резиденции. Даже бегство в расположение действующей армии было уже невозможно. Посланный приказ о присылке из ямских слобод пятидесяти лошадей дошёл по назначению тогда, когда его никто уже не собирался исполнять, и был доставлен в Сенат51. Ночью гвардия двинулась на Петергоф, в пять часов утра гусары под командованием Алексея Орлова заняли посты в Ораниенбауме. Григорий Орлов и генерал-майор М. Л. Измайлов явились к императору, и Измайлов убедил его написать отречение от престола. К вечеру бывший государь был отправлен под конвоем во главе с Алексеем Орловым к месту своего последнего заключения – в пригородную «мызу» Ропшу.
Трагическая судьба пленника вызвала немало вопросов и предположений относительно обстоятельств его смерти и степени участия в ней Екатерины и её окружения. Уже современники отвергали и официальную версию кончины свергнутого императора от «прежестокой колики», и дату – 6 июля. Недавно обнаруженные документы ропшинского караула из библиотеки Зимнего дворца подтверждают, что к 5-му числу Пётр был уже мёртв52. Как бы ни хотелось иным авторам считать его гибель итогом «пьяной нежданной драки», поверить в это трудно. Но и современные исследователи могут только строить догадки, последовала ли гибель монарха с молчаливого согласия его супруги или явилась результатом действий «вельможной партии», желавшей обезопасить себя и связать руки императрице53.
Приходится согласиться с мнением прусского посла Гольца, 10 августа доложившего в Берлин: «Невозможно найти подтверждение тому, что она (Екатерина. – И. К.) лично отдала приказ об убийстве», – но считавшего, что смерть её мужа слишком выгодна тем, «кто управляет государством сегодня». Это были не столько Орловы, сколько Панин. Помимо исполнения обязанностей воспитателя наследника, Никита Иванович заседал в Сенате, приступил к делам внешнеполитическим и стал кем-то вроде шефа службы безопасности: именно он отправлял в Ропшу Петра, ведал охраной другого царственного узника – Ивана Антоновича – и возглавлял целый ряд следственных комиссий.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе