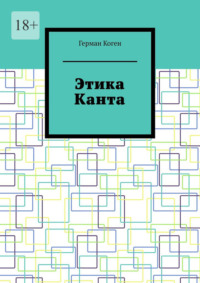Читать книгу: «Этика Канта», страница 7
Четвертая глава. Регулятивное употребление трансцендентальных идей
Из задачи о вещи в себе возникли идеи как попытки решить эту задачу. Однако решения оказались смещением вопроса. Виды вещи в себе выродились в гипостазирования. Объекты идей трансцендентны.
Но идеи называются трансцендентальными. Следовательно, в них должна быть заложена связь с опытом – законная, хотя и ограниченная. Поскольку идеи трансцендентальны, они должны быть способны становиться плодотворными и полезными для применения в опыте. На эту применимость идей уже указывалось в конце первой главы, а также ранее (с. 53). Идеи должны представлять особый вид, особую меру познавательной ценности.
Предыдущая глава также поясняла этот момент, но не исчерпала его значения. Трансцендентальная значимость идей подтверждается не только тем, что в видах умозаключений действует лежащий в их основе мотив. Скорее, познавательно-критический характер идей, явленный в принципе силлогизма как разумных единствах безусловного, содержит дальнейшее указание на своеобразный способ действия, своеобразную ценность идей в экономии познания. Сначала необходимо для этого рассуждения отвлечься от трех особых трансцендентальных идей, чтобы распознать более общее значение идей как разумных единств, которые, хотя и соответствуют принципу силлогизма, но стремятся к той же цели иными путями, другими средствами логического мышления. Лишь после того, как этот общий признак всего, что может называться идеей, будет осознан, следует показать, как именно эти три идеи в высшей степени соответствуют этому общему значению идеального.
Двойственная природа идеального, обоюдоострость критической реальности нигде не проявляется яснее и проблематичнее, чем в идеях. Вечно памятное событие нашей литературы – та беседа Шиллера с Гёте, положившая начало взаимопониманию, – касалось этой кажущейся двусмысленности слова идея. В опыте идее не может соответствовать никакой конгруэнтный, адекватный объект. Следовательно, если нечто обозначается как идея, то «в отношении его действительности при эмпирическом условии» – Кант выражается характерно: «со стороны субъекта» – «говорится очень мало»; «но со стороны объекта (как о предмете чистого рассудка) – очень много» [1]. Таким образом, в выражении «всего лишь идея» заключена обратная ирония. Ведь объект, который в опыте дан в соответствии с понятием, – это всего лишь объект. Напротив, мир – это идея.
Однако интимному пониманию этого обоснованного обращения понятий объект и идея вновь и вновь противится предрассудок догматического реализма, из-за которого все усилия радикально преобразовать схоластические противоположности субъективного и объективного грозят потерпеть неудачу даже у тех, кто готов принять общий результат критического идеализма.
Бесполезно приписывать идеям через поэзию ту реальность, которую нельзя признать за ними перед трансцендентальным судом – то есть в точном соответствии с условиями опыта. Дело не в мыслительном достоинстве идей – поэзия могла бы щедро наделить их им, – а в их познавательной ценности, в их значимости, в мере реальности, которая в них дана и по которой они, в свою очередь, определяют объективную значимость.
Но именно это так трудно сделать доступным: что и идеям, хотя им в опыте ничто не соответствует, может быть присуща реальность; что их следует рассматривать как своеобразные мерила реальности. Однако эта трудность коренится не в чем ином, как в материалистическом наследственном пороке: мыслить все объективное материально, в неосвещенных формах пространства и времени. Согласно этой наивности, пришлось бы навечно остаться при аристотелевском положении, что чувственная единичная вещь представляет собой субстанциальное, и наука никогда не поднялась бы до понимания, что истина и реальность объектов заключены скорее в законах, ибо в них – достоверность познания; и что чувственные вещи обладают реальностью, являются реальными объектами лишь постольку, поскольку представляют собой значимые примеры этих познаний, поскольку – говоря платоновским языком – причастны идеям.
Почему же так трудно понять очевидное: что истинное, реальное, значимое не может и не должно являться как таковое в чувственной материальности? Подобно тому как законы существуют лишь в духовных, абстрактных, то есть – пользуясь старой неудачной терминологией – в субъективных формулировках, точно так же идеи не могут быть лишены реальности лишь потому, что в опыте они не являются в виде какого-либо объекта. Скорее, можно предположить: они как раз и представляют вещь в себе явлений, безусловное вещей, границы условий опыта.
Впрочем, допустив, что они обозначают этот фон мира опыта, здесь как раз и следует показать, что означает этот фон для самого применения опыта; в каком отношении он оказывается полезным; как подобная реальная значимость присуща абстракции закона без всякого сомнения. Однако мы уже видели, что, поскольку из этого возникает гипостазирование объектов, фон становится трансцендентным; трансцендентальной же идея может стать лишь благодаря тому, что оказывается пригодной для установления объективной реальности. Но этим установлениям служат исключительно категории; то, что их лишено, не обладает реальностью. Идеи отличаются от категорий тем, что расширяют их единства и потому выходят за их пределы. Если категория объединяет многообразие созерцания в объект, то для идеи в качестве объекта – или, точнее, к объекту – остается единство категории. Если категория схематизируется, то идея, напротив, может лишь – как гласит противоположный термин – символизироваться [2].
Таким образом, идеям недостает одного из условий, на которых основывается объективная реальность: наглядности в объекте; и, следовательно, кажется, что сомнение в значимости идей вызвано не только материалистическим наследственным пороком, но в равной мере и критическим пониманием, которое объявляет понятия без созерцаний пустыми, не наполненными реальностью.
Однако это положение относится к понятиям: можно ли распространить его и на идеи?
Конечно, не в том смысле, что идеям вообще приписывается пустота. Поскольку идеи осуществляют единство в ином материале и иными способами, чем категории, то и мера их наполнения познанием должна быть иной. Без идей явления не слепы, но близоруки. Так же следует понимать, что содержание идей составляют единства правил, законов, которые в них возводятся к единству принципов, к разумным единствам, к систематическим единствам. Следовательно, они являются продолжением единств опыта, которые сами по себе, без многообразия созерцания, бесполезны; и таким образом, идеи, как единства единств опыта, опосредованно всё же связаны с этим многообразием созерцания. В пространстве и времени они не даны адекватно; но, тем не менее, остаются, как единства безусловного, соотнесёнными с теми явлениями, условия которых они возводят в систематические, в условия природных классов.
Эта иная мера реальности, этот иной способ значимости обозначается термином регулятивный в отличие от конститутивного. Категории, основоположения суть конститутивные условия относительно так называемого многообразия созерцания, дабы оно стало предметом; подобно тому как само это многообразие есть конститутивное условие относительно так называемого единства мышления, дабы оно стало предметом. Идеи имеют регулятивное применение; они не конституируют опыт; возможность последнего от них не зависит. И потому может показаться, будто они лишь регулятивны. Но то, что обусловливает опыт, ещё недостаточно, чтобы его ограничить. Мы видели, сколь многосторонне те отношения, которые обозначают идеи, вторгаются в кажущуюся целостность опыта, чтобы в явных пробелах условий опыта раскрыть бездну интеллигибельной случайности. Если же можно показать, что идеи имеют своё происхождение не только в неизбежных иллюзиях человеческого разума, но и оказываются полезными регулятивами для процедуры мышления ради познания, то мы будем применять их лишь внешним образом, исходя из логической природы идеи, подобно тому как мы вправе были отказаться от самого имени идеи.
Теперь надлежит распознать регулятивное применение идеи вообще в логических максимах; подобно тому как её мотив обнаружился в принципе основного логического метода.
Это соображение возвращает нас к происхождению, к открытию понятий. Ведь и идеи возникли как понятия; и сам Кант в весьма многочисленных и выдающихся по важности местах указывал в этом отношении на свою связь с Платоном.
Когда спекуляция о космосе и рефлексия о собственном мышлении о нём продвинулись настолько, что стало возможным осознать мыслительные объединения вещей в понятиях, тогда этот логический акт, будучи плодом предшествующей научной работы, тотчас же был оценён по своей плодотворности как учение о научном методе. Сам Платон подчеркнул это значение идей для прикладной логики и проиллюстрировал его примерами.
Следовательно, в идеях содержится не только скрытая в силлогизме мысль о безусловном; но уже самая первая возможность обусловливания дана в идеях: объединение родственного, разделение разнородного. Само понятие есть идея. Идея Платона просветила понятие Сократа, равно как и ещё не распознанные в качестве таковых понятия великих досократиков. В этом историческом смысле идеи изначально регулятивны: понятия как таковые ещё не конституируют опыт – это осуществляют лишь идеи, и в первую очередь понятия, обоснованные трансцендентально – , но они образуют первую возможность, они суть самое общее руководящее правило для формирования опыта, для устройства природы.
И этот всеобщий характер понятий специализируется в разумных понятиях, идеях, таким образом, что руководящее правило, которое они представляют, есть систематическое единство. В этом состоит данное в них регулятивное начало: «направить рассудок таким образом, чтобы его применение, будучи доведено до крайних пределов, вместе с тем повсюду согласовывалось с самим собой» [3]. Если, таким образом, идеи суть понятия, «доведённые до крайних пределов», то последние благодаря первым становятся «повсюду согласованными». Систематическое единство, которое идея делает нормой, должно, следовательно, внести всеобщее согласие в сами понятия; оно должно привести значение понятий к цели последовательного завершения. К этой цели понятия действительно стремятся, хотя эта тенденция логических образований не осознана критически. Напротив, родовой характер понятий – обеспечивать в мыслительных объединениях связи вещей – выражается в форме метафизических принципов, противоположных научных позиций.
Вот первый пример такого закона образования природы – принцип родов, так называемый закон гомогенности явлений: что многообразие вещей должно находить свою постепенно высшую единственность в видах, родах и семействах. Этой «школьной максиме» придали значение трансцендентального принципа: и в природе должна царить такая согласованность. Характерно, что номинализм у Оккама выразил тезис монизма: entia praeter necessitatem non esse multiplicanda («сущности не следует умножать без необходимости»). Но сразу видно по двусмысленному ограничению praeter necessitatem, что столь растяжимый тезис не может быть принципом, способным обусловливать опыт.
Тем не менее, эта мысль является важной нормой для рассудка. Ибо если бы различие вещей было такого рода, что никакого сходства, никакой сравнимости нельзя было бы обнаружить, то не только логический принцип родов, не только никакое общее понятие, «но даже и рассудок не существовал бы, поскольку он имеет дело исключительно с таковыми» [4]. Конечно, рассудок занимается и другим, чья специфичность лишь обусловливает опыт; но эта специфичность законов предполагает в качестве элементарного ориентира данную логическую основополагающую идею.
На различие между трансцендентальными принципами и этой логической основополагающей идеей здесь можно лишь указать: Лотце [5] упустил это различие и тем самым был введен в заблуждение при толковании принципа основания. Сравнимость вещей – не «счастливый факт, счастливая черта организации мира мыслимого», без которого мир стал бы «немыслимым» [6]; но всеобщее фундаментальное условие организации мира мыслимого – это та идея о совместимости явлений, о родовой связи вещей. Она есть conditio sine qua non; однако она не является позитивным условием опыта. Это сразу проявляется в логическом противовесе, который выступает с равным правом.
Логическому принципу сходств противостоит принцип различий, принципу родов – принцип видов, принципу гомогенности – принцип спецификации, принципу однородности многообразного – принцип разнообразия однородного. Если первый обращен на объем, всеобщность, то второй – на содержание, определенность. Первый придает познаниям «простоту», второй – «распространенность». Каждый род должен быть разделен на виды и подвиды, и поскольку из сферы понятия нельзя узнать, как далеко простирается это деление, то ни один подвид не должен считаться низшим: entium varietates non temere esse minuendas («разнообразие сущностей не следует безосновательно уменьшать»). Бесконечность различий не требуется; в таком случае не было бы возможности соединения с первым принципом. Но логическое правило утверждает неопределенность логической сферы в отношении деления. Для применения рассудка важно лишь, чтобы задача как таковая сохранялась: для каждого данного различия находить меньшее.
И Платон указывал на это значение своих идей: существуют такие, которые не допускают «общности» с другими. Разделение, детерминация также имеют свой трансцендентальный фундамент и осуществляют одну из основных черт познания. Более того, в этой идее спецификации с другой стороны также выражается постоянство понятий. Они не сливаются друг с другом; каждая совокупность сама по себе образует единство, отличное от других единств, других понятий. Эта идея о постоянстве понятий – одна из главных идей платоновской теории идей в ее логическом аспекте. А чтобы дело не звучало тривиально, за этим следит прикладная логика в естественно-описательной систематике с ее верой в неизменное отдельное существование видов. Реальность видов мыслится в природу.
Эти два логических принципа в истории наук находятся в борьбе друг с другом. Натуралисты спекулятивного склада «словно враждебны» неоднородности и видят лишь единство рода. «Эмпирические умы» придерживаются другого принципа, который ограничивает эту «склонность», предписывает различать подвиды, «прежде чем обращаться со своими общими понятиями к индивидам» [7]. Нет ли примирения для этого противоречия мыслительных подходов? Трансцендентальное применение разума создает это примирение.
Достаточно применить каждый из двух принципов в безусловной форме. Тогда объединение произойдет само собой. Чем универсальнее, с одной стороны, исследуется однородность многообразного, и чем точнее, с другой, изучается разнообразие однородного, тем определеннее – то есть, тем критичнее – будут выделяться подлинные единства как мыслительные объединения природных вещей согласно их родословной. Единство будет мыслиться как родство вещей, потому что соприкосновение обоих методов делает возможным переходы от одного разнообразия к однородности с другим или от однородности через накопление детерминаций к новому виду. Это третья логическая предпосылка: закон сродства понятий.
И эта идея, какое бы объективное впечатление она ни стремилась произвести, есть лишь развертывание логической природы понятий. Платоновская κοινωνία τῶν γενῶν («общность родов») ясно выразила ее. Возможность объединения кажущихся индивидов в виды и роды, предметная возможность абстракции, равно как и разделимость признаков понятийных индивидов, и утверждение признаков как новых оснований деления, возможность детерминации – оба метода коренятся в идее об общности продуктов мышления, о родстве признаков.
Таким образом, в этой третьей логической норме оправдываются и те противоречивые основоположения как логические, как неизбежные направления мышления; сколь бы ни присваивали себе право приписывать этим логическим «школьным правилам» ценность «изречений метафизической мудрости» [8].
Однако они, конечно, не только неизбежны для мышления, но и полезны для исследования как общее руководящее правило – в общем, следовательно, их следует иметь в виду, но не призывать в качестве объективных критериев при решении специальных вопросов исследования – как направляющие линии к конечной цели всякого исследования: в этом, в указании на систематическое единство, заключается их регулятивное применение, в котором понятия переходят в идеи.
Всякое мышление явлений в понятиях образует единства: идеи представляют собой единства, расширенные до полноты. Это и есть конечная цель всякого исследования: систематическое единство. И потому те три логических правила, поскольку они становятся полезными для эмпирического применения, являются принципами систематического единства. Они – принципы, ибо мысль о безусловном как основании условий также содержится в систематическом единстве. Родственность понятий характеризует идею разнообразия, равно как и идею однородности, и указывает внутри себя на единство, которое, как систематическое, может быть лишь «проектируемым» единством. Оно основывается не на аподиктическом, а на гипотетическом применении разума; оно, следовательно, не конститутивно, как синтетические единства; проектируемое единство имеет значение лишь регулятива; оно проектируется, поскольку к нему следует приближаться. Но предписание заимствовано из самого общего способа мышления – порождения понятий.
Кант иллюстрирует систематическое единство сравнением с горизонтом:
«Можно рассматривать каждое понятие как точку, которая, будучи точкой зрения наблюдателя, имеет свой горизонт, т. е. множество вещей, которые могут быть представлены и, так сказать, обозреваемы из нее. В пределах этого горизонта должно быть возможно указывать бесконечное множество точек, каждая из которых, в свою очередь, имеет свой кругозор, т. е. каждый род содержит в себе виды согласно принципу спецификации, и логический горизонт состоит лишь из меньших горизонтов (видов), но не из точек, не имеющих объема (индивидов)» [9].
Различные горизонты, в свою очередь, имеют общий, пока не достигается всеобщий и истинный горизонт, который, конечно, мыслится как прообраз логического, но как этот прообраз он есть предмет в идее. Сама же идея – не предмет, а «точка зрения» [10].
Lex continui in natura, по-видимому, метафизический закон, предполагается, таким образом, lex continui specierum (formarum logicarum). В этом основоположении, однако, гарантируется систематическое единство. Оно, как и тот основоположение, всегда остается лишь идеей, которой в опыте ничто не соответствует, лишь «общим указанием», что мы должны неустанно искать градации различий, приближение к единству, хотя применение разума может следовать ему лишь «как бы асимптотически». Правда, предпринимается попытка представить «идею максимума деления и соединения» [11], но эта идея должна оставаться неопределенной, поскольку ей отказано в схеме. Она – «аналог схемы» и, как таковой аналог, означает лишь правило систематического единства всякого применения разума. Но это правило обозначает конечную цель всякого исследования.
В этом более глубоком и обобщающем смысле другое сравнение иллюстрирует регулятивное значение идеи, разумного понятия систематического единства. Идея есть focus imaginarius – точка, которая, хотя рассудочные понятия и не исходят из нее, «все же служит тому, чтобы сообщить им наибольшее единство при наибольшем распространении» [12]. Отсюда, правда, возникает иллюзия, будто направляющие линии рассудка к этому единству разума скорее «исходят от предмета, подобно тому как предметы видятся за зеркальной поверхностью»; однако эта иллюзия обезвреживается осознанием того, что эти идеи соответствуют не свойствам объекта, а интересу разума.
Те логические основоположения, объединенные в принципе систематического единства, суть, таким образом, не просто трансцендентальные, а «субъективные основоположения». А «все субъективные основоположения, которые берутся не из свойств объекта, а из интереса разума в отношении возможного совершенства познания этого объекта» [13], Кант называет максимами.
Трансцендентальная дедукция, допустимая для этих максим, может, следовательно, состоять лишь в том, что они доказывают свою плодотворность как правила, как методологические точки зрения. Спор естествоиспытателей о ценности их принципов разрешается этим решением. У одного «рационалиста» – ибо защищая эти принципы, естествоиспытатель не может избежать этого титула – преобладает интерес многообразия, у другого – интерес единства. Ни одна из сторон не обладает знанием объекта, которое могло бы решить «приверженность». Поэтому эти точки зрения «лучше называть максимами, чем принципами».
Как таковые максимы, следовательно, следует оценивать те «законы», как их называли, которые считались прообразами действительного мира, например закон непрерывной лестницы творения. Реальность таких законов состоит в фактической склонности к таким логическим установлениям, а их значимость – в допустимости этой склонности, в интересе разума, которому они служат. Спор «проницательных мужей» об этих максимах Кант выводит «за пределы проникновения в природу объекта». «Это не что иное, как двойной интерес разума, из которого одна сторона принимает к сердцу одно, другая – другое». Если их считать объективными прозрениями, то они «не только вызовут спор, но и создадут препятствия, которые надолго задержат истину» [14], пока спор не будет разрешен критически.
Насколько точно спорный вопрос вокруг лозунга монизма затрагивается этим примирением, которое предлагает «Приложение к трансцендентальной диалектике»; насколько точно и с каким отношением к отдельным вопросам разрешается спор, ведущийся под именем дарвинизма, благодаря этому критическому разъяснению – пусть решают исследователи, занятые этими проблемами, поскольку они проникают в критико-познавательное значение этих спорных вопросов [15].
После того как мы в предыдущих рассуждениях с новой стороны распознали общее значение идеи и в ней – ее регулятивное применение, мы теперь обратимся к трем трансцендентальным идеям, чтобы судить об их особом регулятивном значении соответственно тому специфическому способу, каким они представляют систематическое единство.
О психологической идее мы теперь скажем, что явлениям внутреннего чувства в душе предоставляется «аналог схемы». Вещь в себе внутренних явлений есть, следовательно, «точка зрения». Вопрос, стало быть, таков: какую пользу приносит точка зрения души, этот focus imaginarius, для систематического применения опыта? Какое преимущество дает максима души перед «бездушным» материализмом?
Этот вопрос самым ясным образом разрешается основополагающим термином критицизма: единством сознания. Поскольку все критико-познавательное обоснование сводится к этому принципу, то материя тем самым превращается в частный случай сознания, в «вид представления». Однако на данном этапе нашего исследования этот тезис нельзя истолковать ошибочно, как если бы он означал берклианский или фихтевский идеализм. Принятие единства сознания за основное понятие означает, скорее, сведение всей реальности к синтетическим основоположениям. Этот еще, возможно, сохраняющийся видимость субъективного не следует избегать, если трансцендентальный априоризм не должен потерпеть ущерба.
С этим одним указанием решается спор о том, ведет ли последовательный материализм в вопросе о душе к цели. Он не только не ведет к цели, но и уводит с верного пути к ней. Идея материи, принятая в качестве регулятивного принципа, не только не позволит познать сознание, но и сместит трансцендентальную постановку проблемы, не даст ей возникнуть. Уже представление о живой материи, как говорит Кант, «есть круг в объяснении» [16]. И в наши дни вновь проявилось, насколько укоренен монадологический гилозоизм в некритическом мышлении. Тем более если положить в основу всех явлений сознания «автократию материи» [17]. Тогда можно было бы подумать, что объективная реальность не нуждается для своего обоснования в принципе единства сознания, но что оно – и притом не как принцип, а как свойство – содержится в мыслимой материи. Трансцендентальный метод, исходящий из того, что мы «вкладываем в вещи», был бы тем самым отвергнут, основа априоризма – погребена. Такова связь вопроса о душе с основанием критического идеализма.
Но лишь в этой связи допущение души имеет свое значение: только как идея, только как регулятивная максима. «При этом она имеет в виду не что иное, как принципы систематического единства в объяснении явлений души, а именно: рассматривать все определения как принадлежащие единому субъекту, все силы, насколько возможно, как выведенные из единой основной силы, все изменения как относящиеся к состояниям одного и того же устойчивого существа и представлять все явления в пространстве как совершенно отличные от действий мышления» [18]. Однако с этой максимой, которая, согласно критическому дуализму, учитывает интерес разума к спецификации, не утверждается никакая спиритуалистическая основная сила. Тут же прямо добавляется: «Та простота субстанции и т. д. должна быть лишь схемой этого регулятивного принципа и не предполагается так, будто она есть действительное основание свойств души». При таком ограничении «не допускаются никакие ветреные гипотезы о возникновении, уничтожении и палингенезии душ и т. д.». «Ибо если бы я даже спросил, не есть ли душа по своей природе духовная, то этот вопрос не имел бы никакого смысла».
Гипотетический характер принятия этой точки зрения очень характерно выражается во всех трех трансцендентальных идеях посредством «как если бы». Идея души принимается, чтобы мы «все явления, действия и восприимчивость нашей души связывали по руководящей нити внутреннего опыта так, как если бы она была простой субстанцией, которая с личностной идентичностью пребывает (по крайней мере в жизни), в то время как ее состояния, к которым состояния тела принадлежат лишь как внешние условия, непрерывно изменяются» [19].
Таким образом, допущение души есть suppositio relativa. Принимать душу абсолютно не имело бы ни основания, ни смысла; но относительно внутренних явлений она обоснована: чтобы «согласно идее простого существа выводить их друг из друга» [20]. Идея души должна представлять не особую основную силу, но норму, согласующую применение опыта в объяснении внутренних явлений через их систематическое единство с самими собой.
Если смешивать этот способ сохранения душевной максимы со спиритуализмом, то утрачивается пограничное понятие явлений и вся более глубокая проницательность, которую открывает трансцендентальный метод. Последствия этого достаточно подтверждаются непоследовательностью – будь то в сторону материального реализма или догматического идеализма; нередко уклонение происходит одновременно в обе стороны.
Спиритуализм принимает душу как конститутивный принцип и совершает ошибку, которую Эпикур назвал ἀργὸς λόγος (праздное умствование). Применение опыта, в отношении к которому единственно и выдвигается идея систематического единства, чтобы сделать его согласованным, при этой ошибке обходится. Догматический спиритуалист «избавляет себя от всякого естественного исследования причины этих наших внутренних явлений на основе физических объяснений, проходя, так сказать, мимо имманентных источников познания опыта, ради своего удобства, но с утратой всякого понимания» [21]. Спиритуализм совершает ошибку ignava ratio (ленивого разума), которая тесно связана с другой ошибкой – perversa ratio, ὕστερον πρότερον (обратного порядка в рассуждении), и как таковая становится непосредственно понятной. Вместо того чтобы дополнять применение опыта через систематическое единство, которое выражает идея души, дело оборачивается, и последнее выводится из этой мнимой субстанции.
Как с психологической идеей, так же обстоит и с двумя другими трансцендентальными идеями.
На регулятивном применении одной из космологических идей основывается этика по своей возможности. Поэтому этику можно обозначить как изложение регулятивного применения космологической идеи свободы.
Здесь можно ясно увидеть, насколько ошибочно понимание, которое вместо космологической идеи желает поставить материю как трансцендентальную идею [19]. Скорее, мир со всеми рядами – математическими и динамическими, в которых он стремится к систематическому единству, есть идея. Единство применения опыта охраняется идеей мира от вмешательства чуждых объяснительных принципов. «Мы должны во-вторых (в космологии) следовать за условиями как внутренних, так и внешних явлений природы в таком никогда не завершаемом исследовании, как если бы они сами по себе были бесконечны и без первого или высшего звена» [22]. Так идея сама по себе, со своим «как если бы», выдает антиномию, в которую она вовлечена и которую только она одна содержит в себе в качестве разрешения.
И космологическая идея свободы не должна бояться этого «как если бы». Она хочет показать ряд «так, как если бы он начался абсолютно (через интеллигибельную причину)» [23]. Главная задача обоснования этики будет состоять не в чем ином, как в выявлении подлинного реального смысла этого «как если бы».
Таким образом, идея мира есть средство защиты физических объяснений мировых рядов по их условиям от выведения их членов из гетерогенных принципов. Она представляет систематическое единство мировых рядов. Ибо, как бы ни обстояло дело с трансцендентальной свободой, здесь можно заранее принять, что эмпирический механизм причинности не должен нарушаться ее установлением, – по крайней мере, на словах это признается. Но идея мира может иметь значение лишь как регулятивная максима, может быть выдвинута лишь как точка зрения. Под эту точку зрения попадает не в меньшей степени атомистическая теория, чем учение о свободе. Везде мстит за себя ошибка исходить из космологической субстанции вместо того, чтобы возводить внешние и внутренние явления в царстве природы, равно как и в мире нравов, к систематическому единству – будь то разложения или происхождения.
Регулятивная ценность психологической идеи состоит в сохранении чистоты сознания как высшего трансцендентального принципа. Что касается регулятивной ценности идеи мира, то здесь достаточно указать на спасение свободы, равно как и на целостность физических объяснений: наконец, идея Бога представляет систематическое единство целей. От этой точки зрения мы переходим к новому значению вещи в себе, а именно к тому, в котором прежние значения этого пограничного понятия – задачи, идеи, безусловного, силлогистического принципа, систематического единства в идее цели – соединяются; так что там, где возникает задача идеи, идея цели специализируется в особую задачу. Поэтому, как вообще было признано, что вещь в себе ограничивает математический опыт, так теперь мы познаем это ограничение в телеологическом принципе для области биологии по его отношению к условиям возможности опыта, то есть математического естествознания.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе