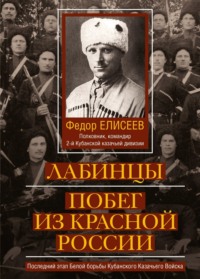Читать книгу: «Лабинцы. Побег из красной России. Последний этап Белой борьбы Кубанского Казачьего Войска», страница 10
Новая неудача. День 25 февраля
С утра 24 февраля весь корпус, без пластунов, сосредоточился к юго-западной части Ильинской, у шляха с хутора Лосева. С дивизиями и генерал Науменко. Стоял пасмурный день. Моросил мелкий дождь. Науменко бросил Лабинскую бригаду вперед. Крупной рысью спускалась она от того кургана, который стоит у Лосевского шляха, на уровне станицы Дмитриевской. Мы проходили мимо Кавказской бригады, численностью равной Лабинской. Мне немного было досадно, что вот в голову опять бросают Лабинцев, и в душе чувствовал – на неудачу. В управлении корпусом я не видел при этом наступлении ни порыва, ни дерзания. А тут еще «кислая» погода.
Головная сотня моментально сбила красных с мостика, что у кирпичного завода. Конница красных, отдельными группами, поскакала во все пролеты улиц Ильинской.
Наученный вчерашним опытом, что, втянувшись в станицу, толку будет мало, решил следовать прямо на север по окраине, оставив станицу правее себя, и, пройдя ее, занять выход на станицу Ново-Покровскую. Этим маневром я заставлял красных отступить только на восток, к станице Успенской.
В это время правее Лабинцев широким наметом понеслась Кавказская бригада, бросившись на восток, вдоль улицы. Это меня устраивало.
Перед Лабинской бригадой легкий подъем. Здесь прошлогоднее жниво и почва так разбухла и так вязка, что нельзя развить сильный аллюр.
Смотрю – красные скачут толпами впереди нас на следующей улице и поперек нашего движения. Решаю ударить их во фланг. Как в это время головная сотня под огнем красных отскакивает назад. Командир сотни докладывает, что впереди речка. Но я уже и сам вижу ее, потянувшуюся на восток. И красные, пройдя ее по мосту, заняли гумна по ту сторону этой предательской топкой речки Калалы и открыли по казакам огонь, зная, что речку-то мы не перейдем.
С досадой поворачиваю полки «взводами кругом»; неся потери, рысью отступаем назад. Одновременно с нами отступают и Кавказцы.
Вновь все сорвалось, и я, не ожидая приказаний, с бригадой отошел за мостик, что у кирпичного завода. Здесь пришло и приказание от командира корпуса: «идти домой» в станицу Дмитриевскую.
На высоком кургане у Лосевского шляха генерал Науменко долго стоял со мной и смотрел на Ильинскую, имея спешенные полки позади себя. Нудно моросил дождь и мглою заносил станицу от наших глаз. К ночи полки вернулись в Дмитриевскую.
Когда я поднялся на этот высокий курган, на котором находился командир корпуса, на нем лежали два казака с винтовками в руках, направленными на Ильинскую. В одном из них я сразу же узнал конного вестового всей Великой войны у моего бывшего командира сотни, подъесаула Г.К. Маневского – Георгия Афанасьева.
Это был крупный, сильный казак на таком же крупном и сильном рыжем коне донской породы. Неискушенный и простецкий, он служил «не кричаще», но честно и верно своему любимому командиру. Те, кто был с Маневским на «ты», называли его Жоржем. В шутку и Маневский называл своего вестового Жорж. Тот брал под козырек и не обращал никакого внимания на эту шутку. Порой и я, младший офицер в сотне Маневского, называл так Афанасьева. И вот теперь, не видя его ровно 2 года, я так обрадовался встрече, что совершенно серьезно и громко восклицаю:
– Здравствуй, Жорж!.. Живой?.. Как дела?
А он, грустный теперь, громко ответил мне, как и в Мерве, и на войне было принято в нашем 1-м Кавказском полку при личных встречах с хорошими казаками:
– Желаю здравия, господин полковник! – и, кивнув в сторону своей родной Ильинской станицы, беспомощно посмотрел на меня печальными глазами.
Казачье сердце, видимо, предчувствовало, что он уже никогда не вернется в свою станицу.
– В каком полку служишь и кто ты теперь, Жорж? – участливо спрашиваю его.
– Да подхорунжий я, господин полковник, но што теперь от этого толку! – грустно, подавленно отвечает он. – А это, господин полковник, мой младший брат. Увожу и его с собою. И вот в последний раз глядим на свою станицу, – закончил он.
Оба брата эвакуировались. Поселились в Югославии, занялись мелкой торговлей и никому из станичников о себе не давали сведений.
После этих двух неудач я почувствовал, что настал психологический перелом.
От 2-й дивизии было выставлено усиленное сторожевое охранение в сторону Ильинской. Чтобы показать свою «живучесть» и нервировать красных, приказал в охранение выставить одно орудие и через каждые полчаса давать один выстрел на их переправу у южного моста через Калалы.
На случай тревоги дивизии приказано сосредоточиться севернее Дмитровской, но у главной переправы.
Красные с утра подошли к станице. Их мы совершенно не ждали. И когда я со штабом дивизии выскочил через переправу к северной окраине по главному шляху Дмитриевская – Ильинская, навстречу мне, через дворы, бежали в панике пластуны. Впереди всех мой станичник Никита Джендо, неслуживый казак 35 лет, с перекошенным от страха лицом, кричит:
– Возвращайтесь назад, Федор Иваныч!.. Красные уже во дворах!
Не верить станичнику было нельзя. Да и больно быстро, главное через дворы, бежало несколько десятков пластунов. Повернув назад, прошли грязную топь у главной переправы и поднимаемся на противоположную сторону станицы – как в спины нам понеслись пули красных. И получилось так, что штаб дивизии вышел из станицы после своих полков. Полки стояли уже за станицей в достаточном беспорядке. Даже и мой славный храбрый 1-й Лабинский полк. Полковник Булавинов на это посмотрел, видимо, «просто», как на естественное явление, что «мы все равно не удержимся».
– Собрать свои полки! – зло кричу я командирам еще издали.
И тут же узнаю, что в этом неприятном отступлении смертельно ранен доблестный командир 1-й сотни, есаул Минай Бобряшев.
Штаб корпуса находился на мельнице, что по шляху к станице Кавказской. От генерала получено приказание: «Оставить только наблюдение за станицей, полки отвести назад, в балку».
Красные, заняв южную окраину Дмитриевской, вперед не продвинулись и постреливали по казакам.
Снялся с мельницы и штаб корпуса. Науменко один, без штаба, стоит со мной на перекате к балке. Видим, что лежащий впереди нас курганчик заняли какие-то пешие казаки, и слышим громкий баритональный голос команды:
– Взвод! – ПЛИ!.. Взвод! – ПЛИ!
– Кто это там «залпует»? – удивленно спрашивает меня Науменко, но я не знаю.
Он посылает казака с приказанием – сняться и отойти. И мы видим – идут 20 человек молодых казаков. Впереди них молодой начальник с двумя Георгиевскими крестами. Он докладывает, что это взвод пластунов станицы Ильинской и они в последний раз давали «салют» своей станице. Науменко улыбается, хвалит командира за молодечество и с миром отпускает их в строй.
Командиром этих пластунов был 20-летний подхорунжий Алексей Дорофеевич Белов, служивший в Добровольческих частях, где за храбрость получил и Георгиевские кресты, и звание подхорунжего.
Потом этот казак останется с Кубанской армией на Черноморском побережье; вернется в свою станицу, будет, как все его сверстники, мобилизован в Красную армию; будет в Кронштадте с восставшим гарнизоном, уйдет с ним в Финляндию; будет очень активным членом Финляндско-Кубанской станицы, украшением ее в песнях и танцах; с джигитами переберется в Америку в 1926 году, будет зарезан в спину каким-то поляком и умрет в больнице в неизвестности от полученных ранений ножом. Так жаль этого выдающегося самородка.
После полудня, не видя наступления красных, генерал Науменко приказал 2-й дивизии отойти в хутор Лосев, там заночевать и действовать по обстоятельствам на месте. С 4-й дивизией и остальными частями он отошел в станицу Кавказскую.
Бой у хутора Лосева
В хутор Лосев дивизия вошла затемно. Он весь расположен по северному берегу топкой Челбасы, имея единственную греблю к хутору Романовскому.
Казачья гребля – она строится местными общественными средствами, да так – лишь бы проехать подводой. Лосевская гребля ужасна: узкая, низкая, густо унавоженная.
Зная, что в случае отступления нам не удержаться в хуторе, приказал быть начеку. И действительно, с раннего утра разъезды донесли, что наступает красная конница. Немедленно перевел дивизию на южный берег и 1-м Лабинским полком занял позицию на склоне, на таком расстоянии от реки, до которого не доставал бы пулеметный огонь красных. Все остальные три полка и артиллерию (не знаю, сколько было орудий) укрыл за перекатом, в балке.
Ко времени завтрака красная конница, крупной рысью спускаясь с высокого переката, вошла в Лосев. Мы молчали. Но когда она двинулась к гребле, легким пулеметным огнем Лабинцев была остановлена.
День 26 февраля начался с ярким восходом солнца. Стало сразу тепло, и песчаная почва этого района нашей станицы была суха. День настал совсем весенний. Но он для 1-го Лабинского полка был особенно тяжелым по своим потерям.
Красные, выждав, к обеду открыли по казакам артиллерийский огонь откуда-то из-за закрытой позиции к северу от Лосева. После обеда огонь их усилился, они хорошо пристрелялись по целям.
Уже не раз доносил мне полковник Булавинов и о потерях, и о невозможности держаться на неукрытых позициях. Но я отлично знал, что, если мы оставим свои позиции и выпустим из-под обстрела единственную переправу, красные немедленно перейдут Челбасы, и тогда надо будет вести настоящий бой, который может быть не в нашу пользу, или отходить на хутор Романовский – до него было 12 верст.
К полудню огонь красных заговорил сильнее. Уже провезли мимо меня изувеченного шрапнельным разрывом доблестного командира 6-й сотни хорунжего Меремьянина 1-го. Вскоре был убит его двоюродный брат, пулеметчик хорунжий Меремьянин 2-й. Из линии фронта потянулись раненые казаки и линейки с убитыми. Я чувствовал, что положение становится буквально невозможным. У меня телефонная связь со штабом корпуса через хутор Романовский. Чтобы не тревожить корпусного, вызываю начальника штаба полковника Егорова и докладываю ему о невозможности держаться дальше. Он настаивает, чтобы дивизия обязательно продержалась до вечера.
Дивизия держится. Но через час положение усугубляется. Казаки все время посматривают назад, в мою сторону, явно ожидая приказа «отхода». Я ловлю ту психологическую черточку, которая скажет мне, что, если красные начнут переправляться в нашу сторону, казаки уже не выдержат.
Вновь вызываю начальника штаба и уже диктую ему, что, может быть через час времени, я снимаюсь с позиции и отхожу в Романовский. Услышав это, полковник Егоров, очень корректный офицер Генерального штаба, который меня отлично знает еще по Корниловскому полку на Маныче весной 1919 года и с которым я всегда был в самых мирных взаимоотношениях, вдруг очень решительно, тоном беспрекословного приказания говорит:
– За отсутствием генерала Науменко, именем командира корпуса, приказываю Вам, полковник Елисеев, во что бы то ни стало продержаться до темноты на занимаемых позициях и только потом уже отходить в хутор Романовский. Штаб корпуса, 4-я дивизия и все остальные части корпуса отойдут к ночи туда же, в хутор Романовский. – И добавил еще тверже: – Вы будете ответственны по законам военно-полевого управления войск, если не исполните моего приказания.
Сказал и повесил трубку. Я понял, что дальнейший разговор с ним бесполезен. Как и прав он. Проехал сам к Булавинову, урезонил его и усилил 2-м Лабинским полком. В резерве у меня Кубанская бригада в 250 шашек. На душе было скверно.
И как мы рады были, когда наступила темнота. Я вновь вызвал к телефону полковника Егорова, и мы тут уже спокойно ориентировали один другого в общей боевой обстановке.
– Итак, полковник, снимайте Вашу телефонную связь и – до встречи в Романовском, – совершенно любезно закончил наш разговор Егоров.
2-й дивизии приказано было занять северные улицы Романовского и на ночь выставить сильное охранение в сторону Лосева. Штаб корпуса со всеми своими частями расположился в южной части хутора.
Сетью железнодорожных путей хутор Романовский разделен на две равные части, сообщение между которыми имелось только на окраинах, подземными мостами. Для пешеходов существовали два висячих моста.
По знакомому мне с детства шляху дивизия идет в Романовский. Он расположен в глубокой котловине, но зарево многочисленных огней железнодорожного узла за много верст определяет его местонахождение и радует нас, воинов, уже надорванных боевыми неудачами.
Судьбе надо было сделать так, что 1-й Лабинский полк имел свои кровавые потери 26 февраля именно на том месте, где 16 февраля захватил в плен всю группу красной пехоты с пушками, пулеметами и обозами, отступившую от хутора Романовского, и понес при этом совершенно незначительные потери.
Судьбе угодно было сделать так, что 16 февраля, когда четыре сотни 1-го Лабинского полка скакали по снежной степи от Романовского в Лосев, чтобы отрезать отступавшую красную пехоту, 6-я сотня хорунжего Меремьянина 1-го, бывшая в заслоне, гналась по пятам пехоты именно по этому шляху, по которому 26 февраля везли в Романовский его тело, изуродованное шрапнельным разрывом красных. Через 2 месяца он умрет в Крыму от ран на руках своей молодой жены-казачки.
Судьбе было угодно еще сделать так, что в трех замечательных по успеху атаках 1-го Лабинского полка не был ни убит, ни ранен ни один офицер, а теперь, при отступлении, в упорных боях убиты трое доблестных офицеров – коренных Лабинцев. Пусть Войсковая история запишет их имена на своих скрижалях – есаула Миная Бобряшева и двух хорунжих, братьев Меремьяниных, погибших в боях, защищая свой Казачий Удел.
Полковник Миргородский
Голова дивизии дошла до тех бугров, которые занимали красные 16 февраля, отойдя от Романовского, и на которых, в предутренней темноте, напоролся 1-й Лабинский полк. С них, к югу вниз, сплошное зарево огней многочисленных фонарей паутины железнодорожного узла, соединяющего Россию с Кавказом и Черноморье со Ставропольем. Было и не похоже на войну. Население хутора в 40 тысяч здесь жило будто по-мирному.
Мы прошли через железнодорожный переезд на Ставрополь и ту будку, знакомую по 16 февраля, и вошли в хутор.
Квартирьеры ведут штаб дивизии к западу. В темноте узнаю так знакомые мне места, где наша семья имела подворье. Хутор Романовский был наш, казачий. Узнаю знакомый дом полковника Павла Григорьевича Миргородского и, к удивлению, стоявшего на улице его владельца. Он, в длиннополом туркменском тулупе с большими рукавами, внакидку на плечи, видимо, кого-то ждал.
– Здравствуйте, Павел Григорьевич! – воскликнул я от такой неожиданной встречи, не видев его с 1917 года.
Миргородский – наш старейший Кавказец мирного времени, прослуживший все свои офицерские годы в полку по окончании Ставропольского казачьего юнкерского училища, когда в полки выпускались «чином подхорунжего».
Любимец всего полка – и офицеров, и казаков. В молодости джигит и кутила, но кутила добрый, щедрый, компанейский. В станице Брюховецкой имел родовой офицерский участок земли в 200 десятин. Женившись, остепенился. У него взрослые дети. Жена Ольга Константиновна – старшая, главная и самая уважаемая полковая дама в Мерве. В день семейных праздников дом Миргородских – полная чаша. Вот почему, не зная еще причины, зачем он стоял на улице, я быстро соскочил с седла, считая совершенно недопустимым подать ему руку «сверху».
– Здравствуй, дорогой, ходим зо мною, я шось хочу Вам сказать, – говорит он, берет меня под руку и отводит в сторону.
Как природному черноморскому казаку, ему было легче изъясняться на родном языке, что всегда у него было в мирное время, в особенности когда он волновался. В данный момент он особенно волновался. И, отойдя на несколько шагов от штабного конного строя, чтобы его никто не слышал, продолжает:
– Ось шо в моем доме отвели постой для штаба дивизии. Я понимаю необходимость, но – завтра прийдуть ци, красные, и в доме полковника ночував штаб дивизии. Вы же понимаете, шо воны зо мною зроблять?! Нельзя ли, Хвэдир Ваныч, яксь, того в другэе мисто поставыть його?
Я понял нашего дорогого и милого старика Кавказца Павла Григорьевича и, желая как можно скорее его успокоить, быстро отвечаю:
– Конечно, конечно, Павел Григорьевич!
– И Ольга Константиновна просыть, – добавляет он, словно извиняясь за свое малодушие.
Если бы мне предстояло как-то пострадать, то и тогда я оградил бы от могущих быть неприятностей этого глубокоуважаемого и любимого нами Мафусаила-кавказца. Успокоив его, приказал никому даже и не въезжать в его двор, чтобы не вызвать подозрений «завтрашних гостей».
Это, конечно, не спасло старика. Писали потом: «Павел Григорьевич вскоре был арестован и увезен куда-то на север».
Завтра, 27 февраля 1920 года, 2-й Кубанский конный корпус оставит железнодорожный узел станции Кавказская Владикавказской железной дороги и отойдет на запад, в станицу Казанскую. Массивный каменный железнодорожный мост через Кубань, построенный в годы Русско-японской войны, не будет взорван. Не будет взорван и старый железнодорожный чугунный мост красного цвета, лежащий рядом, оставленный для подвод, по которому конница может проходить в колонне «по-шести». И с этого дня прекратится всякая связь с 4-м Кубанским конным корпусом, действовавшим по линии Армавир – Невинномысская, прекратится всякая связь с Терским Войском и частями, действовавшими в Терско-Дагестанском крае.
Тетрадь четвертая
Последняя атака
27 февраля едва только начался рассвет, как с северных бугорков затрещал по хутору Романовскому огонь красных. Это подошла пехота из хутора Лосева, находящегося в 12 верстах от нас.
Услышав выстрелы, уставшие после вчерашнего боя полки моментально сосредоточились в указанных местах, и вся 2-я Кубанская дивизия шагом двинулась по улицам на запад, к виадучному мосту, на соединение с остальными частями корпуса, ночевавшими в южной половине хутора.
Являюсь к генералу Науменко. Он улыбается и спрашивает:
– Что, жарко было вчера?
То есть он спрашивал, тяжело ли было вчера в пешем бою дивизии на солнцепеке и в течение целого дня? Этим он хотел, видимо, подбодрить меня и стушевать резкие слова своего начальника штаба полковника Егорова, который по телефону угрожал предать меня суду, если я отступлю от Лосева, не выдержав огня красных.
– Да, жарковато было, Ваше превосходительство, – отвечаю ему, и теперь мы все трое (и Егоров) дружески улыбаемся.
Генерал Науменко часто умело подходил к человеческой душе.
Весь корпус, не останавливаясь, спокойным шагом стал подниматься на высокое плоскогорье по дороге к станице Казанской, отстоящей от Романовского в 10 верстах.
С полуподъема было обнаружено, что красные еще не вошли в хутор, а занимали позиции на своих бугорках. В это время от вокзала Кавказской в направлении Тихорецкой вышел наш бронепоезд. Для его поддержки выдвинута 2-я дивизия. Перевалив железнодорожное полотно без моста на Екатеринодар, дивизия нагнала бронепоезд и двигалась чуть позади его. Вдруг он остановился и открыл частый орудийный огонь на восток, одновременно с этим из низины конная группа человек в пятьсот широким наметом бросилась наутек. Это было для нас полной неожиданностью. Быстро, без моста, перевалив железнодорожное полотно на Тихорецкую и построив дивизию в резервную колонну (все головы полков на одном уровне), широкой рысью стал подниматься в сторону уходящего противника.
Генерал Науменко, посылая 2-ю дивизию, рекомендовал не ввязываться в бой, а только поддержать наш бронепоезд. Но картина бегства красной конницы была настолько паническая, что невольно втягивала в преследование.
Для воодушевления и «веселости», остановив хор трубачей в 30 человек на невысоком пологом кургане, приказал им играть бравурные марши.
Конница красных, выйдя из сферы досягаемости орудийного огня бронепоезда, вдруг всей своей массой быстро повернула на север, потом на запад и, не имея широкого аллюра, бросилась навстречу дивизии. Позади нее три длиннейшие цепи пехоты красных, в далеком мареве раннего утра, наступали на станицу Кавказскую. Хутор Романовский был обложен с севера. 2-я дивизия совершенно случайно появилась действующей во фланг и даже чуть в тыл всей красной пехоте, направлявшей свой главный удар на станицу Кавказскую, где наших войск уже не было.
Красное командование, видимо, предполагало, что 2-й Кубанский конный корпус перейдет Кубань у станицы и отойдет в Майкопский отдел, но не на запад. Два моста через Кубань, каменный железнодорожный и чугунный для подвод, были внизу, у станицы Кавказской. Мосты им необходимо было взять, чем окончательно разъединить войска Северного Кавказа, прервав меж ними всякую связь – и железнодорожную, и телеграфную, и телефонную, не говоря уже о живой связи, которая не поддерживалась и тогда, ввиду широкого фронта восточной половины Северного Кавказа.
Так думали и офицеры-лабинцы – «отойти к станицам своего полкового округа и, пополнив Лабинскую бригаду, закрепиться на реке Лабе». Не скрою – так думал и я, как о естественном отходе «за Кубань».
Военачальник красной конницы, которому, видимо, было задание охранять правый фланг своей пехоты, надо признать, действовал молодецки и обрушился на нашу дивизию со всем жаром, имея позади себя сильный состав войск.
Красная конница ринулась в контратаку широчайшим аллюром всей своей густой массы. Режет мысль: «Если казаки дрогнут – дивизию можно будет собрать только под станицей Казанской». И в этот момент я вспомнил о своих пулеметах.
На правом фланге, по старшинству полков, шла малочисленная Кубанская бригада в 250 шашек. Левее – Лабинская, около тысячи шашек. Повернув бригады в противоположные стороны, выкрикнул:
– Пулеметы 1-го Лабинского полка – ВПЕРЕ-ОД!
Правее меня, не ожидая приказания, выскочила широким наметом пулеметная команда 1-го Кубанского полка со своими шестью ручными пулеметами системы «Льюис». Впереди нее скачет сотник, держа свой пулемет поперек седла у передней луки. 22 пулемета Лабинцев на линейках, с величественным в боях есаулом Сапуновым, карьером выбросились вперед и заскворчали все, до трех десятков пулеметов. Конница красных от неожиданности смешалась и, повернув назад, бросилась наутек.
– В АТАКУ-У!.. МАРШ-МА-АРШ! – кричу-командую, но полки, видя всю эту картину, уже сами бросились с места в карьер.
Это поле принадлежало казакам станицы Кавказской. Еще недавно здесь были только сенокосы. Почва твердая, с бурьяном. Уже просохшая по весне земля. Теплое весеннее утро с мягким ласкающим ветерком с востока. Позади – мощный хор трубачей 1-го Лабинского полка воинственно-бравурными маршами бросал душу воина в поднебесье, к победе. Все это, вместе взятое, толкало на подвиг даже и не храбреца.
Я не поскакал с полками, а остался наблюдателем у пулеметов. По горячности я бросил в атаку все четыре полка и, когда они «вырвались» у меня из рук, остался без всякого резерва. Вот почему я остался с пулеметами как с самым надежным резервом, который, был уверен, никто «не сомнет».
Красные не выдержали, повернули назад, и все слилось в головокружительной скачке по чистому, ровному, сухому полю – одних удирающих, а других преследующих.
В это время южнее нас версты на три рысью вышла на бугорки 4-я Кубанская дивизия полковника Хоранова и остановилась. Не было ли возможности атаковать красную пехоту во фланг, или еще что другое заставило Хоранова не принять участие, не знаю, но дивизия остановилась и не двинулась дальше. Артиллерии при дивизиях не было. Вместе с незначительным обозом полков она оставалась при штабе корпуса, так как было приказано не втягиваться в затяжной бой. И этот бой был совершенно случайный.
Я стою верхом и наблюдаю дивную картину дикой скачки казаков, рассыпавшихся по всему широкому полю. Красные почему-то уходили на северо-восток, но не к своим наступающим пехотным цепям, оказавшимся к этому моменту юго-восточнее боевого поля конницы, почему весь удар пришелся на Лабинскую бригаду, бывшую на левом фланге.
Казаки прижали красных к паханому полю. Извиваясь змеями по нетронутым плугами участкам, зигзагообразными лентами распластались они в спасающем карьере, настигаемые казаками. Полки были уже так далеко от меня, что я, оставив есаула Сапунова с пулеметами, приказав быть «настороже», поскакал к каким-то остановившимся группам казаков. Прискакал и вижу – четыре тачанки красных с пулеметами строчат по своим. Возле каждой тачанки несколько урядников с револьверами в руках угрожающе требуют от пленных пулеметчиков «лучше целиться». С перекошенными от страха за свою жизнь лицами, пленные «добросовестно» исполняли свою роль.
Полки вышли красным в тыл. Вдруг со стороны станицы Кавказской, из балки, меж длиннейших, облегающих станицу цепей, показалась свежая конная группа красных человек в пятьсот и широким наметом двинулась на поддержку разметанной своей конницы на правом фланге. Полки дивизии разбросаны, и дело могло повернуться в неблагоприятную для казаков сторону. Штаб-трубачу Василию Диденко приказал трубить «Сбор». И залилась труба в утренней тишине степи:
Соберитеся всадники ратные
…
Слушайте, всадники-други —
Звуки призывной трубы-ы…
Такой теплый, весенний, приятно-растворяющий день выпал 27 февраля 1920 года, что казаки, разбросавшись в дикой победной скачке по широкому полю, видимо, и не думали присоединяться к своим разметавшимся сотенным значкам.
После головокружительной скачки, наспех повязав полушубки в торока, разгоряченные, беспечно и сладостно, мелкими группами маячили они везде, словно стараясь в последний раз и во всю свою молодецкую грудь надышаться и насладиться свежим весенним воздухом в последнюю свою удалую конную атаку, на своем казачьем поле, вне строя и вне слов «команд».
А тут еще жаворонок, взвившись в воздух и остановившись «на мертвой точке», так сооблазнительно пел и переливался над казаками. Ну, куда же было там казакам «до строя»!
Неожиданно прискакал ординарец от генерала Науменко, наблюдавшего всю эту картину с высокого плоскогорья перед станицей Казанской, с приказанием: «2-й дивизии свернуться и, оставив сторожевое охранение у железной дороги, на ночлег войти в станицу Казанскую».
Далеко-далеко на юго-восток, в мареве очень теплого весеннего дня, когда «играет горизонт», три длиннейших цепи красных, видимо выждав конец конного боя, поднялись и двинулись к моей станице Кавказской, где осталась одна женская часть семьи отца. Я знал, что их никто не может защитить. И тут же острой болезненной струйкой пронеслась мысль – не навсегда ли я покинул свою родную станицу?.. И я почувствовал полную слабость в своем теле, а в душу вошло какое-то гнетущее уныние.
Дивизия отходила через железнодорожный мост у разъезда Рогачевского, что перед станцией Мирская, в направлении Тихорецкой. И вновь так знакомые еще с детства места. Здесь стоит все тот же колодец у будки, из которого на сенокосе казаки брали воду «в очередь», курили, говорили о делах и немного ругались из-за этой очереди, так как больше колодцев здесь, в степи, не было, от станицы 17 верст, а Кубань «с водою» была еще дальше.
Об этом дне генерал Деникин написал потом: «К 27 февраля северный фронт отошел на линию реки Бейсуг. Тихорецкая и Кавказская были уже оставлены нами, и связь с Северным Кавказом – утеряна».
За нами оставалась только левобережная Кубань. И что «это» было по сравнению с необъятной территорией всей России, занятой уже красными?!.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+19
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе