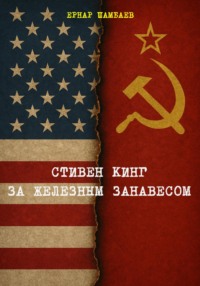Читать книгу: «Стивен Кинг за железным занавесом (история книг С. Кинга в СССР и России, 1981-2025)», страница 5
Огонь под контролем: Воспламеняющая взглядом
В 1986 году в ленинградском литературном журнале «Звезда» (N4-7) был напечатан второй роман Стивена Кинга на русском языке – «Воспламеняющая взглядом». Как и два года назад, его переводом занимался творческий тандем Васильев-Таск. И как в прошлый раз, произведение про девочку-поджигательницу подверглось жесточайшей редакторской правке (и дело было не только в том, что роман опубликовали в журнальном варианте).
Цензурные ножницы не щадили никого и ничего: ни героев, ни сюжет, ни диалоги. Так, одна из самых сильных и драматических сцен – расправа маленькой Чарли над агентами тайной правительственной организации «Контора» на ферме Ирва Мэндерса – в советской версии была значительно сокращена. Не лучше обошлись и с финалом (после разгрома «Конторы» Чарли не сразу идет в газету, а прячется у Ирва).
Особую заботу редакторы проявили по отношению к всяческим упоминаниям СССР – они были вычищены подчистую. Приведем лишь часть из них.
1. На ферме у Ирва Мэндерса Эл Стейновиц говорит: «Нам не нужен ордер», на что фермер отвечает: «Нужен, если только я не проснулся этим утром где-нибудь в Советском Союзе»
Пропаганда работала не только в СССР.
Перевода этого диалога в советском варианте нет, равно как и сцены, где Чарли сжигает агента Стейновица.
2. Намек на Солженицына, который в тот момент жил в Вермонте: «Чертов русский восседает в своем доме, словно царь, и строчит книги, в которых никто ничего не понимает».
В советском переводе этой строчки нет.
3. Мысли Энди: «Он прекрасно понимал, почему КГБ наводил такой ужас и почему Уинстон Смит из романа Оруэлла испытывал тайное, безумное упоение от своего короткого и обреченного бунта».
В советском переводе: «Он хорошо понимал состояние оруэлловского Уинстона Смита, который на какое-то время ошалел от своего подпольного бунтарства».
4. Рэйнберд говорит Кэпу: «Нацисты были чудовищами. Японцы тоже. А теперь немцы и японцы стали хорошими, зато русские – чудовищами. Мусульмане чудовищны. Кто знает, кто станет следующим чудовищем?»
В советском переводе фразы нет.
5. Рэйнберд говорит Чарли: «Мы можем тебя отпустить, но тогда тебя схватят русские. Или северокорейцы. А может, даже эти чертовы китайцы-язычники».
В советском переводе: «Если мы дадим тебе уйти, завтра тебя захватят агенты какой-нибудь другой стороны».
6. Рэйнберд говорит Кэпу: «Я пытаюсь создать атмосферу доверия. Доверия, основанного на том, что мы с ней оба чужаки – оба изгои, если угодно – и нас похоронили заживо в глубинах американского филиала КГБ».
В советском переводе: «Я пытаюсь создать атмосферу доверия, основанного на том, что мы с ней оба чужаки или, если хотите, уроды, которых гноят в американской охранке».
«Воспламеняющая» написана в 1980 году, когда холодная война разгоралась с новой силой, и антисоветская риторика в американских книгах, фильмах и СМИ достигла очередного пика. Поэтому герои «Воспламеняющей» – особенно правительственные агенты и те, кто с ними сталкивается, – вполне естественно мыслят в духе эпохи: советские спецслужбы – воплощение страха и террора, коммунисты – потенциальные похитители американских детей с паранормальными способностями, а упоминание КГБ становится удобной метафорой для любой секретной и устрашающей структуры.
На «Воспламеняющую» в журнале «Звезда» были написаны две рецензии: Мэлора Стуруа37 («Так ли далек Стивен Кинг от истины?») и Льва Варустина38 («Фантастические и реальные прозрения Стивена Кинга»).
Лев Варустин был человеком нелегкой судьбы. В 1937 году, в самый разгар сталинских репрессий, его отца расстреляли как «врага народа», а мать сослали в Казахскую ССР – регион, куда в те годы массово этапировали жен так называемых «изменников Родины». Маленький Лева вместе с братом и сестрой оказался в детском доме.
В 1986 году Варустин работал заместителем главного редактора журнала «Звезда». В своей статье он во многом повторяет сказанное ранее Ивашевой, выстраивает параллели между вымышленной организацией «Контора» в романе и реальными структурами американской спецслужбы (ЦРУ) и отмечает способность Кинга художественно разоблачать милитаризм, насилие, вмешательство спецслужб в частную жизнь, «которые стали частью американской действительности».
«Политическую аллергию вызывает у правящих кругов США, заокеанских скалозубов ныне уже и литература общедемократического содержания, книги вовсе не коммунистов и даже не сочувствующих их идеям. В числе отверженных – преуспевающий, ныне весьма богатый писатель Стивен Кинг. Ему не прощают того, что Кинг не только разглядел, но и посмел выступить с разоблачением милитаристских, тоталитарных тенденций, какие наметились в развитии современной политической истории США. За всеми причудливыми его фантазиями, живыми противоречиями его мысли стоит тревожащая совесть писателя истина: нация, вступившая на дорогу милитаризма, исповедующая идеи национального превосходства, сама загоняет себя в угол, предает свои демократические традиции, топчет права личности»39, – пишет Варустин.
Мэлор Стуруа был незаурядным человеком с незаурядной судьбой. Он родился в семье убежденного и прожженного большевика, прошедшего через царские тюрьмы и каторгу. Имя «Мэлор» – это аббревиатура от «Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция». Стуруа прожил очень насыщенную жизнь, полную приключений. Например, в 1960 году он сопровождал Никиту Хрущева в поездке по странам Востока в качестве специального корреспондента газеты «Известия». Побывал в десятках стран, встречался с мировыми лидерами. Стуруа прослыл жестким, непримиримым антиамериканистом (по крайней мере, на бумаге; цитаты вроде «людоедская мораль империализма янки» были еще самыми мягкими). Затем, в последние годы существования СССР, неожиданно полюбил Америку до такой степени, что переехал туда жить.
В интервью 2018 года Мэлор Стуруа прокомментировал свою прежнюю журналистскую деятельность, подчеркнув, что работа в советской системе предполагала определенные правила игры. Он признал, что его публикации соответствовали идеологическим требованиям времени. Однако он настаивал, что это была осознанная стратегия: статьи писались в двух слоях – внешний слой пропаганды был обязательным, но под ним скрывался достоверный и живой материал о жизни в Америке.
По словам Стуруа:
«Я колебался с линией партии. Да, я был журналистом, который в основном писал, в особенности в свой московский период, даже когда был корреспондентом в США, о том, что надо было писать… Все знали, что, конечно, там будет небольшой слой пропаганды, идеологии, а потом будет просто интересно, ибо я описывал то, что я видел в Америке, поэтому мои очерки были как бы двуслойные. С одной стороны, конечно, антиамериканизм, но с другой – было очень много познавательного. И мой читатель, будучи, конечно, умным читателем, умел отделить верхний слой необходимой пропаганды и ту фактуру, суть, которую он впитывал в себя»40.
Иначе говоря, Стуруа считал, что читатель должен был уметь читать между строк. По его логике, восприятие публицистики того времени как буквальной и однозначной – ошибка читателя. Если кто-то принимал публикуемое за чистую монету и верил в образ «людоедского империализма», не уловив подтекста и скрытого содержания, значит, ответственность за это лежит уже не на авторе, а на читателе. Запоминайте, может пригодиться!
В своей статье Стуруа мало уделяет роману Кинга и в основном описывает эксперименты над людьми, которые, видимо, имели место в США.
«Итак, литературный "метод доведения до абсурда" – отражение граничащей с абсурдом преступной деятельности американских разведслужб. Если что и фантастично в романе Кинга, так это его «счастливое» окончание в духе канонического "хэппи энд". Смешно даже подумать, что страшное зло можно победить, обратившись в газету, хотя бы и такого либерального направления, как "Роллинг Стоун". Ах, если бы!»41 – восклицает Стуруа в конце своей статьи.
Эффект, произведенный «Воспламеняющей», оказался заметно слабее, чем отклик на «Мертвую зону», опубликованную двумя годами ранее в «Иностранке». Почему? Причин, по-видимому, несколько, и каждая из них по-своему важна.
Во-первых, разница в статусе и весе журналов. В советской культурной иерархии «Иностранная литература» занимала особое положение. Публикация в «Иностранке» была знаком качества: если уж там напечатали – значит, серьезная и стоящая литература. В отличие от нее, «Звезда» (хотя и уважаемый, старейший ленинградский журнал, основанный еще в 1924 году) котировался значительно ниже, особенно за пределами культурной столицы.
Во-вторых, сравните тиражи, цифры говорят сами за себя. В 1984 году, когда «Мертвая зона» появилась в «Иностранной литературе», ее тираж составлял 377 000 экземпляров. У «Звезды» в 1986 году тираж был значительно скромнее – всего 120 000 экземпляров, почти в три раза меньше.
В-третьих, а может, «Мертвая зона» действительно сильнее как роман? Кинг очень гордился в свое время этой книгой.
Ну и не забывайте про время публикации в СССР, это тоже имеет значение. «Мертвая зона» появилась в 1984 году – в период позднего застоя, когда любые проблески альтернативного, западного мышления воспринимались острее. В 1986-м, напротив, наступала эпоха гласности, на горизонте маячили «оттепельные» тенденции, и журналы начинали публиковать ранее запрещенные советские произведения.
Таким образом, «Воспламеняющая взглядом» действительно понравилась советскому читателю, но не стала таким же литературным событием, как «Мертвая зона». Книга, способная разжечь костер в западном читателе, в СССР оставила лишь легкий дымок.
Глава 2. Perestroika!
Ветер перемен
Примерно в то же самое время, когда один американский писатель, живущий в штате Мэн, автор множества бестселлеров и отец троих детей, в отчаянии пришел к выводу, что так дальше жить нельзя и необходимо срочно выбираться из болота алкогольной и наркотической зависимости, по другую сторону Атлантического океана лидеры большой страны сделали схожее открытие: так дальше жить нельзя. В СССР, державе, которую внешне казалось, ничто не могло поколебать, к 1987 году поняли: существующая система заходит в тупик. Экономика буксовала, идеология выхолащивалась, люди утрачивали веру, что коммунизм будет-таки построен в отдельно взятой стране.
Ставший в 1985 году Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев через два года запустил программу радикальных реформ – Перестройку. Советский философ-эмигрант Александр Зиновьев, наблюдая за происходящим из-за границы, с горечью и сарказмом назвал эту эпоху «Катастройкой». В его словах звучало пророческое предостережение: перемены, начатые без четкого понимания их сути и последствий, не просто обновят страну – они разрушат ее до основания.
Власти объявили демократизацию, гласность, экономические реформы, обновление партийных структур. Горбачев призвал перестраиваться. Однако благие намерения быстро столкнулись с неуправляемой реальностью: ухудшение экономической ситуации, повсеместный дефицит (талоны даже на сахар и мыло), обострение межнациональных конфликтов, а главное – КПСС теряла монополию на власть.
Перестройка изменила СССР до неузнаваемости: от политической системы до жизни обычных людей. Советский Союз медленно, но неотвратимо приближался к своему краху.
Уже более 30 лет идут споры: чем же на самом деле была Перестройка? Была ли она так необходима? Была ли обречена на провал?
Можно ли было обойтись без реформ? Или страна уже подошла к краю, и любые изменения были неизбежны? Ведь экономика Советского Союза, несмотря на внешнюю мощь, страдала от системных проблем: неэффективное планирование, технологическая отсталость, хронический дефицит товаров. Власть становилась все более громоздкой и инертной, теряя связь с реальностью. Общество устало от застоя и все громче требовало перемен.
Если бы не Горбачев, началась бы Перестройка позднее? Мог ли СССР продолжать жить дальше по инерции, без резких изменений, как, например, Китай после событий 1989 года? Можно ли было провести реформы иначе – мягче, осторожнее, не разрушая страну? Был ли у Горбачева шанс избежать хаоса и развала, или он с самого начала оказался в ловушке, где любое решение вело к катастрофе?
Споры об этом не утихают. Возможно, они не утихнут никогда. Для одних Перестройка – это символ надежды, попытка дать стране новую жизнь. Для других – символ трагедии, потерь и обмана. Третьи же видят в ней предательство, заговор, хитроумный план по разрушению страны, либо со стороны Запада, либо со стороны местных элит, которые хотели переустроить государство в своих интересах. В этом сценарии Перестройка – это не реформа, а диверсия, и ее авторы сознательно вели страну к распаду.
На эту тему написаны сотни книг, среди них я бы выделил «Коллапс. Гибель Советского Союза» Владислава Зубка.
Кинг, пройдя болезненный путь самоочищения, к началу 1990-х годов переродился как художник, обретя новую глубину и силу. И новые темы («Игра Джеральда», «Долорес Клейборн», «Роза Марена»). Советский же Союз, напротив, не смог преодолеть кризис трансформации и в 1991 году прекратил существование.
Стивен Кинг и Главлит
Наконец-то, это случилось. Дождались! Первая книга Стивена Кинга в СССР!
В 1987 году в издательстве «Молодая гвардия» тиражом 200 тысяч экземпляров (и без ISBN) вышла книга «Мертвая зона». Полновесная книга – это всегда лучше, чем размазанная на три журнальных номера публикация.
Бонусом шло несколько рассказов, опубликованных ранее в различных журналах и газетах. Послесловие к книге написал Николай Пальцев – под названием «Страшные сказки Стивена Кинга: фантазии и реальность». Пальцев был учеником Валентины Ивашевой и подхватил от нее вирус любви к Кингу.
В советской редакционно-издательской практике было принято снабжать переводы иноязычных произведений обширными предисловиями/послесловиями или аналитическими статьями. Это были своеобразные пояснительные записки к зарубежной литературе – не только литературоведческие, но и идеологические. Подобные тексты, написанные научным, но доступным языком, выполняли сразу несколько функций: они помогали читателю правильно интерпретировать прочитанное, а также предвосхищали возможные идеологические вопросы – как со стороны читателей, так и цензоров. Кроме того, они нередко содержали полезную справочную или библиографическую информацию.
Решение о выпуске «Мертвой зоны» было принято, как тогда говорилось, «идя навстречу пожеланиям трудящихся».
Сергей Дмитриев, ныне главный редактор издательства «Вече», который в те годы работал в «Молодой гвардии», вспоминает: «Огромную роль играли тогда аннотированные указатели – благодаря им люди заранее знали, что, к примеру, выйдет в ЖЗЛ в течение года. Читатели оставляли заявки, «Союзкнига» их собирала. Когда мы готовили план на год вперед, его утверждали в ЦК ВЛКСМ, затем делали брошюру с аннотациями, рассылали ее по всей стране. Этот указатель собирал заказы, и мы знали, какой тираж будет у той или иной книги»42.
Но что такое 200 тысяч для огромной страны с населением в 300 миллионов человек? Капля в море. Книга, как и полагается, сразу стала дефицитом, потому что большая часть тиража была разбросана по библиотекам необъятной страны. В советское время была великолепно развита библиотечная система, благодаря чему изданные книги попадали даже в самые отдаленные концы СССР. В Туркмении можно было найти то, что не удавалось отыскать в Москве или Ленинграде.
И здесь начинается самое интересное. Книги Кинга, попавшие в библиотеки, словно обретали собственную волю. По картотекам они значились, но физически найти их на полках было почти невозможно. Они мистическим образом исчезали, терялись, «зависали» у читателей, не возвращались. Библиотекари лишь разводили руками. Во многих случаях страницы, содержащие рассказы или повести Кинга, были вырезаны из журналов и газет. Не иначе как здесь орудовал Джон Шутер из «Секретного окна, секретного сада», а библиотечная полиция сладко дремала.
Пришло время немного поговорить о Главлите, еще одном монстре советской эры, который, однако, в годы Перестройки начал пошатываться.
Главлит, или Главное управление по делам литературы и издательств, был ключевым органом советской цензуры, контролировавшим все печатные издания, включая книги, газеты, журналы и т. д. Он не только следил за идеологической чистотой текстов, но и предотвращал утечку государственной тайны, ограничивал доступ к определенным произведениям, контролировал типографии, а также регулировал работу лиц, имевших доступ к печатному оборудованию.
Это был дракон советской эпохи, в чьих когтях находились судьбы авторов, переводчиков и издателей. Его решениями определялось, что можно читать советскому гражданину, а что должно быть навсегда изгнано из публичного пространства. Фраза о том, что «мышь не могла проскочить», вполне уместна: уровень контроля был абсолютным, и даже мелкие вольности могли стать причиной запрета или серьезных правок.
Но в перестроечные годы этот дракон начал терять когти. Он все еще пытался рычать, царапаться и управлять потоком информации, но времена менялись слишком быстро. Идеологические ориентиры начали размываться. Возьмем случай с публикацией романа «Мертвая зона» в Советском Союзе.
В 1987 году московское издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу в журнальном варианте – с сильно урезанным текстом, из которого бесследно исчезли многие сцены. Это была стандартная практика Главлита: проверять перевод, вычищать «идеологически вредные» моменты, а затем допускать к печати.
Однако логика работы цензоров в этот период начинала давать сбои. Потому что уже в 1988 году в Киеве, в издательстве «Дніпро», выходит полная версия «Мертвой зоны» на украинском языке. Без купюр.
В былые времена такого несоответствия быть не могло. Главлит строго следил за унификацией цензуры по всей территории СССР. Любая публикация проходила централизованный контроль, и местные издательства не имели права на самодеятельность.
Монолит советской цензуры, державшийся десятилетиями, в перестроечные годы начал постепенно рушиться. Главлит, еще недавно представлявший собой незыблемую структуру с четкими инструкциями, строгими запретами и механизмами их реализации, вдруг оказался в условиях, когда старые правила теряли силу.
То, что в Москве в 1987 году «Мертвая зона» вышла в сильно отредактированном, цензурованном виде, а в Киеве уже в 1988-м – полной версией (со сценой изнасилования, с убийцей, напевающим песню «Снова в СССР»), не было случайностью. Это было проявлением того самого процесса разрушения монолита. В центре еще пытались придерживаться прежних норм, выверяя каждый абзац, вычищая и не допуская ненужных сцен, заботясь о том, чтобы советский читатель не столкнулся с чем-то излишне вредным. Но на местах, особенно в республиках, уже не так строго следовали этим инструкциям.
Киевские издатели просто воспользовались моментом, когда контроль ослаб, а указания цензоров стали размытыми. В Москве все еще работали по инерции, стремясь «обезопасить» читателя, тогда как в Киеве, стремившимся стать все более независимым, эту опасность уже не воспринимали всерьез. Украинское издательство «Дніпро» в 1988 году работало в условиях начавшегося роста национального самосознания. В республике набирали силу процессы, связанные с ослаблением контроля Москвы, и книгоиздательская политика становилась все более самостоятельной.
Разница между московским и киевским изданиями – это не издательский казус, а один из признаков трещин в некогда единой системе контроля. Цензурная машина еще работала, но уже вовсю буксовала. То, что вчера было невозможным, сегодня вдруг становилось реальностью – и при этом никто не оказывался наказан. Этот процесс неуклонно вел к тому, что через пару-тройку лет советская цензура исчезнет вовсе, оставив после себя лишь воспоминания о своей некогда всесильной роли.
Новое мышление
После триумфальных публикаций романов «Мертвая зона» и «Воспламеняющая взглядом» в журналах «Иностранная литература» и «Звезда» казалось, что путь Стивена Кинга в советскую печать наконец открыт. Однако дальше произошло неожиданное: между 1986 и 1991 годами в советской периодике не было опубликовано ни одного нового романа Кинга. Пять лет – и ни строчки (кроме рассказиков да урезанных повестушек) от самого плодовитого американского писателя, чьи книги тогда расходились на Западе миллионными тиражами.
Это молчание нельзя объяснить простым цензурным запретом или отсутствием материала для переводов (как мы помним из главы про Библиотеку иностранных языков, к 1987 году там уже лежало с десяток романов Кинга). Причины были гораздо глубже – в изменившемся политическом и культурном климате перестроечной эпохи.
С началом Перестройки страна начала стремительно меняться. На высоком государственном уровне происходило сближение с Западом, пропаганда холодной войны сходила на нет. Прежние штампы – про «загнивающий американский образ жизни», «чуждые капиталистические ценности», «вульгарную массовую культуру» – стали неактуальны, а порой и неприличны. Теперь курс – на «нормализацию отношений с Америкой» и «строительство общеевропейского дома».
Кинг оказался на периферии официального внимания. В первой половине 1980-х годов он еще мог быть использован как инструмент пропаганды для обличения «пороков Запада», правительственных организаций, проводящих антигуманные опыты над людьми, и рвущихся к власти фашистов. Но во второй половине десятилетия государственная политика сместилась в сторону переосмысления советской истории, особенно сталинской эпохи. Именно этим и занималась новая культурная политика: публикации Солженицына, Рыбакова, Разгона, Домбровского, Довлатова и других ранее запрещенных авторов заполнили официальные журналы.
Одним из ключевых элементов Перестройки стала гласность – процесс снятия табу, который с 1987 года превратился в лавину разоблачений и пересмотра прошлого. Если ранее основой советской пропаганды было замалчивание неудобных тем, то теперь пресса, телевидение и литература постепенно освобождались от цензурных оков (точнее, власти неожиданно стали это позволять). В центре внимания оказались темы, которые еще недавно считались неприкасаемыми: репрессии эпохи правления Сталина, бюрократизм советской государственной машины, привилегии партийной элиты. Даже такие табуированные вопросы, как секс, организованная преступность, наркомания и проституция, начали открыто обсуждаться в печати.
С каждым годом накал дискуссий возрастал, а к 1989–1990 гг. свобода слова в СССР уже практически ничем не ограничивалась. В прессе публиковались разоблачительные материалы, ранее ходившие лишь в самиздате, впервые заговорили о реальных проблемах экологии, критике армии, неэффективности плановой экономики. Гласность привела к тому, что общество все больше ориентировалось на западные ценности: рыночную экономику, демократию, многопартийность. Одновременно появлялись первые легальные оппозиционные движения, которые начинали набирать политическую силу.
Если поискать символ эпохи гласности, то таким можно назвать журнал «Огонек», который при главном редакторе Виталии Коротиче стал не просто популярным, а невероятно влиятельным общественно-политическим изданием. Его тираж с 1986 по 1991 год вырос с 1,5 до 4,5 миллионов экземпляров, а сам журнал сыграл уникальную роль в формировании нового общественного сознания.
До Перестройки Коротич был вполне лояльным к власти советским писателем и журналистом. В своей книге «Лицо ненависти», за которую он получил Государственную премию СССР в 1985 году, он бичевал капиталистические нравы Запада, противопоставляя их социальному прогрессу советского общества. Антисоветские настроения он называл «злостной клеветой», западных политиков – «циничными лгунами», «мелкими шавками» и «стаей таежного гнуса», а эмигрантов – «предателями» и «дезертирами».
Но после того как Коротич был назначен главным редактором «Огонька», риторика его резко изменилась. Теперь его журнал стал флагманом гласности, первой трибуной для критики советской системы, разоблачения партийной номенклатуры и осмысления исторических ошибок. Те самые идеи, которые он еще недавно называл «злостной клеветой», теперь становились официальной позицией «Огонька».
Журнал публиковал то, что раньше невозможно было представить в советской прессе: статьи об ужасах ГУЛАГа, свидетельства жертв репрессий, критику советской бюрократии. В «Огоньке» печатались авторы, которых Коротич раньше называл «предателями» – в том числе и Александр Солженицын.
Такое перевоплощение Виталия Коротича – от защитника советской идеологии до главного рупора гласности – наглядно отражает характер эпохи. Старые убеждения трансформировались под напором новых реалий, партийные функционеры превращались в демократов, антисоветчики выходили из тени, а советские люди вдруг начали видеть страну совсем другой – не той, о которой им рассказывали десятилетиями.
Вот почему Перестройка не стала временем расцвета для произведений Стивена Кинга в Советском Союзе. Теперь в центре внимания оказалась критика СССР.
А ужасы, готические романы («Сияние», «Кладбище домашних животных», «Жребий Салема») по-прежнему считались «низким» жанром. Ужас как жанр воспринимался советской цензурой с настороженностью и глубоким сомнением. Перестроечная литература и публицистика сосредоточились на исторических, политических и социальных темах своей страны.
Но советский читатель все же получал Кинга – за счет энтузиазма отдельных переводчиков (в первую очередь, стараниями Сергея Таска), маленькими порциями, в форме рассказов и сильно сокращенных повестей, и не в виде полноценных книг, а в журналах, антологиях и газетах. Это был скорее стихийный, чем организованный процесс.
Его рассказы печатались в периодике, будоражили воображение, создавали спрос. А массовое издание книг Кинга началось уже после 1991 года, когда не стало Главлита и Госкомиздата. Как говорится, «рыночек порешал».
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе