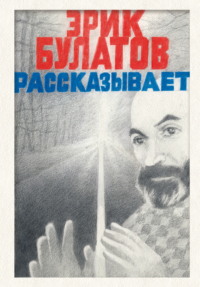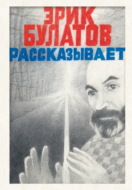Читать книгу: «Эрик Булатов рассказывает. Мемуары художника», страница 3
Практика в деревне Поленово
В летние каникулы практика для нас была очень важна. Она проходила в имении Василия Дмитриевича Поленова. Мы, конечно, жили не в имении – там был музей Поленова – а в деревне. У нас были палатки – отдельно для девочек, отдельно для мальчиков. По классам тоже распределялись, чтобы не было большого разрыва в возрасте. Удобств никаких. Но так красиво в замечательном лесу, на берегу реки Оки! Прекрасный берег на той стороне, открытое пространство. Деревушка Бёхово в двух шагах. Говорили, что церковь построена по проекту Поленова. В дождь наши палатки протекали, и мы сдвигали кровати, чтобы быть в более сухой части. Ночью обычно кто-то из ребят с хорошей памятью вспоминал классику, рассказывал какую-то книгу. Все слушали с большим интересом. Иногда, бывало, наоборот, дурака валяли. В Поленово дежурили на кухне по очереди. Дежурные чистили картошку, убирали столы и мыли посуду, получая положенную дополнительную порцию той же самой картошки. Раз в неделю по воскресеньям нас навещали родители, поскольку до Поленово сложно было добираться: сначала на катере, потом пешком.
Когда я вспоминаю это время, то помню себя вечно голодным. Может быть, потому что я очень быстро рос и был вторым по росту в классе. Да я и не единственный, кто все время хотел есть. В результате в лагере ребята негласно разделились на две группы: на тех, кто был побогаче, капризничал и не ел общей пищи (они рассчитывали на то, что привозили родители), и на тех, кто к ним прикреплялся. В результате я съедал свою порцию и ту, которую отдавал мне Юлик Вечерский. В один прекрасный день, когда я был дежурным, приехала моя мама и привезла традиционную буханку черного хлеба. В результате я съел свою порцию, дополнительную за дежурство и порцию Юлика, а в конце еще буханку черного хлеба; и после этого впервые почувствовал, что абсолютно сыт.
Именно в Поленово я познакомился с Олегом Васильевым. На этюдах сразу становилось понятно, поскольку писали с натуры, кто талантлив, а кто нет. Имя Олега Васильева сразу стало известно для всех нас, было видно, что вот он очень талантливый. У него были лучшие этюды с натуры, лучшие пейзажи. Слава его как бы обгоняла. Но я с ним не был знаком, только видел его, приходил, смотрел его пейзажи, которые сохли в комнате, пока он писал другие. Первое знакомство с ним вышло жутким. Ребята развлекались, что-то строили и разрубали топором пень. Довольно много людей, целая компания собралась вокруг. Я мимо проходил, совершенно этим не интересовался. И вдруг получилось, что они все разошлись по сторонам, какая-то щель между ними образовалась. Я увидел пень, руку Олега Васильева, державшую топор, которым он по другой руке ударил прямо по пальцам. Я чуть сознание не потерял, это было страшно. Но Олег даже не закричал, не заплакал. Так, помахал рукой в воздухе, пососал палец и сказал, что надо ехать в Тарусу в больницу. Его сразу отправили туда, там ему оказали первую помощь. Да, большой палец мог пострадать, если бы вовремя помощь не оказали. Но все заросло. Олег себя держал очень достойно. Вот это было как бы наше знакомство. Дружба завязалась потом, когда мы оказались в институте и уже стало понятно, что из себя каждый из нас представляет. Олег был удивительный, талантливый живописец. Такого второго у нас не было и сейчас нет.
Наши палатки соседствовали с военным лагерем, где обучались только что мобилизованные парни. У них проходили учения, разыгрывались сцены военной операции, солдаты должны были кричать «ура», а они кричали: «Молока-а-а-а!» Одновременно рядом находился лагерь, в котором содержались немецкие военнопленные. Они тихо-скромно там жили, что-то, видимо, строили и приходили к нам играть в футбол. Играли в основном они с командой дома отдыха Большого театра, который тоже был по соседству, где были молодые, здоровые парни, напористые такие. А немцы очень осторожно играли, боялись толкнуть, ударить игрока. И я им очень сочувствовал. Ну что можно было сказать? Во всяком случае, так или иначе болели мы все-таки за немцев. В этой игре они были нам симпатичнее. Несмотря на то что мой отец был убит, может быть, как раз кем-то из этих немцев, я тоже болел за них.
На практике мы увлеченно работали, и так продолжалось до начала учебного года. Во время выпускного экзамена в 1952 году Карренберга арестовали и посадили. Его имя запретили упоминать, и в последних благодарственных словах – спасибо за все, за школу – теперь пропускали имя Карренберга. Сразу после этого отказались от нашего поленовского рая. И одновременно от крымского рая, потому что в Крыму у Художественного института, где я впоследствии учился, тоже было свое поселение на берегу моря. Забыл название, к сожалению. Было это и до, и после войны. Весь институт туда выезжал на практику. И от него тоже отказались. Потеряли и Поленово, и Крым. Их заменили отдельными командировками: кто хочет – шахту угольную, смену шахтеров, кто хочет – на Украину в поездки. Стало гораздо хуже, но все равно что-то оставалось.
Карренберга освободили, правда, на следующий год. Я тогда учился в институте, и он меня пригласил на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, поскольку заведовал художественным отделом. Мы поехали вместе с Олегом Васильевым и какое-то время работали там. Так что Карренберг после освобождения получил должность и принимал самостоятельные решения.
Мои одноклассники
У нас было обычное детское сознание, как у всех школьников, но вместе с тем присутствовал и серьезный настрой, потому что приходилось выдерживать огромную нагрузку в виде общеобразовательных и специальных дисциплин, а это было нелегко. Правда, в старших классах уже можно было специальными предметами не заниматься, но общеобразовательные мы обязаны были пройти до конца и получить аттестат зрелости. Но у нас, повторяю, было такое смешанное сознание, где и хулиганству было место, и безобразие присутствовало.
Помню, после летних каникул мы пришли в класс, где все было отремонтировано и выкрашено, и устроили там баловство. Нашли галоши, нацепили их на длинную палку и по потолку сделали следы правой и левой галоши. Педагог сразу вызвал директора. Директор говорит: «Кто ходил по потолку?» То есть для него не было сомнения, что это мы сами там ходили: «Они могут, они могут все что угодно».
И тем не менее мы действительно учились. Не все, конечно, одинаково старались, как бывает во всех школах. Но при этом мы развивались. Все-таки уровень был действительно высокий, большая разница между обыкновенной школой и художественной. Состав учеников был очень разный. Были такие, вроде меня, у которых не было никаких связей. Но учились у нас и дети высокопоставленных людей. Родители посылали их в художественную школу, потому что уровень образования там был выше, чем в общеобразовательной. Но у нас ценились не «богатые», а талантливые. В каждом классе были свои гении и бездари. С нами учился Юрка Богородский, очень талантливый, потом он спился, попал под машину и погиб. Олег Целков и Илья Кабаков тоже учились в нашей школе. Жаль, что не сохранились рисунки Олега Васильева. Это случилось так. Через некоторое время после нашего окончания планировался юбилейный вечер, и руководство попросило Олега дать поленовские этюды. Он все им отдал, и все рисунки пропали. Возможно, кто-то их украл. Это очень досадно.
Занятия в школе делились на общеобразовательные и специальные. Не каждый день были специальные занятия, но начинался день всегда с общеобразовательных: математика, история, география, русский язык. А потом два часа рисунка или три часа живописи. Между образовательными и специальными занятиями был обеденный перерыв. У нас в буфете ничего не продавалось. Просто этот час был не для еды, а чтобы как-то переключиться, отдохнуть. Каждый это время тратил, как хотел. Хотя еду приносили, кто мог, но далеко не все имели такую возможность.
У нас завязывались сначала приятельские, а потом дружеские отношения. Я подружился с Юликом Вечерским, у нас с ним получилась очень тесная и трогательная дружба. У Юлика было удивительно доброе сердце. Что бы ни говорил, что бы ни делал, он был всегда абсолютно бескорыстен. О родителях мы если и говорили, то только о матерях. У кого отец на фронте погиб, у кого в лагерях, у кого расстрелян. Все это потом выяснилось. У Юлика Вечерского отец был расстрелян, а он об этом ничего не знал. Не знал даже, что отец арестован. Мать ему говорила, что он где-то на Севере в командировке, и Юлик верил, а мы его и не расспрашивали, не приставали. Сейчас трудно понять, почему верили, почему не обращали внимания на такие вещи, которые были очевидны. Но так было. А с Юликом мы болтали все время. В конце концов нас рассадили по разным партам. Это был единственный способ нас успокоить, и он подействовал.
Преподаватели
С Зоей Вениаминовной, преподавательницей химии, все время были нелады. Она, если кого-то из учеников не любила, то придиралась к нему и ставила плохие отметки. Меня, кстати, терпеть не могла. Оставляла после уроков, потом бегала к классному руководителю, чтобы я за свои поступки, за свои слова какие-то извинялся. Нашим классным руководителем была сначала Рахиль Самойловна, а потом, когда пошла антисемитская кампания, ее отстранили, и нашим классным руководителем стал Семен Ефимович Цекатун. Замечательный был человек. Нам очень повезло, что он был таким, потому что с химией сложилась безнадежная ситуация. Потому что, когда мы перешли в старший класс, химичка вообще отказалась от работы. Просто отказалась, и все. Ей не нравилось, как мы себя ведем, вообще все не нравилось. Цекатун, даже когда учительница жаловалась, оставлял меня после уроков и говорил: «Булатов, ведь вы же умный человек, ну что ж вы с этой дурой связались?» Вот такой был Семен Ефимович Цекатун.
Последний год химии мы вообще не учились, потому что не было педагога. И вот выпускные экзамены, не ясно, как мы будем их сдавать, когда ни разу даже не открывали учебники. Семен Ефимович оставил после уроков меня, как старосту класса, и сказал, что нужно сделать, чтобы все сдали экзамен на хорошие оценки. Мы должны были разработать особый план и точно все выполнить. Нам сообщили, в каком порядке будут разложены билеты на экзаменационном столе, к каждому билету нужно написать хорошую, серьезную шпаргалку. Важно было, чтобы ученики запомнили свой черед, номер билета, какой нужно тянуть, а дальше просто читать по шпаргалке, и все. Понятное дело, что никаких дополнительных вопросов нам задавать не будут, потому что тогда мы ничего не сдадим и провалимся.
Мы с Семеном Ефимовичем договорились, что шпаргалки будут писать те, кто разбирается в химии. Так и поступили. Первый отвечает, химичка сидит, слушает. А ученик отвечает по шпаргалке. Пятерка! Учительницу это поразило. Далее пошли все без подготовки, и я в том числе. Все шло хорошо, пока дело не дошло до Игоря Глазкова. Был такой шут гороховый. По-своему талантливый, но из него потом ничего не вышло, потому что прав был Семен Ефимович, сказавший: «Эх, Глазков, Глазков, золотая голова, жаль только, что дураку досталась». И вот, когда до него дошла очередь, он забыл, какой его билет. Игорь очень рассеянный был, поэтому ничего у него потом не сложилось. Стоит Глазков и сомневается, какой ему брать билет, и уже становится неприличным ждать. Семен Ефимович говорит: «Что, Глазков, не знаете, какой у вас билет? Вот этот ваш» – берет со стола и дает билет. Кто б на такое решился? Но Семен Ефимович не побоялся. Ведь все разрушилось бы из-за одного ученика. А я должен был следить, чтобы одноклассники доставали билеты в том порядке, в каком надо. Короче говоря, считаю, во многом здесь была и моя заслуга.
В седьмом, выпускном классе художественной школы перед поступлением в институт к нам пришел директор Суриковского института Федор Александрович Модоров. Институт этот был серьезный, при Академии художеств. Конкурс очень высокий, поскольку пришло много взрослых людей после армии, ведь шел 1948 год. Модоров пришел к нам на урок живописи, мы стояли в аудитории, писали натурщицу, каждый со своим мольбертом, со своим холстом. Он всех обошел, подошел ко мне и похвалил мою работу. Ему так понравилось, что даже ни одного замечания не сделал и пригласил поступать без экзаменов. Это, конечно, было невероятно. У меня были все пятерки, я получил золотую медаль. Но вдруг в последний момент, уже после того как было объявлено, что у меня золотая медаль, одну медаль на наш класс срезали. Получалось четыре золотые медали, наверное, это было слишком много. Там, видимо, был какой-то лимит – не больше трех. И мне вместо золотой медали дали серебряную. Но все равно достаточно, чтобы поступить в институт.
Вот странно, историю искусств нам не преподавали. В Третьяковку мы ходили регулярно – и без педагогов, и с педагогами. И в институте нас водили, но там было другое. Это были годы разгрома нашего изобразительного искусства. Литература уже была разгромлена раньше, а затем дошла очередь и до изобразительного искусства, и до музыки. Досталось тем и другим, потому что это была правительственная кампания. Очень ругали Дмитрия Шостаковича. Художников, руководивших Суриковским институтом, всех изгнали, и на их место взяли других, гораздо хуже. И все это происходило на наших глазах, мы видели, что все, что нам нравилось – а нам как раз нравилось именно то, что Сталин называл формализмом, – было снято с экспозиции: работы Михаила Врубеля, Валентина Серова, Константина Коровина.
То есть их прямо снимали со стен Третьяковки и постоянно меняли выставочные экспозиции. А постоянные экспозиции, в которых были и Коровин, и Врубель, еще до этого поменяли. У Серова, правда, не все снимали, он не был формалистом. Остались таким образом «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем», вот эти его ранние вещи. То, что он делал потом, особенно когда стал членом петербургского объединения «Мир искусства», это все уже было запрещено. Но все-таки Серов оставался классиком и всегда был у нас одним из любимых художников. Вот Илья Репин таким не был. Его полагалось любить, почитать, но почему-то к нему не лежала душа. Не знаю почему. На самом деле он действительно хороший художник. Просто нужно понимать, что у него были хорошие и плохие работы. Это у всех так бывает, не только у Репина.
Недоумения по поводу происходящего у нас не было, поскольку нам внушали, что там формализм, а здесь реализм. Все это писали в газетах, в больших статьях, но мы уже этому не верили. Мы видели своими глазами то, что нам нравилось, и то, что нам не нравилось. И что бы об этом ни писали, у нас было собственное мнение. Отчасти это помогало ориентироваться в нашей социальной реальности: что происходит, какое творится насилие, какое обескультуривание. Тяжелый был момент, очень тяжелый. И как раз в этом моменте школа была хороша тем, что там оставалось творческое начало. Ребята рисовали, старались изо всех сил и относились к этому очень серьезно. Но мы видели то, что видели. Все хорошее запрещалось, все плохое обязательно требовалось восхвалять как хорошее. С вопросами к учителям мы не обращались. Они между собой, и то не могли договориться. Но все зависело от собственной практики, от собственного рисования: что ты любишь, что не любишь, что не принимаешь совершенно. Это все на практике получается, когда сам рисуешь.
Знакомство с Фальком
Начало 1950-х годов для меня складывалось удачно, я поступил в институт. Неожиданно стали приходить заказы на портреты; почему-то именно у писателей я имел большой успех. Моя мама попросила, чтобы я написал портрет мужа ее приятельницы, родственницы Ивана Сытина, которая жила неподалеку от нас. И я написал его портрет. Ей очень понравился.
Сытины – фамилия известная. Иван Сытин – книжный человек, знаменитый издатель. Вот из этой семьи происходила мамина подруга. В наследство ей досталась роскошная квартира на улице Горького, которая сейчас называется Тверская. После революции ее уплотняли-уплотняли, в результате осталась одна небольшая комнатка. Вся квартира была поделена, и там разместилась куча разных семей. Керосинки, кастрюли, скандалы, драки даже, и все на общей кухне. Запустение. У Сытиной была соседка, Лидия Максимовна Бродская, замечательная женщина, занимавшая отдельную комнату в этом безобразном общежитии. Я ей очень обязан и благодарен. Она до революции жила во Франции и посещала мастерские художников, брала уроки живописи. Но после революции все это было заброшено. Зарабатывала она переводами с французского и преподавала французский язык. Лидия Максимовна сказала, что хочет сама поговорить с автором портрета. Меня ей представили. Портрет ей не понравился. По ее мнению, получилась не живопись, а натуралистическая ерунда, но тогда никто и не знал, какая должна быть живопись, потому что культура исчезла, ее практически нигде не было. Лидия Максимовна объяснила, что единственный человек, кто принадлежит к настоящей культуре, это Роберт Рафаилович Фальк. Он показывает свои работы раз в неделю, и не всякому, но ей он покажет, потому что ее знает хорошо. Если я действительно хочу увидеть настоящую живопись, то я должен посмотреть его работы. И я, конечно, ухватился за это предложение и пошел с ней в мастерскую Фалька в доме Перцовой, знаменитом своей архитектурой.
Так я впервые познакомился с Фальком, за что Лидии Максимовне признателен на всю жизнь. Фальк показывал свои работы, одну за другой снимая их со стеллажа. Я спросил разрешения прийти в следующий раз, когда будет показ. Фальк согласился. И я стал регулярно там бывать, постепенно став как бы своим человеком в их доме. Роберт Рафаилович и Ангелина Васильевна, его жена, относились ко мне не просто как к постороннему визитеру, а как к своему близкому человеку. Фальк производил впечатление страшно усталого, измученного человека почти без сил, экономившего каждую крупицу своей оставшейся энергии. Глаза обычно полузакрытые, тяжелые большие веки. И Фальк мало говорил…
В дальнейшем я узнал, что Роберт Рафаилович после революции с 1918 по 1928 год преподавал во Вхутемасе, был деканом факультета живописи. Его направили в командировку за границу, и до 1937 года он жил и работал в Париже, чтобы посмотреть, что там происходит в искусстве, быть в курсе всех новостей. Там он абсолютно не имел никаких продаж и выставок и зарабатывал профессиональной борьбой, работая спарринг-партнером. И этим жил. Фальк был здоровый, очень сильный мужчина, иначе в спарринг-партнеры никто бы его не взял. И с тем Фальком, которого я видел своими глазами, это никак не вязалось. Ангелина Васильевна работала преподавателем немецкого языка и давала много уроков. Фальк тоже старался заработать, у него были ученики, но они платили очень редко и совсем мало, несопоставимо с теми временами, когда у него был профессорский статус.
На меня живопись Фалька произвела впечатление: не то чтобы мне все очень понравилось, я этого не могу сказать, просто она впечатлила совсем другим – тем, чему нас не учили, чего мы не знали. А это, оказывается, и была живопись. Фальк известен прежде всего как участник знаменитой группы «Бубновый валет», но я не думаю, что по отношению к нему это правильно. В «Бубновом валете» ведущую роль играл не он, а Кончаловский и Машков. Фальк был, скорее, на вторых ролях, хотя в отдельных его вещах, особенно в замечательной картине «Красная мебель», нельзя не увидеть его значительности и серьезности.
В 1920-е годы живопись Фалька становится сухой и жесткой. Он уезжает во Францию и возвращается оттуда другим художником. Во Франции вырабатываются его основные художественные принципы, а наибольшей ясности и полноты выражения они достигают в его последних работах в 1950-е годы. Думаю, именно этот период является основным в творчестве Фалька. Между тем его сверстники и товарищи по группе «Бубновый валет» – Машков, Кончаловский, Лентулов и другие – в 1930–1940-е годы с большей или меньшей скоростью деградировали и к 1950-м годам уже ничего почти из себя не представляли.
К сожалению, те, кто знакомится с картинами Фалька сейчас, не могут получить того впечатления, которое получили видевшие их в 1950-е годы, при жизни Роберта Рафаиловича. Постараюсь объяснить, почему это происходит. Фальк писал обычно подолгу. Краску накладывал густо, чаще мастихином, чем кистью. Каждый следующий слой не изменял, а уточнял предыдущий, поэтому краска накладывалась то здесь, то там, иногда перекрывая, а иногда сохраняя предыдущий слой. Краски высыхают с разной скоростью, поэтому при ежедневной работе следующий слой ложился иногда на сырую поверхность, и тогда краска сохраняла первоначальный цвет и яркость, но часто она клалась на уже полусухую краску, и тогда краска жухла, то есть теряла яркость и делалась матовой. В дальнейшем и пожухшие, и блестящие цвета рассматривались Фальком как данность, из которой надо исходить в последующей работе над цветом. То есть, накладывая мазок краски рядом с пожухшим мазком, он клал цвет по отношению к этому пожухшему цвету. Таким образом картина Фалька приобретала мерцающую поверхность, где чередовались вспышки и затухания цвета, а тональности были плотно слиты воедино.
Поскольку в картинах Фалька тональности максимально сближены, тональные колебания играют чрезвычайно важную роль. Когда после смерти Роберта Рафаиловича его картины тщательно покрыли лаком (это делалось в целях сохранения живописи), тональность пожухших участков краски резко возросла, и цветовая интенсивность также резко усилилась. В результате весь тональный баланс картин, который был так тщательно взвешен Фальком, нарушился. Неповторимое своеобразие фальковской пульсирующей тональности пропало или было во многом утрачено. Получилась обычная живопись, как у всех, может быть и хорошая, но не более того.
Но есть еще одна причина, мешающая сейчас по достоинству оценить поздние картины Фалька. Дело в том, что у Фалька было немало вялых, неудачных работ. Сам он очень ясно сознавал, когда у него получилось, когда нет. Плохие картины он не уничтожал, но снимал с подрамников, и они лежали где-то далеко, так что их никто никогда при жизни Фалька не видел. Работы среднего качества, не совсем плохие, но довольно вялые, он оставлял натянутыми на подрамники, но тоже почти не показывал. В определенные дни в мастерскую приходили посетители, и вот тут Фальк выставлял только хорошие работы. Я знал эти картины наперечет. Роберт Рафаилович доверял мне и иногда, если плохо себя чувствовал в день показа, просил ему помочь. Я точно знал, какие картины следует выбрать.
После смерти Роберта Рафаиловича его вдова Ангелина Васильевна Щекин-Кротова вытащила на свет божий все снятые с подрамников работы. Вместе с моими друзьями Мишей Межениковым и Олегом Васильевым я принимал участие в натягивании картин на подрамники. Каждая работа приводила Ангелину Васильевну в восторг: и это гениально, и это гениально. Она была уверена, что Фальк слишком требовательно относился к себе. К сожалению, она ошибалась. Все неудачные работы были натянуты на подрамники и тщательно залакированы.
Когда наконец состоялась первая ретроспективная выставка Фалька в выставочном помещении Дома художников на Беговой улице в середине 1960-х (1966 г. – Прим. ред.), Ангелина Васильевна распорядилась повесить на главные места именно эти неудачные работы. Она исходила из того, что картины, которые Фальк показывал в мастерской, фактически не знал никто, круг посетителей мастерской был слишком узок. А поскольку на выставке они оказались на периферии, по углам, где освещение было плохое, их и тут никто не увидел, зато все увидели множество средних и просто плохих работ.
Выставка вызвала всеобщее удивление и разочарование. В дальнейшем лучшие картины Фалька разбрелись по провинциальным музеям и частным коллекциям. Сейчас, чтобы сделать серьезную выставку Фалька, которая по достоинству позволит оценить масштаб и значение этого замечательного художника, необходимо проделать огромную и очень трудную работу: собрать лучшие картины, отделив их от балласта посредственных и плохих, и очистить от лака. Сможет ли кто-нибудь когда-нибудь это сделать?
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе