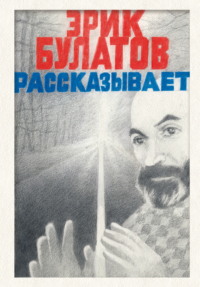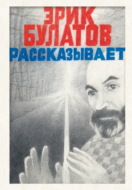Читать книгу: «Эрик Булатов рассказывает. Мемуары художника», страница 2
Коммунальная квартира
Довольно скоро нам освободили жилплощадь, и мы смогли жить уже в своей квартире в отдельной комнате, а со временем и остальные комнаты вернули. Эвакуированные из Ленинграда разъехались, а постоянные жильцы этой квартиры оставались, они никуда не делись. Самую большую комнату занимала семья бывшего слесаря Харитона Байковского. Он совершенно спился, за это его выгнали с работы. Харитон любил прихвастнуть: «Я слесарь первого разряда!» – или пятого, может быть, не помню, в общем, какого-то самого высокого. Харитон был не злой человек, но законченный пьяница. И они с женой, интеллигентно выражаясь, выясняли отношения, а реально по-настоящему дрались. У Байковских было два сына: Марат и Жан, названные в честь героев Французской революции. Из Марата в дальнейшем вырос бандит, а Жан стал мелким воришкой. Нас они особенно не трогали.
Однажды, правда, я чуть не убил этого Жана. Байковские, что называется, владели общей кухней и обедали там, заняв половину площади. Мы не возражали, потому что у них была одна комната на четверых. А у нас получалось три комнаты. Неловко выходило. И вот один раз Жан меня довел до бешенства. Дразнил, придирался. Я схватил тяжелый утюг и запустил в него. Если бы попал, убил бы, конечно. Утюг пролетел прямо над самым ухом мальчишки, но он увернулся и так испугался, что больше никогда ко мне не лез. В целом мы более или менее жили мирно. А слесарь Байковский любил пофилософствовать, порассуждать, например, об искусстве. Ему не нравились радиопередачи, и он говорил: «Все-таки художник – это гораздо лучше, чем композитор. Художник рисует корову: так уж, будьте любезны, четыре ноги, хвост, все как на самом деле. Без обмана. А то, понимаешь, передают целый вечер из Большого театра не пойми что, а потом говорят: «Снегу-у-урочка». Харитону, конечно, было невдомек, что существует абстрактное художественное изображение. Искусство людей интересовало только в связи с выходом разных партийных постановлений и по поводу музыки, и по поводу живописи. Правда, живопись разгромили раньше. А разбирались в то время в основном с музыкой, громили композитора Дмитрия Шостаковича.
Школа
Когда мы вернулись из эвакуации, то не знали, что в Москве есть специальная художественная школа. Меня отдали в обычную среднюю школу, но мне там не нравилось, и каждый год меня забирали и переводили в другую. Кстати, я стал хуже рисовать, потому что копировал уличные плакаты «Бей немцев», где героические военные бросали гранаты и стреляли. А еще я рисовал портреты наших великих полководцев: Суворова, Кутузова, Александра Невского. Я их копировал, срисовывал. Мне казалось, что это гораздо лучше, чем то, что я умею. И в результате вот эту безликую манеру я осваивал с удовольствием.
Однажды я принес свои рисунки знакомому художнику во МХАТ, в том числе и несколько старых набросков. Он сказал, что копирование портит манеру рисования, и я очень много потерял из того, что умел раньше, и надо рисовать с натуры. Я послушался. Потом снова принес работы. Он одобрил, я ему очень благодарен за напутствие.
В 1945 году я неожиданно узнал, что в Москве есть настоящая художественная школа, в которой обучают сразу специальным художественным и общеобразовательным дисциплинам. По окончании можно получить аттестат зрелости и вместе с тем пройти необходимую подготовку, чтобы поступить в художественный институт. Я случайно узнал об этом. Мама это упустила, это прошло мимо ее внимания. А у нас в школе, кроме меня, еще один ученик увлеченно рисовал, его фамилия была Лоповок. Он считал, что рисует лучше меня, а я видел, что у меня получается лучше. И вдруг Лоповок пришел очень гордый и сообщил, что сдал вступительный экзамен, его наверняка примут, и он будет первым учеником в художественной школе. Эта новость меня потрясла. Поделился с мамой. А она как-то без энтузиазма отнеслась: «Ну ладно, посмотрим». Тем не менее все-таки согласилась, чтобы я там учился. И вот первый раз мы с мамой посетили художественную школу в Капельском переулке, в дальнейшем она располагалась напротив Третьяковской галереи. Потом я уже на трамвае туда ездил, очень сложно, с двумя-тремя пересадками. Этюдника у меня еще не было. В школьной программе первые три класса мы рисовали акварелью, а масляной краской позднее.
В новой школе я как будто попал в другой мир, попал к богам, к высшим существам. Весь коридор был завешан акварелями, рисунками. По традиции каждый год отбирались лучшие работы. Мне казалось, что все это само совершенство. Все, что я вижу там: «Боже мой, неужели я смогу учиться вместе с ними – не может быть!» Но мы опоздали. Оказалось, что экзамены уже закончились, но проходят консультации, и я пришел в такой день, и там действительно присутствовал художник-консультант. Нам всем выдали бумагу и мольбертики, поставили очень простенький натюрморт. Я акварелькой этот натюрморт написал. Консультант потом разбирал рисунки, сделанные при нем, обратил внимание на мою акварель и сказал обязательно прийти на следующий год на экзамен, а пока, говорит, «я советую позаниматься в городском Доме пионеров в художественном кружке у Александра Михайловича Михайлова, он подготовит тебя к экзамену». Я так и сделал, пошел в городской Дом пионеров возле метро «Кировская».
Александра Михайловича я вспоминаю с большой благодарностью и любовью. Он был действительно удивительный педагог, очень мягкий, держал себя на редкость корректно. И вместе с тем его влияние на нас, мальчишек, многие из которых пришли просто с улицы, совершенно невоспитанные, было огромно. Его слушали, буквально разинув рты, и смотрели с восторгом и любовью. Авторитет у него был совершенно незыблемый. Как ему удавалось справиться со шпаной? Занятия проходили раз или два раза в неделю. Он ставил натюрморт, и все этот натюрморт писали. Потом, по окончании нашего времени, Александр Михайлович рассматривал рисунки, отмечал лучшие, объяснял ошибки, советовал, что поправить или изменить. Его слушали, ему очень доверяли. Действительно, из Дома пионеров потом попадали в художественную школу хоть и немногие ребята, но все-таки поступали каждый год.
Спустя много лет я встретил Александра Михайловича Михайлова на выставке, когда приехал в Москву в очередной раз из Парижа, и он пригласил меня и жену Наташу к себе домой. Оказалось, он наш сосед, живет в Лялином переулке. Помню, Александр Михайлович был в строгом черном костюме-тройке, весь такой аккуратный, старый интеллигент. Старая культура, старая Москва, старое достоинство. Он сказал: «Я своих любимых учеников не забываю».
Болезнь
9 мая 1945 года запомнил очень ясно, потому что был тогда в детской больнице. Надо сказать, что в семье этот день позднее не праздновали, потому что мой отец Владимир Борисович Булатов в звании капитана погиб 7 июля 1944 года. Он участвовал в освобождении Ленинграда, погиб под Псковом и похоронен в деревне Стремутка. Был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени. Все связанное с победой, с торжествами для матери было мучительно, ведь во время праздников и веселья многие люди испытывают разные переживания, в том числе скорбь и одиночество. 9 мая 1945 года в больнице устроили праздник в большой палате, где находилось несколько больных. Я по этому поводу сочинил стихи:
Лежу я в больнице в палате сырой,
вскормленный на воле ребенок больной.
Мой верный товарищ, махая письмом,
французскую булку жует под окном.
Жует, и глотает, и смотрит в окно,
как будто со мной затеял одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
и вымолвить хочет: «Давай убежим!»
Мы вольные дети, пора убежать,
оставить проклятую эту кровать.
Нам нужно спасаться в родные края,
туда, где мой дом и где мама моя.
Мне было 11 лет.
Дом пионеров
В московском Доме пионеров я занимался два года, с 1945 по 1947-й. После первого года обучения в 1946 году пытался поступить в художественную школу, но не прошел по конкурсу. К весне я очень сильно продвинулся, потому что много рисовал и действительно старался изо всех сил. Александр Михайлович меня рекомендовал как кандидата в художественную школу. Я должен был держать вступительный экзамен, а конкурс был серьезный. И тут очень важно было отношение родителей. Для мамы самым главным являлось то, что в школе сохранялись общеобразовательные дисциплины и аттестат зрелости получали наравне со всеми, но плюс к этому еще и добавлялись специальные предметы: рисование, живопись, композиция, на которые у нас уходило времени и сил больше, чем на общеобразовательные. Поэтому в школе добавили лишний год, у нас было не 10, а 11 классов. Мама боялась лишь, что лишний год будет опасен, и меня заберут в армию. Но, с другой стороны, отцовская смерть была завещанием, чтобы я стал художником, ведь для него это было очень важно. Вот такие были внутренние противоречия. Во всяком случае, мне разрешили держать экзамен на следующий год.
Перед экзаменом педагог из художественной школы обстоятельно объяснил требования. Стоял натюрморт. Нужно, чтобы он был похож, чтобы был хорошо написан акварелью. Мы масляные краски только в четвертом классе впервые взяли в руки, а до четвертого класса писали только акварелью. И вот посредине экзамена перерыв, какое-то короткое время. Ко мне подошел педагог-консультант и сказал: «Ты хорошо начал, только смотри не испорти. А лучше вообще не трогай. Оставляй все как есть». Но как я мог не трогать? Целый час все ребята вкалывают, а я буду просто сидеть, мух считать? И я все переделал. Подошел педагог ко мне и сказал: «Ну что ж ты сделал? Все испортил». Махнул рукой и пошел к другим.
В результате я провалился. Сколько человек было на одно место, не помню, но я не прошел. Переживал безумно. Но что делать. Значит, надо было на следующий год поступать мне не во второй класс (в первый класс я опоздал сразу в 45-м году, а в 46-м провалился), а уже в третий. Работал я, как сумасшедший, всю зиму. И действительно очень серьезно продвинулся. Александр Михайлович сказал, что я должен поступить. В городском Доме пионеров прошла выставка рисунков, и мне присудили первое место. Я был уверен в своих силах.
Художественная школа
Вдруг оказалось, что у меня подозрение на туберкулез. Диагноз не подтвердился, но заболевание легких, видимо, было. Во всяком случае, врачи настаивали, чтобы меня отправили в Крым, в детский туберкулезный санаторий. Как я ни брыкался, как ни сопротивлялся, но тут уже я с мамой ничего сделать не мог. Меня действительно туда отправили как раз тогда, когда в Москве шли экзамены в художественную школу: было одно проходное место, на которое я надеялся. А я болел в Крыму в это время. Я проклинал все на свете: Крым и море, все было не по мне, все было не так. Однако время прошло, экзамены прошли, и я, вернувшись из Крыма, пришел в художественную школу. А там уже идут занятия, и секретарша мне говорит: «Ну что ж ты, дорогой мой, так поздно. Экзамены закончились». А я с собой взял несколько этюдов, которые писал в Крыму: пейзажи и портреты. И в это время, совершенно случайно, вошел педагог по специальному предмету. Фамилию, к сожалению, его не помню. Видит, я стою со слезами на глазах. Он попросил: «Ну покажи мне, что ты принес». Я показал, и он говорит секретарше: «Все-таки запишите, пожалуйста, телефон». Она записала, а я, без всяких надежд, что мне когда-то позвонят, расстроенный вернулся в среднюю школу, в которой не мог заниматься общеобразовательными предметами.
Я ничего не делал и сразу нахватал двоек. Хотя отличником был всегда, но тут вот так получилось. Ждал телефонного звонка как манны небесной. Мы жили в коммунальной квартире, у нас отдельной-то никогда не было. На каждый телефонный звонок я бросался к аппарату с безумной надеждой. И мне даже снилось, что звонит телефон. Вдруг в один прекрасный день телефон действительно позвонил, и секретарша сказала: «Вы зачислены, с такого-то числа можете приступать к занятиям». Бабах! Как в сказке. Случилось первое чудо в моей жизни. Кстати, незадолго до того, как отец погиб, он побывал в Москве, потому что получил отпуск на неделю. Так вот мне тоже тогда приснилось, что отец приехал. На даче я будто сажаю картошку, и вдруг подходит военный. И вроде этот военный и есть мой отец. Вот такой сон, а тут вот с телефоном сон в руку.
Я попал в художественную школу сразу в третий класс, что соответствовало седьмому общеобразовательному. Я отставал от ребят, потому что они уже два года занимались, но старался изо всех сил догнать. Трудно было очень. Однажды педагог поставил натюрморт из геометрических фигур. Все рисовали как могли, а я растерялся, потому что никогда геометрических фигур не рисовал. Не мог собраться и понять, с чего начать, за что зацепиться. И навел такую грязь на бумаге, развел всякую чепуху, все стирал, стирал, стирал, и ничего у меня не получилось. Когда кончилось время урока, педагог по фамилии Барщ сказал: «Я не понимаю, как ты мог выдержать экзамен в нашу школу, когда ты совершенно не умеешь рисовать». А я возьми и скажи, что я не держал экзамен. И началось! «Ах, ты не держал экзамен? Значит, ты по блату поступил, понятно-понятно. А ты понимаешь, что ты поступил по блату, не умеешь рисовать, у тебя нет никаких данных для того, чтобы научиться? Вместо того чтобы принять какого-то способного мальчишку, взяли тебя, а парень остался ни с чем, хотя он как раз, наверное, заслужил бы это место. И не стыдно тебе?»
Добил меня своими словами совершенно. В другой раз педагог посадил натурщицу, пожилую даму в обыкновенной одежде. Мы должны были ее нарисовать за 15 минут. Барщ ушел, а через время вернулся посмотреть наши рисунки. Здесь я себя уже чувствовал совсем иначе – свободно, спокойно и уверенно, – потому что человеческих фигур нарисовал уже много. Получилось не хуже, чем у других, это точно. Барщ посмотрел и сказал: «А кто это тебе нарисовал?» Ребята подошли, стали заступаться, что я сам рисовал. Но Барщ не поверил: «Я понимаю, вы все хорошие друзья, порядочные. Настоящие друзья так и должны были сказать. Но он не мог нарисовать сам, так что не надо мне голову морочить».
Я понял, что шансов остаться в школе никаких. Сейчас он мне двойку поставит, и меня выкинут из школы, а я полгода даже не проучился, и каждый день шел на занятие рисунком как на плаху. Каждый раз с такой тоской, с таким мучением! И вдруг снова произошло чудо: наш класс разделили на два, появился еще один преподаватель, Боков Василий Михайлович. Почему на два класса разделили, я тогда не интересовался. Думаю, потому что у нас многие хотели заниматься французским языком. Мы могли выбирать – немецкий или французский. Я, естественно, пошел к Бокову и изучал французский язык. Василию Михайловичу я навсегда остался благодарен, он был добрый, симпатичный человек и тепло отнесся ко мне. Я сразу стал прилично рисовать, о двойке уже не могло быть и речи, скорее – три с плюсом. И вдруг учитель пропал. Весь 1947 год он с нами занимался до конца, а потом просто пропал. Может быть, Боков по доносу попал в число жертв тогдашней антихудожественной кампании. Аресты шли все время, каждую ночь люди боялись, что ночью их заберут. Это был 1948 год. Время репрессий и разгромных кампаний в изобразительном искусстве, музыке, литературе. Два года назад вышло постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», где публиковали Зощенко и Ахматову. Их назвали подонками и пошляками. К живописи с обвинениями только приступили.
Конец 1940-х – самое тяжелое время для нашего искусства, нашей культуры. Цензура была жуткая, полное падение профессиональной культуры. Но в художественной школе сохранялась творческая атмосфера. Ученики много рисовали, работали дома, массу сил тратили на композиции, изучали нашу классику. Надо мной уже не висел этот страх: двойка, выгонят… Не могли больше выгнать. Дальше у меня наладилось нормальное обучение в школе: на следующий год четверка, а потом твердая пятерка по рисунку.
Школа тогда размещалась в Лаврушинском переулке, напротив входа в Третьяковскую галерею. Мы бегали туда на все выставки, не пропускали ни одного события, центром которых была Третьяковка. Поэтому все, что происходило заметное, мы видели, обсуждали, спорили. И конечно, знали всю русскую классику XIX века. К концу школы моим художественным эталоном стал Михаил Врубель. Его картины не выставляли, убрали в запасники. В библиотеке я нашел старую монографию о нем. Я ее, можно сказать, прямо наизусть выучил. Знал работы Врубеля по репродукциям. То, что Врубель был моим любимым художником, говорит о том, что я уже тогда был в оппозиции по отношению к официальному соцреалистическому подходу, который заключался в диктовке начальства и указаниях: «Вот так надо, а так не надо. Это наше, а это не наше». Очень рад, что в школе, в которой я учился, возникал дух сопротивления. Мы обсуждали не только классику, но и выставки современного искусства в Третьяковской галерее. Часто у нас не вызывали восхищение даже те работы, за которые давали премии.
В Московской средней художественной школе я учился с 1947 по 1952 год и храню самые светлые воспоминания об этом времени. Директором был Николай Августович Карренберг. Он удивительно умел все наладить, организовать переезд в новое здание напротив Третьяковки, подобрать педагогов по всем дисциплинам, в первую очередь специальным. Несмотря на то, что он никому ничего плохого не делал, мы его боялись ужасно, не знаю, как он сумел этого добиться. Помню, если кого-то вызывает директор, тот идет туда на подгибающихся ногах, стучит в дверь, заходит. В огромном кабинете за письменным столом сидит Карренберг и громовым голосом говорит: «Ты почему вчера занятия пропустил? А-а-а?» Мы его за глаза называли «фюрер». От директора в школе многое зависело.
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе