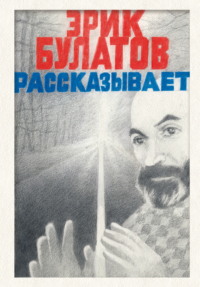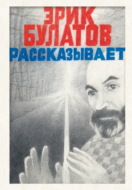Читать книгу: «Эрик Булатов рассказывает. Мемуары художника»
Благодарим Татьяну Пинскую за помощь в работе над книгой.
Моей жене Наташе с любовью и благодарностью за совместную работу над книгой

© Булатов Э., оформление обложки, фото, иллюстрации, 2025
© Пенская Е. Н.,текст, 2025
© Рубинштейн Л. С., статья, наследники, 2025
© Зельфира Трегулова, статья, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
От издателя
Эта книга не увидела бы свет, если бы в августе 2024 года Эрик Владимирович не попал в больницу. Чтобы скрасить время, жена и друзья предложили художнику записывать его рассказы о своей жизни, о людях, с которыми его свела судьба, о живописи и творчестве. Трудно найти более скромного человека, чем Эрик Владимирович – уговорить его удалось не сразу. В основу книги легли расшифровки аудиозаписей его воспоминаний.
Эрик Булатов рассказывает
Начало
Место моего рождения – Свердловск. Так обозначено в документах, и непременно сообщается среди прочих сведений обо мне. Получается, что я уралец, эдакий парень из тайги. На самом деле родители жили в Москве. К сожалению, я почти ничего не знаю о своих корнях. Почему-то дома никогда не обсуждались наши предки, семья. У меня совсем немного сведений об этом. Я знал лишь деда и бабушку Булатовых. Они были мещанами. Дворянские родословные не имеют ко мне никакого отношения.
Отец мой, Владимир Борисович Булатов, родился в 1901-м в Саратове, окончил Институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, был партийным работником, ученым секретарем редколлегии Большой Советской энциклопедии. В молодости он придерживался большевистских взглядов. По возрасту не участвовал в Первой мировой войне, но в Гражданскую воевал на стороне красных. Сначала это считалось позором семьи, позднее все перевернулось, и даже дед Борис перед смертью говорил, что единственная его ошибка в жизни заключалась в том, что он не вступил в Коммунистическую партию.
Мама, Раиса Павловна, родом из города Белосток (Польша). В пятнадцать лет она, увлеченная Октябрьской революцией, нелегально эмигрировала в Россию, через три года говорила по-русски без акцента и устроилась стенографисткой. Мама, убежденная коммунистка, уже начинала понимать, что не все так просто в СССР, и с отцом у них периодически возникали противоречия, но они любили друг друга и хорошо жили. В 1933 году отца направили в командировку на Урал, мать, беременная мной, поехала с ним. Там я и родился. По окончании командировки семья вернулась в Москву, где и проходила вся моя сознательная жизнь.
Рисовал я всегда – во всяком случае, сколько себя помню. Первые уроки рисования получил в шестилетнем возрасте у нашей соседки по дачному поселку Зинаиды Осиповны Ленской. Семья Ленских была сказочно красивая: родители Зинаида и Владимир и их очаровательные дочери Татьяна и Ольга. Причем, как и должно быть, старшая Татьяна – томная и мечтательная, младшая Оленька – хохотушка. Ленские устраивали детские спектакли, в которых участвовали дети всего дачного поселка, и для каждого ребенка находилась какая-нибудь роль – обиженных не было. Получались настоящие праздники для детей. Помню, как я пытался иллюстрировать эпизод из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» – поединок Руслана с Рогдаем. У меня была одноименная книжка с картинками. Я пытался нарисовать лучше, чем было в книге. Сохранилось несколько работ того времени, по которым видно, что у меня действительно неплохо получалось. Конечно, в этом возрасте многие дети рисуют хорошо, и это вряд ли значило что-то серьезное, но отец был в восторге и решил, что сын должен стать художником.
Отец был для меня чрезвычайно важным человеком. Перед сном обязательно читал стихи, он довольно много знал наизусть. Любил поэзию, которая, казалось бы, коммунисту необязательна, поскольку многие поэты уехали из СССР и были запрещены в печати. Например, он читал мне «Умирающего лебедя» Константина Бальмонта. Этого «Лебедя» я запомнил на всю жизнь. Я вообще хорошо запоминаю стихи, хотя память у меня ужасная: имена, даты забываю. А вот стихи хорошо помню.
Лебедь
Заводь спит. Молчит вода зеркальная.
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится печальная,
Как последний вздох души.
Это плачет лебедь умирающий,
Он с своим прошедшим говорит,
А на небе вечер догорающий
И горит и не горит.
Отчего так грустны эти жалобы?
Отчего так бьется эта грудь?
В этот миг душа его желала бы
Невозвратное вернуть.
Все, чем жил с тревогой, с наслаждением,
Все, на что надеялась любовь,
Проскользнуло быстрым сновидением,
Никогда не вспыхнет вновь.
Все, на чем печать непоправимого,
Белый лебедь в этой песне слил,
Точно он у озера родимого
О прощении молил.
И когда блеснули звезды дальние,
И когда туман вставал в глуши,
Лебедь пел все тише, все печальнее,
И шептались камыши.
Не живой он пел, а умирающий,
Оттого он пел в предсмертный час,
Что пред смертью, вечной, примиряющей,
Видел правду в первый раз.
Очень печальные стихи, но в них одновременно были счастье и грусть. Эти чувства связаны с искусством, а в искусстве обычно так и бывает. Тем, что меня назвали Эриком (а это не уменьшительное имя), я обязан известному актеру Михаилу Чехову. Одна из лучших его ролей – роль Эрика XIV в пьесе Стриндберга. Исполнение этой роли Михаилом Чеховым произвело на моих родителей неизгладимое впечатление.
У нас в поселке на 42 километре обосновался художник Павел Кузнецов. У него была большая прекрасная дача. Все вокруг знали, что он первый лауреат только что учрежденной Сталинской премии, поэтому о нем сразу пошли легенды. Я о нем ничего не знал, но было достаточно того, что у него Сталинская премия, и я решил обязательно показать свои рисунки. Однажды пришел к калитке – закрыта. Там звонок. Я стал звонить, но никто мне не открыл. Я подумал-подумал и полез через забор. Перелез через забор, а они дома оказались: и Павел Кузнецов, и его жена. Не рассердились.
Посмотрел художник мои рисунки, одобрил, спросил: «Кто на даче живет?» Я объяснил, что это дача моего отца. Он просил передать приглашение моим родителям. И они пришли. На сей раз калитка уже открывалась на звонок. Художник посмотрел мои рисунки и одобрительно к ним отнесся. Отцу это было, конечно, важно. Он не передавал подробно, что говорил Кузнецов, а просто утвердился в своем желании и как бы дал мне наказ быть художником и ничем другим не заниматься. Вот такая была встреча с Кузнецовым. А потом художник куда-то исчез. Возможно, ему не очень понравилось само место. Возможно, продал дачу и уехал.
Война
Счастливое детство кончилось 22 июня 1941 года. Это было воскресенье, и у нас готовился семейный праздник – день рождения родственника. Родители поехали на базар. В нашем поселке ничего не продавалось, а на соседней железнодорожной станции был большой рынок. Мы с двоюродным братом отправились к друзьям-сверстникам Зыбиным, Кириллу и Аркадию. Кирилл был постарше, Аркадий помладше. Они разбирали велосипед, и мы с братом тоже присоединились.
Надо сказать, совершенно не было никаких предчувствий, никаких предзнаменований. Утро хорошее, солнечное, хотя по прогнозу должен был идти дождь. И тут в калитку вошел знакомый журналист Григорий Ефимович Рыклин. Он много лет служил завлитом в Театре сатиры, дружил с Качаловым и Михаилом Кольцовым, возглавлял журнал «Крокодил» и писал фельетоны в газеты. Его сын в это время был в армии на сборах, и Рыклин очень волновался, не начнется ли война раньше, чем парень вернется из военных лагерей. Я помню, калитка громко хлопнула и вошел Григорий Ефимович с копной взъерошенных волос, в криво надетых роговых очках и с совершенно безумным видом. И он выдохнул: «Война». Вот от него я услышал это слово впервые, и мы побежали домой, чтобы рассказать новость. Это было не страшно, а даже интересно. Я вообще бегал неплохо, но на сей раз мои ноги совершенно отказывались бежать, они были чужие, какие-то деревянные. Дома все уже знали. И вместо праздничного оказалось совершенно другое настроение. Отец в первый же день решил, что уйдет добровольцем, что, собственно, и сделал.
Еще перед началом войны нас в поселке заставляли рыть щели – подземные помещения, иными словами, земляные углубления, а сверху два или три наката бревен на случай бомбардировки. Считалось, что надо прятаться в эти щели. И действительно, теперь с юго-востока над нами постоянно пролетали немецкие бомбардировщики, потому что мы жили на 42-м километре по Казанской дороге от Москвы. С этой стороны, видимо, зениток не было или было совсем мало, во всяком случае, никто по ним не стрелял. Самолеты летели над нами, но у нас им бомбить было нечего, хотя именно здесь образовался знаменитый Жуковский аэродром. Но это позднее, а тогда немецкие самолеты пролетали над нами, а потом над Москвой появлялось зарево и слышалась стрельба пушек. Понятно, там уже их встречали боем, и это было серьезно.
Мы остались на даче, возникли трудности с продовольствием. И вот мама по случаю купила живую курицу. Это было невероятное событие, ведь нужно было ей отрубить голову! Мама позвала кого-то из местных. Помню этот момент очень ясно. Курица без головы полетела и летала довольно долго. Это меня тогда потрясло настолько, что запомнилось на всю жизнь.
В Москву мы вернулись осенью. Приехали с дачи на Павелецкий вокзал. Как только вышли из вагона, началась бомбежка. Бомба попала в дом напротив вокзала, на противоположной стороне площади. Все сразу легли на землю. Взрыв, грохот, дом рушится. Все это видно отчетливо. И мама говорит мне: «Не бойся, не бойся, не бойся. Сейчас вторая бомбочка будет». Так мне эта фраза и запомнилась. Но второй бомбы так и не последовало, и мы пошли домой. Квартира наша находилась на Зацепе, недалеко от вокзала.
Пошли слухи, что завтра придут немцы в Москву. В семье обдумывали, что делать. Моя бабушка пришла тихонечко, пока там спорили, как защититься от немцев, повесила мне на шею крестик, который я с тех пор и ношу всю жизнь, и поцеловала меня. Она думала, что если немцы увидят крест, то поймут, что я христианин. Так или иначе все с уверенностью ждали немцев. Однажды я проснулся рано, пока все еще спали, и стал смотреть в окно, потому что думал, что немцы будут ходить по улице. Но никто не появлялся, только ветер разносил вокруг бумажки и мусор. И наконец появился какой-то человек. Я прямо вытянулся у окошка – ага, это немец. И смотрю, отличается ли он от наших людей? Да нет, ничем не отличается. Ну и, конечно, оказалось, что никакой это не немец, а просто прохожий. Вот такое у меня сохранилось воспоминание.
Эвакуация
Немцы наступали, и мама решила вместе с Художественным театром ехать в эвакуацию в Саратов. Несмотря на то что она как работник министерства могла эвакуироваться в министерском эшелоне, мама решила присоединиться к семье сестры отца, муж которой был актером во МХАТе. Так что путь наш был совместный, как и наша тамошняя жизнь. Но в Саратове мы жили отдельно. У мамы там нашлась приятельница, она и пригласила нас к себе пожить. О саратовской жизни я ничего не помню, потому что очень тяжело заболел, с высокой температурой и воспалением легких. Так всю зиму и проболел.
А на следующее лето пришлось эвакуироваться дальше, потому что немцы уже приближались к Волге, и Художественный театр отправили на Урал. Дорога была одна, по Волге до Камы, потому что небо было захвачено немецкими истребителями и бомбардировщиками. Так что оставалась только река, над которой, конечно, точно так же могли летать эти же самые истребители и бомбардировщики. Но нам повезло: ни одного самолета не пролетело, и мы благополучно добрались до Волги.
По дороге осталось самое яркое воспоминание – утес Стеньки Разина. Вот его я хорошо запомнил. С тех пор он стал для меня важной вехой на всю жизнь. На корабле наши места находились не в каюте, а на палубе, и там же расположилась старая актриса, хотя, возможно, люди казались мне старыми из-за моего детского возраста. Она по памяти рассказывала нам сказки Бажова – мы же двигались на Урал. От этих рассказов остались самые яркие впечатления. Потом, когда стал читать Бажова, я даже немножко разочаровался, но все равно было интересно. В общем, мы благополучно доплыли до Камы, а потом уже до Свердловска. В Свердловске первое и самое для меня знаменательное впечатление – городская выставка детских рисунков в школе. Но все выглядело по-взрослому: жюри, присуждение премий, и я получил первую премию в свои восемь лет.
Знаменательно, что больше уже в моей жизни я никогда премии не получал. А тут я сразу начал новую уральскую жизнь. И первой премией оказался живой кролик, очаровательное существо, но самым обидным было то, что мы не могли его взять: кормить его было нечем. А съесть его тем более невозможно. Так что мы с мамой отказались от первого приза, и нам его заменили вторым призом. А вторым призом была коллекция уральских самоцветов, полудрагоценных камней. И я ее очень бережно хранил, а потом в Москве эту коллекцию подарил школе, в которой учился.
В Художественном театре было много таких семей, как наша, то есть не имевших прямого отношения к сцене, а связанных родством с актерами. Мы жили в большой комнате. Раньше это был какой-нибудь школьный зал. Комната была поделена обычными кроватями. Сколько членов семей – столько и кроватей. Между кроватями натянуты простыни, чтобы отделить одну семью от другой. А мебель какая? Никакой вообще не было. Тумбочка, может быть, была, этого я уже не помню. Но в детском возрасте это не казалось ужасным. Большой утратой стала смерть бабушки. И остались я с мамой, сестра отца с мужем и дедушка.
Возвращение в Москву
В феврале 1943 года, получив разрешение на въезд в Москву, не дожидаясь МХАТа, мы с мамой самостоятельно вернулись в столицу. В нашей квартире в трех комнатах поселились эвакуированные из Ленинграда, пообещав в ближайшее время освободить нам какое-то место для проживания. Но конкретно сейчас остановиться нам было негде. И вот тогда родная сестра матери, тетя Долли, проживавшая в Сокольниках, пригласила нас к себе. Их сын ушел в армию, и она жила с мужем в одной комнате в бараке.
Мы поехали в Сокольники. Я запомнил, что это было 23 февраля 1943 года. Конечно, праздника никакого не было, шла война, и до коренного перелома, Сталинградской битвы, оставалось четыре месяца. Самое тяжелое воспоминание – как мы добирались до этого барака. Дядя по линии отца должен был нас встретить на Павелецком вокзале и сопроводить, но не встретил, опоздал. А мама была такая же нетерпеливая, как и я. И вместо того чтобы просто ждать, она решила сама пойти в дом дяди. Пока мы до него добрели, прошло много времени. Это было физически тяжело, все-таки шестой этаж без лифта, а у нас были тяжелые вещи, и когда наконец поднялись, то оказалось, что его уже дома не было. Тогда мама решила и тут не ждать: «Сами поедем в Сокольники».
Доехали на метро до станции «Сокольники», а дальше как добираться? Адрес был такой – 6-й Лучевой просек, на трамвае можно было проехать две или три остановки, а там уж пешком. Сесть в трамвай было практически невозможно – толпы народу, толкавшие друг друга, а у нас в руках вещи. Потолкались мы там, потолкались, и мама решила, что пешком пойдем – будет быстрее и лучше. У меня уже совсем не было сил, я с таким невероятным трудом тащил на себе вещи. Они, конечно, не были тяжелые – тяжелое все было у мамы. Но тем не менее для меня и эти нести было достаточно сложно.
Наконец, после того как мы преодолели две или три остановки трамвая, которые показались мне бесконечными, добрались до 6-го просека. Нам открыла незнакомая женщина. Как потом выяснилось, она тоже жила у тети Долли, у нее кто-то умер, а сама она была нездорова. Она не знала, как с нами быть: впустить в дом или нет? Конечно, она боялась посторонних – воровство и грабежи в то время были не редкостью. Пока она раздумывала, я с ужасом представлял, что снова придется тащиться пешком назад. Боже мой, сил никаких нет! И я взмолился: «Неужели опять пойдем?» Тут у женщины, видимо, заговорила совесть, она открыла дверь и впустила нас. Скоро вернулась и тетя Долли и устроила ей сильную взбучку: «Это моя сестра, как ты могла ее не пускать!» Но потом все успокоились, и мы уютно в конце концов вместе обжились и даже после войны там иногда собирались.
Над обеденным столом, под абажуром, на ниточке крутилась кукольная балеринка. Я всегда загадывал, на кого она в конце концов обернется. А самое жуткое воспоминание, связанное с бараком, это туалет, который был просто настоящим кошмаром. Я ничего хуже ни тогда, ни потом не видел. Один сортир на весь громадный барак, весь загаженный. И загаженный – это еще не то слово. Доски стелили друг на дружку, чтобы можно было пройти. Чудовищная мерзость. Зато все остальное сохраняло очарование – замечательный парк Сокольники, по которому я гулял в свободное время и хорошую погоду.
Начислим
+19
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе