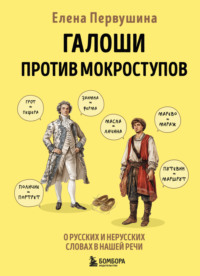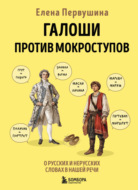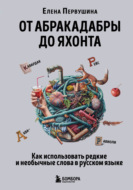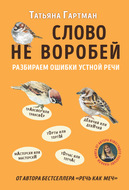Читать книгу: «Галоши против мокроступов. О русских и нерусских словах в нашей речи», страница 3
А еще один очень важный термин – «компас» – происходит либо из нем. kоmpass, либо из ит. соmрassо – «циркуль, круг», от глагола соmраssarе – «вымерять шагами, измерять», в русском языке используется с 1720-х годов.
Из-за моря привозили не только сельдь47 и картофель48, но и ананасы49, абрикосы50, апельсины51. Скоро их начали выращивать в России в оранжереях52.
А вот слово «вино» в русском языке XVIII века имело несколько значений. Хоть оно и является калькой с латинского слова vino, означающего напиток из перебродившего винограда, но в России так часто называли для краткости «хлебное вино», или самогон.
* * *
Хорошо поработав днем, вечером петербуржцы могли отправиться на ассамблею53.
Сам Петр I в 1718 году так объяснял жителям новой столицы значение этого слова:
«Ассамблея – слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно, обстоятельно сказать, вольное в котором доме собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела; ибо тут можно друг друга видеть и о всякой нужде переговорить, также слышать, что где делается; притом же и забава». И далее весьма обстоятельно рассказывал, как именно следует забавляться на ассамблеях.
Чем привлекали ассамблеи? Газета «Ведомости» описывала ассамблею, устроенную 29 июня 1719 года в честь тезоименитства Петра I: «Гулба в вертограде царском, где же все чувства насладилися: зрение видяще неизреченную красоту различных древес в линию и перспективу расположенных и фонтанами54 украшенных; тут же и речная устремления, веселящая и град, и огород царский. Ухание от благородных цветов, имущее свою сладость. Слышание – от мусикийских, и трубных, и пушечных гласов. Вкушение – от различного и нещадного пития. Осызание – приемлюще цветы к благоуханию. Последи же по западе солнца были преизрядные фейерверки и огня, в гору летущаго и по водам плавающего, было изобильно».
Там можно было увидеть ночной Летний сад, украшенный иллюминацией55 – ярким освещением разноцветными фонарями. Иллюминацией в XVIII веке называли большой щит с натянутым на раму холстом, на который наносился какой-либо рисунок. Затем либо по контуру рисунка натягивали фитильные шнурки и поджигали, либо рисунок подсвечивали сзади. Или же могли украсить какое-то сооружение – постоянный павильон56 или временную эфемериду57– маленькими фонариками или глиняными плошками с масляными фитилями.
На аллее58 можно было полюбоваться танцами двух юных принцесс59– Анны и Елизаветы.
Можно было и самому поухаживать за дамой60.
В XVIII веке кокетство61, которое позже назовут флиртом62называли «строить куры»63или «курмашить»64. А дама могла сделать игривый намек с помощью прикрепленной над верхней губой или глубоко в вырезе платья мушки65или помахав веером66.
Эту увлекательную игру можно было продолжить, станцевав с дамой контрданс67или менуэт68.
Или выпить шнапса69, выкурить трубку табака70, обсудить последние новости.
Потом переправиться через Неву на собственной лодке, построенной на партикулярной71верфи, и лечь спать, чтобы утром выпить кофе72и снова на работу – строить новую Россию.
* * *
А вот в университет73недоросли петровских времен поступить не могли: первый университет открылся в Москве в 1755 году при дочери Петра – Елизавете.
А до тех пор приходилось ограничиваться Академией74.
При Академии работала типография75, в которой переводили и печатали научные книги. Печатали новыми упрощенными шрифтами76, которые утвердил лично Петр I.
И так далее.
Длинный этот очерк, конечно, не исчерпывает всех нововведений петровских времен.
На одного из близких друзей, родственника (свояка) и сподвижника Петра – Бориса Ивановича Куракина – этот поток иностранных слов произвел такое впечатление, что он заговорил на каком-то новом, небывалом языке, поистине «смеси французского с нижегородским», а еще – с немецким, итальянским, английским. Например, вот как он описывает первые фейерверки Петра, которыми тот забавлялся еще в Москве: «Его ж Величество имел великую охоту к артиллерным делам и к огню артифициальному77 и сам своими руками работал по вся зимы.
Как тогда обычай был на конец кроновала78 или на маслянице на Пресне, в деревне Их Величества, по вся годы, потехи огненныя были деланы. И, правда, надобное сие описать, понеже делано было с великим иждивением79, и забава прямая была мажесте80.
Их Величества и весь двор в четверг на маслянице съезжали в шато81 свое на Пресне, и живали дня по два; где на обоих дворцах бывали приуготовления потех: на одном дворце с Пушкарнаго двора, а другом дворце с Потешнаго дворца строения рук Его Величества. Тут же сваживали пушек по полтораста для стрельбы в цель. И в назначенной день тем потехам поутру начнется стрельба из пушек в цель и продолжается до обеду; и которой пушкарь убьет в цель, бывало награждение каждому по 5 рублей денег и по сукну красному или зеленому на кафтан.
И потом обед даван был всем палатным людям, а по обеде до вечера чинится приуготовление потех огненных, и, чем ночь настенет, начинаются оныя потехи и продолжаются временем за полночь.
И на завтрие Их Величества возвращаются к Москве».
А несколькими строками ниже Куракин сообщает об одном из петровских шутов: «И в первых взят был ко двору дворянин новогородец, Данило Тимофеевич Долгорукой назывался; мужик старой и набожной и препростой, которой больше не имел шуток никаких, токмо вздор говаривал и зла никому не капабель82 был сделать».
Справедливости ради нужно сказать, что Борис Иванович Куракин стал первым постоянным послом России за рубежом: он трудился в Лондоне, в Ганновере, в Гааге и в Париже, руководил всем посольским корпусом России.
Но иностранные слова в обилии проникали и в речь россиян, не переступавших границы своего отечества.
И поэтому русские литераторы быстро почувствовали, что в обновленном языке пора наводить порядок.
Три стиля или три языка? Язык Ломоносова
В середине XIX века деятельность Петра I и его наследие уже стали поводом для политических споров. Михаил Петрович Погодин в уже знакомой нам статье «Петр Первый и национальное органическое развитие» пишет: «Слава, как луна, имеет свои фазы. Слава Петрова находится ныне в ущербе: многие вновь открытые документы из архивов Тайной Канцелярии бросили в последнее время мрачную тень на его личный характер, а пробуждающееся народное сознание преисполняется в некоторых негодованием на него за насильственное подчинение России иностранному, европейскому влиянию».
Он призывает на защиту Петра Татищева, Ломоносова, князя Щербатова, Карамзина и Пушкина. И подытоживает: «Как потомки Адамовы рождаются, нося в существе своем следствия первородного греха, так точно все мы русские от рождения своего подвергаемся влиянию Европы или Петровой реформы. Как нечего толковать людям, бранить и осуждать, судить и рядить, зачем Адам сорвал и съел роковое яблоко, а должны они думать, как возвратить себе потерянный рай, чтобы в немощи совершилась сила, так точно бесполезно разбирать нам задним числом с практической точки зрения действия Петровы, а должны мы стараться, удержав из них дельное и доброе, присоединять к тому все годное из народной жизни, старой, средней и новой, сколько в ней того сохранилось, – и идти вперед».
В самом деле, хотя «история не имеет сослагательного наклонения», нельзя забывать, что Россия без реформ Петра была бы также Россией без Пушкина и без многих замечательных его современников. А вот «тайной канцелярии» никак не повредила бы смена курса. Любой правитель, куда бы он ни «правил», будет нуждаться в защите. А в XVIII веке лучшей защитой было нападение, причем максимально жестокое, такое, после которого противник уже не оправился бы.
* * *
Нам трудно представить себе Россию без Пушкина. А какой была бы Россия без Ломоносова? Или с Ломоносовым, никогда не бывавшем за границей, не учившемся в Марбурге, а только в Славяно-греко-латинской академии, основанной еще при царевне Софье. Скорее всего, тогда мы не знали бы Ломоносова-химика, Ломоносова-естествоиспытателя, Ломононсова-астронома, открывшего наличие атмосферы у Венеры, что было важно для астрономов всего мира, и, наконец, Ломоносова-художника, занимавшегося производством цветного стекла и изготовлением мозаик.
Ломоносов-литератор, возможно, был бы, но мы никогда не угадаем, о чем и как он бы писал.
Но пора вернуться в реальность из области сослагательного наклонения и немного поговорить о том, что сделал Ломоносов для русского языка.
Первые 14 лет жизни Михаила Васильевича прошли еще при жизни Петра, но известность он получил уже при «дщери Петровой» – императрице Елизавете.
Именно Ломоносов написал первую в истории «Русскую грамматику» (1755), в которой проанализировал законы и формы русского литературного языка. Интересно, что в период работы над «Грамматикой» Ломоносов начал писать маленькую шуточную комедию «Суд российских письмен перед Разумом и Обычаем от Грамматики представленных». В ней Грамматика обращается к Разуму и Обычаю с просьбой решить, какое начертание должны иметь русские буквы, потому что они непрерывно ссорятся из-за этого. Это намек на спор в академической среде по вопросу о не вполне еще устоявшихся к тому времени начертаниях букв русского гражданского алфавита, введенного в начале века. Как видно из текста, заимствовались не только слова, но и начертания букв, и по этому поводу также царили разногласия:
Грамматика
Почтенные, почтеннейшие и препочтенные господа! Я вам доносила, доношу и буду доносить, что письмя письменем гнушается, письмени от письмене нет покою, письмена о письменах с письменами вражду имеют и спорят против письмен.
…
Я должна вам представить российские письмена, которые давно имеют между собою великие распри о получении разных важных мест и достоинств. Каждое представляет свое преимущество. Иные хвалятся своим пригожим видом, некоторые – приятным голосом, иные своими патронами, а почти все – старинною своею фамилиею. Сего междоусобного их несогласия без вашего рассмотрения прекратить невозможно.
Разум
Изволь их перед нас поставить.
Грамматика
В каком образе видеть их изволите?
Обычай
Как – в каком образе?
Грамматика
Ежели вам угодно перекликать их на улице, то станут они для нынешней стужи в широких шубах, какие они носят в церковных книгах, а ежели в горнице пересматривать изволите, предстанут в летнем платье, какое они надевают в гражданской печати. Буде же за благо рассудите, чтобы они пришли к окнам на ходулях, явятся так, [как] их в старинных книгах под заставками писали или как и ныне в Вязьме на пряниках печатают. А когда по их честолюбию в наряде притти позволите, тогда наденут на себя ишпанские парики с узлами, как они стоят у псалмов в начале, а женский пол суриком нарумянятся. Буде же хотите, чтобы они явились как челобитчики в плачевном виде, то упадут перед вами, растрепав волосы, как их пьяные подьячие в челобитных пишут; наконец, если видеть желаете, как они недавно между собою подрались, то вступят к вам сцепившись, как судьи однем почерком крепят указы.
При этом обычай жалуется, что…
Обычай
… Когда же мне другие важные дела исправлять и о том стараться, чтобы все то, что от меня зависит, удержать и утвердить в прежнем своем добром состоянии? Непостоянная госпожа Мода и ночи не спит, стараясь все то развратить или и вовсе отменить, что я уже давно за благо принял.
А Разум пытается его утешить:
Разум
Напрасно для того излишно себя беспокоишь: что худо, то долго устоять не может. И старое скоро назад возвратится, ежели оно нового лучше.
Мир, и порядок, и разрешение всех споров и должна была принести россиянам «Грамматика» Ломоносова.
* * *
Скорее всего, вы никогда не изучали «Грамматику» Ломоносова, но хорошо знаете предисловие к ней: «Повелитель многих языков язык российский не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранцам и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему трудов прилагали. Но кто, не упреждаемый великими о других мнениями прострет в него разум, и с прилежанием вникнет, со мною согласится. Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с Богом, французским с друзьями, немецким с неприятельми, италиянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка».
Однако, чтобы не утратить живость, крепость, нежность и величие, язык должен оставаться живым, не становиться памятником своему славному прошлому. Разумеется, Ломоносов не может не признать важности влияния греческого языка на славянский в прошлом и большого количества заимствований как слов и грамматических категорий, так и идей и понятий, выраженных этими словами: «Правда, что многие места оных переводов недовольно вразумительны, однако польза наша весьма велика. При сем, хотя нельзя прекословить, что сначала переводившие с греческого языка книги на славенский не могли миновать и довольно остеречься, чтобы не принять в перевод свойств греческих, славенскому языку странных, однако оные чрез долготу времени слуху славенскому перестали быть противны, но вошли в обычай. Итак, что предкам нашим казалось невразумительно, то нам ныне стало приятно и полезно».
Эта цитата – из краткого, но очень информативного программного трактата «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (1758). Именно в нем Ломоносов вводит понятие «трех родов речений»: «Как материи, которые словом человеческим изображаются, различествуют по мере разной своей важности, так и российский язык чрез употребление книг церковных по приличности имеет разные степени: высокий, посредственный и низкий. Сие происходит от трех родов речений российского языка.
К первому причитаются, которые у древних славян и ныне у россиян общеупотребительны, например: бог, слава, рука, ныне, почитаю.
Ко второму принадлежат, кои хотя обще употребляются мало, а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны, например: отверзаю, господень, насажденный, взываю. Неупотребительные и весьма обветшалые отсюда выключаются, как: обаваю, рясны, овогда, свене и сим подобные.
К третьему роду относятся, которых нет в остатках славенского языка, то есть в церковных книгах, например: говорю, ручей, который, пока, лишь. Выключаются отсюда презренные слова, которых ни в каком штиле употребить непристойно, как только в подлых комедиях.
От рассудительного употребления и разбору сих трех родов речений рождаются три штиля: высокий, посредственный и низкий».
Первым можно излагать «героические поэмы, оды, прозаичные речи о важных материях», и «составляется он из речений славенороссийских, то есть употребительных в обоих наречиях, и из славенских, россиянам вразумительных и не весьма обетшалых».
Средний стиль – для театральных драм, а также «для «…писем, сатир, эклог и элегий». Этот стиль «состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великою осторожностию, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова, однако остерегаться, чтобы не опуститься в подлость».
И наконец, в низком стиле стоило использовать «речения третьего рода, то есть которых нет в славенском диалекте, смешивая со средними, а от славенских обще не употребительных вовсе удаляться по пристойности материй, каковы суть комедии, увеселительные эпиграммы, песни, в прозе дружеские письма, описание обыкновенных дел».
В заключение Ломоносов выражает надежду, что «таким старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славенского языка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту из греческого, и то еще чрез латинский. Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют. Сие все показанным способом пресечется, и российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго церковь российская славословием божиим на славенском языке украшаться будет».
* * *
Достаточно взглянуть на одно из самых знаменитых стихотворений Ломоносова, чтобы убедиться: в поэзии он вовсе не избегал заимствованных слов.
Это стихотворение – написанное в 1743 году «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния». Тема, разумеется, достойна высокого стиля. Как же выглядит он в исполнении Ломоносова?
Лице свое скрывает день:
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!
Уста премудрых нам гласят:
Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков:
Для общей славы Божества
Там равна сила естества.
Но где ж, натура83, твой закон?
С полночных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на землю день вступил!
О вы, которых быстрый зрак
Пронзает в книгу вечных прав,
Которым малый вещи знак
Являет естества устав,
Вы знаете пути планет84;
Скажите, что наш ум мятет?
Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит85?
Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?
Там спорит жирна мгла с водой;
Иль солнечны лучи блестят,
Склонясь сквозь воздух к нам густой;
Иль тучных гор верхи горят;
Иль в море дуть престал зефир86,
И гладки волны бьют в эфир87.
Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд?
Несведом тварей вам конец?
Кто ж знает, коль велик Творец?
Мы видим, что заимствованных слов тут совсем немного, но если бы их не было, исчезли бы и идеи, связанные с ними – идеи европейской философии и естествознания XVIII века, и стихи утратили бы важную часть своего содержания. А собственно «церковнославянское» слово лишь одно – «естество», оно является калькой греческого слова φύσις («природа»), о чем Ломоносов, изучавший греческий язык, разумеется, прекрасно знал. А если уж высокому стилю иноязычные слова не помеха, то тем более они уместны в остальных родах речи.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе