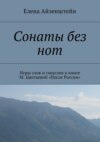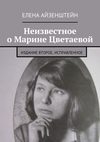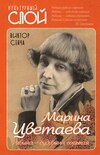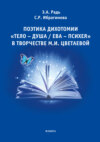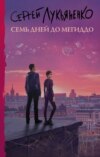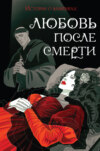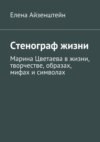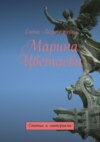Читать книгу: «Сонаты без нот. Игры слов и смыслов в книге М. Цветаевой «После России»», страница 4
Глава восьмая. «В голосовом луче»
По-видимому, еще в Берлине Цветаева прочла раннюю лирику Пастернака. Не знаем, прочла ли «Близнец в тучах» (1914), но «Поверх барьеров» (1917) вероятнее всего. Уже в примечании к статье «Световой ливень», ошибочно назвав «Сестру мою – жизнь» первой книгой Пастернака, Цветаева пишет: «В последнюю секунду следующих две достоверности: 1. „Сестра моя Жизнь“ вовсе не первая его книга; 2. Название первой его книги не более и не менее, как „Поверх барьеров“» (V, 234). О неточности мог сообщить кто-то из окружения. Было бы странно, если бы, узнав о существовании двух других книг Пастернака, Марина Цветаева спешно не попыталась их разыскать. Косвенно подтверждает это стихотворение «Но тесна вдвоем…» (8 августа 1922), первоначально опубликованное под заголовком «Река» (альманах «Струги»), а затем, в 1926 году, третьим в цикле из четырех стихотворений «Сивилла». В нем Цветаева обращается со своими речениями к Пастернаку, названному здесь Адамом. Такое обращение, очевидно, связано со стихотворением «Эдем», открывавшим первую книгу Пастернака «Близнец в тучах»:
Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево глины слижет Инд,
А вправь уйдет Евфрат.
Горит немыслимый Эдем
В янтарных днях вина,
И небывалым бытием
Точатся времена.
Минуя низменную тень,
Их ангелы взнесут.
Земля – сандалии ремень,
И вновь Адам – разут.
«Самого Пастернака я бы скорей отнесла к самым первым дням творения: первых рек, первых зорь, первых гроз. Он создан до Адама» (V, 233), – писала Цветаева в статье «Световой ливень», еще не зная «Эдема». Как скоро должна была она убедиться в собственной прозорливости, найдя у Пастернака отождествление с Адамом, ощущение жизни первым днем творения! Пастернак назвал Адамом не только себя. «Эдем» был посвящен Николаю Асееву. В стихотворении речь о поэтах, которые должны приготовить чуткость к чуду, чтобы постигнуть красоту бытия, вознестись над жизнью, увидеть райскую прелесть Земли, немыслимый свет солнца и снега, пришедших на смену мраку «предсолнечных ночей». Начальные строки Цветаевой словно звучат ответом Пастернаку:
Но тесна вдвоем
Даже радость утр.
Оттолкнувшись лбом
И поддавшись внутрь,
(Ибо странник – Дух,
И идет один),
До начальных глин
Потупляя слух —
Над источником,
Слушай-слушай, Адам,
Что́ проточные
Жилы рек – берегам…
«До начальных глин потупляя слух», Пастернак должен прислушаться к истинам, которые шепчут «жилы рек – берегам», сивиллины уста Марины Ивановны – жизни. Отвечая на пастернаковское «поэты взор вперят», на эту поэтическую множественность, Цветаева утверждает, что «даже радость утр» «тесна вдвоем». Творческое утро – час сиротства, когда Поэт одинокой дорогой бредет к Богу: « (Ибо странник – Дух, / И идет один)…». Позже, в 1926 году, о том же напишет ей Рильке:
Но каждый восполниться должен сам, дорастая, как месяц
ущербный до полнолунья.
И к полноте бытия приведет лишь одиноко прочерченный путь
Через бессонный простор.
[105: П26, с. 129. Перевод З. А. Миркиной.]
«Никаких земель / Не открыть вдвоем» – главный посыл, давший жизнь стихотворению, недаром Цветаева сформулировала, что Поэт – «и путь и цель», и «след и дом». По ее мнению, «правда поэта – тропа, зарастающая по следам» (V, 365). Поэт – проводник «в горний лагерь лбов», в мир мысли, в мир Бога. Но поэт взрывает мост, перейдя на тот берег, потому что поэтический Бог «самовластен», ревнив, не допустит союзничества поэта с кем бы то ни было. В черновой тетради рядом со строками «Ибо страстен / самовластен Бог / И меж всех ревнив» – запись: «Бог тоже бродяга». [106: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 7, л. 11.] Бог создал поэта как свое подобие. Из гостеприимья жизни поэт возвращается домой к Отцу: « – Берегись слуги, / Дабы в отчий дом / В гордый час трубы / Не предстать рабом». «Князья народов господствуют», «вельможи властвуют» (от Матф. 20; 25), но в Царстве Небесном «будут последние первыми, и первые последними» (От Матф. 20; 16). Цветаева предостерегает Пастернака от любви, потому что это тоже земной соблазн, как для женщины – драгоценности, а душа «в голый час трубы» должна быть свободна от земного родства, обнажена для встречи с Богом:
Берегись жены,
Дабы, сбросив прах,
В голый час трубы
Не предстать в перстнях.
……………….
– Берегись! Не строй
На родстве высот.
(Ибо крепче – той
В нашем сердце – тот.)
Вариант в ЧТ: «Берегись в виссон / Облаченных дружб. / Ибо крепче жен / В нашем сердце муж». [107: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 7, л. 13.] Родство духовное, в духе (тот) крепче, чем земное родство с женщиной (той) : мужественное, духовное – вечное. Сердечное, страстное – преходящее и проходящее. Жизнь, «в перстнях», в лирике, отражающей земные страсти, останется человечеству. Голый час трубы – освобождение от Земли:
Говорю, не льстись
На орла, – скорбит
Об упавшем ввысь
По сей день – Давид!
Строки стихотворения Цветаевой уводят в стихотворение Пастернака «Я рос, меня, как Ганимеда…» (1913) из книги «Близнец в тучах», где Пастернак отождествляет себя с сыном троянского царя Троя и нимфы, который был похищен Зевсом, превратившимся в орла или пославшим орла, и унесен на Олимп. Ганимед исполнял обязанности виночерпия, разливая на пирах богов нектар:
Я рос, меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли,
И расточительные беды
Приподнимали от земли.
Я рос, и повечерий тканых
Меня фата обволокла,
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печального стекла.
Я рос, и вот уж жар предплечий
Студит объятие орла.
Дни – далеко, когда предтечей,
Любовь, ты надо мной плыла.
Заждавшегося бога жерла
Грозили смертного судьбе,
Лишь вознесенье распростерло
Мое объятие к тебе.
Эти стихи о драматической любви, которую Пастернак воспринял предтечей поэтического предназначения. Цветаева в своем стихотворении просит не льститься на страсть, несущую гибель. Так же в 1916 году стихами «Гибель от женщины. Вот знак…» предостерегала она Осипа Мандельштама. В 1922 году ее мысль обращается к вознесению царя Саула, покончившего с собой, когда его войско потерпело поражение. Давид оплакивал смерть Саула, упавшего на свой меч. Отсюда цветаевское «скорбит / Об упавшем ввысь / По сей день – Давид!». Образ царя Давида интересовал Цветаеву еще в России (подробнее об этом: Айзенштейн Е. Дорогой подарок царь-Давида //Нева, 2013, №9). Впервые имя царя Давида в сохранившейся рабочей тетради 1922 года записано во время работы над стихотворением «По загарам топор и плуг» [108: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 35.] в июне 1922 г. Рядом строка – «Вечной мужественности меч» [109: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 35.], близкая подзаголовку к статье о Пастернаке «Поэзия вечной мужественности». Марина Ивановна не хочет быть Давидом, оплакивающим Саула, заклинает Пастернака от пушкинской гибели из-за женщины, от наполеоновского соблазна самоубийства. В следующем предостережении Цветаева просит беречься «могил» и «гробниц», беречься естественной смерти. Ей хочется, чтобы Пастернака после смерти не схоронили, а сожгли, а прах развеяли по ветру. О том же читаем в письме Цветаевой к Пастернаку 10 февраля 1923 г. О смерти через сожжение Цветаева писала О. Е. Черновой и 10—го мая 1925 г. (VI, 743—744). Эта мысль метафорически звучит в стихах:
От вчерашних правд
В доме – смрад и хлам.
Даже самый прах
Подари ветрам!
Последние строки двойственны: Цветаева призывает Пастернака беречься гробниц, жить и – не копить в себе, как в гробе, «вчерашние правды»: жизнь мгновений, чувства – не захламлять душу потерявшим ценность грузом, сжигать страсти на творческом костре, пускать по ветру душевные печали. Сквозь стихотворение рефреном проходит призыв прислушаться к ее пророчествующим устам, уберечься от всех соблазнов.
Продолжая тему возвращения поэта в Царство Небесное в стихотворении «Леты подводный свет…» 11 августа 1922 года, Цветаева убежденно говорит: поэт унесет с собой на тот свет «нерастворенный перл», жемчужину поэтического голоса. Лирика пишется не только сердцем («красного сердца риф»), не только чувствами, в ней есть «Леты подводный свет», метафизическое, духовное начало. Представляя вскрытие на том свете певческого горла, Цветаева предсказывает: оно обнаружит «нерастворенный перл», жемчужину, от которой не избавит ни ланцет, ни пила, ни сверло, ни сама смерть:
Го́ре горе! Граним,
Плавим и мрем – вотще.
Ибо нерастворим
В голосовом луче
Жемчуг…
Железом в хрип,
Тысячей пил и свёрл —
Неизвлеченный шип
В горечи певчих горл.
Образ поэтического жемчуга, который уцелеет и в Царстве Небесном, возможно, возник как реминисценция евангельского уподобления Царства Небесного купцу, «ищущему хороших жемчужин» (от Матф. 13; 45). «Чётки» Ахматовой и «жемчуга» Цветаевой связаны, по-видимому, с книгой «Эмали и камеи» Теофиля Готье, со стихотворением А. С. Пушкина «В прохладе сладостной фонтанов…», где Крым назван место рождения сказок и стихов, мудрости и красноречия:
В прохладе сладостной фонтанов
И стен, обрызганных кругом,
Поэт, бывало, тешил ханов
Стихов гремучих жемчугом.
На нити праздного веселья
Низал он хитрою рукой
Прозрачной лести ожерелья
И чётки мудрости златой.
Любили Крым сыны Саади,
Порой восточный краснобай
Здесь развивал свои тетради
И удивлял Бахчисарай.
Крым во время пребывания в доме М. А. Волошина был сопряжен у Цветаевой с первым ощущением себя поэтом; женщиной, по мудрости и величию ума равной мужчинам. Вспоминая о Пушкине, о его милом волшебнике-поэте, выдумщике «сказок и стихов», ей хотелось верить, что после смерти уцелеет жемчужина ее голоса: на том свете продолжится самовыражение через звуковую стихию. В черновой тетради – варианты 9—10 стихов: «Певчее горло! Стон / Под золотым ключом»; «Горло! Певучий стон / Под золотым ключом!» [110: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 7, л. 17.], – воплощающие поэта певучей дверью в Царство Небесное. В беловой тетради после этих стихов помета: « (Перерыв из-за «Мо́лодца»)». [111: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 4, л. 84.] Цветаева сосредоточивается на новой поэме, начатой еще в мае, до отъезда за границу, на чужой жизни, которую выдумывает она, избывая свою тоску, страсть, увлекаясь сюжетом. Как и поэма «Царь-Девица», «Молодец» – новая «сказка», жанр, в котором Марина Ивановна тоже идет за Пушкиным. Правда, ее сказки не предназначены для детского чтения. Определение «сказкой» обезоруживает против обвинений в кощунстве и святотатстве, успокаивает самого автора, напоминает читателю: поэт снит очередной творческий сон.
Цветаева постоянно соотносила себя с Пушкиным, а в момент создания «Мо́лодца» ей столько же, сколько Александру Сергеевичу в 1829 году, когда он написал. «Подъезжая под Ижоры…», где в строке «Хоть вампиром именован» Пушкин сравнивает себя с Байроном, который был очернен в романе В. Полидори «Вампир», так что избрание в качестве главного героя упыря и вампира продиктовано любовью к Пушкину и Байрону. Среди других источников «Мо́лодца» – сказки под редакцией Афанасьева, стихотворение Гейне «Друг откройся предо мною…» («Liebste, sollst mir heute sagen…») о вампирах и крылатых конях:
Василиски и вампиры,
Конь крылат и змей зубаст —
Вот мечты, его кумиры,
Их творить поэт горазд!
(перевод Ф. И. Тютчева) [112: Из кн. : Лев Копелев. Поэт с берегов Рейна, М. : Прогресс-Плеяда, 2003, с. 493.]
И его же «Флорентийские ночи»; в центре второй ночи в новелле – история Лоранс, оглядываясь на которую, Цветаева писала Марусю в «Мо′лодце». Цветаеву привлекли в новелле Гейне и в фантастических рассказах Максимилиана странное рождение Лоранс в могиле спящей в летаргическом сне матерью, посленаполеоновская эпоха (Лоранс была замужем за старым бонапартистом, командовавшим частью в окрестностях Парижа) [113: Надо сказать, Гейне изображает черные волосы Лоранс, подобными крыльям ворона, а в пьесе Ростана «Орленок» с эпиграфом из Гейне похоже показана шляпа Наполеона, сделанная, «будто из двух вороньих крыльев».], уподобление Лоранс Прозерпине, ее невероятные танцы, когда она словно прислушивалась к звукам из иного мира, разговаривала с кем-то с того света: «… через несколько недель я уже ничуть не удивлялся, когда ночью раздавались тихие звуки треугольника и барабана и моя дорогая Лоранс внезапно вставала и с закрытыми глазами начинала танцевать свое соло». [114: Г. Гейне. Указ. соч. с. 170.] У Гейне в новелле – две ночи, у Цветаевой – две части поэмы, две жизни, два сна Маруси. Вспоминая Лоранс, Цветаева писала Марусю, танцевавшую во сне. Недаром во французском тексте «Молодца» («Le Gars») М. Цветаева назовет первую часть «Плясунья», а вторую – «Спящая», сделав акцент в первой на мотиве танцующей души, во второй – на уподоблении жизни и творчества сновидению. [115: Марина Цветаева. Мо′лодец. Поэма. Иллюстрации Натальи Гончаровой. ДОРН: Санкт-Петербург, 2003. Подгот. Н. Телетовой.]
Глава девятая. «В смертных изверясь»
Стихи, созданные в сентябре – октябре 1922 года проникнуты чувством разочарования в жизни, ощущением сиротства, отношением к жизни как к «удушью уродств». И лечит душу природа. Тему деревьев встречаем в тетради еще в июне 1922 года: «На бересте божественного / вещественного / полунощного древа / Заря: разрез. / Рождение». [1: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 42.] Для Цветаевой этот образ ассоциировался с душевной разъятостью, с состоянием пред-творческого волнения. Здесь же – библейские имена: «Царь Давид» и «над Саулом». [2: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 4, л. 35 и 42.] Раньше видела себя Цветаева «юным Давидом», теперь стала старше и мудрее, и в набросках к первому стихотворению будущего цикла «Деревья» слышится мотив соперничества двух поэтов: Давида (Пастернака) и Цветаевой (Саула) : «Юным Давидом начав /… недуг / Арфу – Саулом / Рвать из Давидовых рук»; [3: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 5, л. 45 об.] «Разрозненные голоса / Арфы Давидовой»; «Кольцо Соломона / И арфа Давида. [4: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 5, л. 48 об.]
Уход в мир деревьев связан с чувством разочарования «в смертных», с желанием раствориться в родственном, соприродном царстве. [5: Впервые о теме деревьев см. : Ревзина О. Г. Тема деревьев в поэзии М. Цветаевой. // Труды по знаковым системам. Вып. ХV: Типология культуры. Взаимное воздействие культур. Тарту, 1982, c. 141—148. Дополненный вариант статьи: БЦ, с. 45—55.] После нескольких вариантов начала Цветаева записывает окончательный вариант 5 сентября, ровно месяц спустя после Сивиллы:
В смертных изверясь,
Зачароваться не тщусь.
В старческий вереск,
В среброскользящую сушь,
– Пусть моей тени
Славу трубят трубачи! —
В вереск-потери,
В вереск-сухие ручьи.
Лейтмотивом звучит тема духовной засухи, отрыва от жизни. В первоначальном тексте звучало признание в поэтическом несовершенстве: «Тихо изверясь / В слов <е> сказаться не тщусь». [6: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 5, л. 45 об.] «В смертных изверясь, / Зачароваться не тщусь», – признается она в окончательном тексте. Чтобы сбылись стихи, надо обязательно «зачароваться», влюбиться, поверить в чудо родной души. Во множестве смертных, не оправдавших надежд, мысль и о Пастернаке: со времени его первого письма прошло два месяца. Выбывшая из живых, Цветаева по-прежнему служит пещерой пастернаковскому дивному голосу, острей, чем раньше, чувствует свое сиротство, ведь теперь она знает, что Пастернак в Берлине, ощущает жизнь двоедушьем дружб и удушьем уродств. Дружба, которую она чаяла обрести, не сбывается, лирика умерла, ведь тот, кем она заворожена, не пишет. « – Пусть моей тени / Славу трубят трубачи!» – с горечью восклицает Цветаева, ощутив себя тенью, спустившейся в Аид. «Старческий вереск! / Голого камня нарост!» – таковы ее неживые, устремленные в небытие стихи, бесстрастные мысли бесстрастной души, а она так любила когда-то розовый вереск! Работая над первым четверостишием стихотворения, записала, но не использовала стихи о розовом вереске детства: «Тихо изверясь / В важность и нужность души, / В розовый вереск». [7: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 5, л. 45 об. Подробнее о вереске: Айзенштейн Е. О. СМЦ, гл. 3.] Вечнозеленый вереск, растущий на суровой, каменистой почве, становится образом конца надежд на любовь, образом Вечности:
Сняв и отринув
Клочья последней парчи —
В вереск-руины,
В вереск-сухие ручьи.
Подобно деревьям, сбрасывающим парчовое золото листьев, Цветаева дописывает последние, как ей кажется, стихи, жаждет раствориться в природе, смотрит «Ввысь, где рябина / Краше Давида-Царя! / В вереск-седины, / В вереск-сухие моря», забывает хотя бы на время о любви к новому «царю». Цветаева постоянно акцентирует внимание своих корреспондентов на том, что не любит моря: «На Океане я зритель: в театре: полулежа: в ложе. Пляж – партер. Люблю в театре только раёк (верх), т. е. горы, которых здесь нет. Кроме того, море либо устрашает, либо разнеживает. Море слишком похоже на любовь. Не люблю любви. (Сидеть и ждать, что она со мной сделает.) Люблю дружбу: гору» (8 июня 1926 г.) (МЦТ, с. 37) Ее «люблю» в данном случае просто попытка иерархии, а не отрицание морских красот. В этом утверждении, часто повторяемом, можно услышать настойчивость любви-вражды, слишком много в нем страсти и силы. В письме к Тесковой от 26—го декабря 1938 года читаем о тоске по Чехии, по Праге: «В Вашей стране собрано всё, что мне приходится собирать – и любить – врозь. А если у Вас нет моря – я его, руку на сердце положа, никогда не любила: не любила – больше всего, значит – не любила. (Читали ли Вы моего «Мой Пушкин» – там все: о море и мне.)» (ЦТ, 362). Получается, что Чехии для полноты счастья (жизни в ней или любви к ней) не хватает только моря. Значит, море всегда было все-таки неким соблазном, с которым Цветаева внутренне боролась. Она не любила море больше всего, то есть не могла его предпочесть, например, дереву, неуверенно плавала, мерзла в воде, но всегда старалась с детьми уехать на лето к морю или на океан. Поэтому ее «не люблю моря» немного лживое, хотя ей не надо было ни перед кем отчитываться. Протест против общепринятой страсти к морю? желание скрыть свою любовь? Само метафорическое словоупотребление «В вереск-сухие моря» заставляет предположить, что, возможно, она сама до конца не знала, как относиться к морю, и, возвращаясь к этой теме, пыталась убедить себя, что не любит воду. Был у нее и страх воды, шедший из детских снов и пушкинского «Утопленника». Вообще, в ее отношении к морю совершенно литературная, поэтическая, романтическая основа. Будучи «морской» по имени, она все время ощущала притяжение неба, где живут птицы, деревья и боги. Если оказаться на высоте, в мире деревьев, можно понять свои истинные чувства, узнать настоящую меру вещей. Там, в небе, рябина прекраснее поэта, прекраснее самого Давида-царя. Давид, в переводе с еврейского, – «возлюбленный», а высь, красота куста рябины и заката – способ забыть о Пастернаке, ибо в голос его арфы зачарованно вслушивается Цветаева.
Продолжением темы звучит стихотворение, написанное 8 сентября, «Когда обидой – опилась…». Мир природы оказывается спасательным кругом для разгневанной души, уставшей сражаться «с земными низостями дней», утомившейся от рыночного рева жизни – и от стихов:
Когда обидой – опилась
Душа разгневанная,
Когда семижды зареклась
Сражаться с демонами —
Вариант первого четверостишия содержал строки о Пегасе, уставшем сражаться с демонами – так определила Цветаева в тот момент свое творческое поражение перед явлением пастернаковского поэтического гения:
Когда обидой – опилась
Душа разгневанная,
Когда не выдержал / вскинется Пегас
Сражаться с демонами
[8: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 5, л. 47 об.]
Древесный мир – более вольный мир, в котором можно не быть, вглядываясь в рои зеленых отсветов, во множество различных оттенков цвета, погружаясь в трепещущий световой поток, «В живоплещущую ртуть / Листвы – пусть рушащейся!» В душе в этот момент сплетаются две нити, два мотива: Цветаева работала над поэмой «Молодец», а строки будущего цикла «Деревья» пишутся как раз перед превращением Маруси в цветок (деревце). Древесная жизнь – без границ жизни, «без прически», искажающей лицо. Простоволосость деревьев – подлинная духовная свобода, какой нет у поэта. Древесный лейтмотив звучит и 9 сентября 1922 года. «Купальщицами», «стаей нимф-охранительниц», всадницами, танцовщицами живописует Цветаева березки, стоящие в кругу:
Купальщицами, в легкий круг
Сбитыми, стаей
Нимф-охранительниц – и вдруг
Гривы взметая
В закинутости лбов и рук,
– Свиток развитый! —
В пляске кончающейся вдруг
Взмахом защиты —
Длинную руку на бедро…
Вытянув выю…
Березовое серебро,
Ручьи живые!
Как не совпадает творческое полотно с бытовым! После этого стихотворения помета в тетради: « (Несколько дней в Праге, поиски комнаты, переезд в другую деревню.)» [9: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 4, л. 85об.] Может быть, именно поэтому так необходимы деревья, чей хоровод – живительный, чистый источник древней мудрости (нимфы, в переводе с греческого, – «девы»), тайн жизни и смерти, исцеляющий и пророчащий, охраняющий вход в Царство Небесное. «Тело! Вот где я его люблю – в деревьях. Березы! Эвридики!» [10: ЗК, т. 2, с. 286.] читаем в записной книжке Цветаевой. Под действием дуновения вдохновения дверь в небеса иногда растворяется: деревья взметают «гривы» ввысь, закидывают лбы навстречу небу; раскручивают в стихах свиток души, а затем стесняются душевной обнаженности: свиток скручивается, пляска кончается «взмахом защиты». Как деревья в плаще листвы, поэты в стихах прячут души, а потом стоят, «вытянув выю», и ждут нового ветра вдохновения, зова небес. «Березовое серебро, / Ручьи живые!» – образ деревьев и несказанной бессмертной души поэта, недаром в стихотворении 17 сентября 1922 года Цветаева называет деревья «братственным сонмом»:
Други! Братственный сонм!
Вы, чьим взмахом сметен
След обиды земной.
Лес! – Элизиум мой!
Деревья – друзья небесного братства, Града Друзей, излечивающие душу от земных разочарований и страстей, Элизиума, блаженной страны. Людская жизнь поэта – «в громком таборе дружб», в непрестанной жажде чужой души, сменится когда-нибудь трезвостью ума, «тишайшим братством» того света: «В громком таборе дружб / Собутыльница душ / Кончу, трезвость избрав, / День – в тишайшем из братств». Цветаева мечтает «с топочущих стогн», с громогласных площадей жизни с земными страстями перенестись «в легкий жертвенный огнь / Рощ! В великий покой / Мхов!..», в совершенное бытие, которое ждет «над сбродом кривизн», в Вечности – мотив, напоминающий «Деревья» Н. С. Гумилева. Земная жизнь поэта – рабство, искалеченность, согнутость. Во весь рост душа может проявиться в мире правды, «там, где все во весь рост, / Там, где правда видней: / По ту сторону дней…». В черновой тетради – вариант последнего двустишия, от которого Цветаева отказалась, вероятно, потому что никогда не заботилась о том, чтобы быть видней:
Там, где Богу видней:
По ту сторону дней.
[11: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 7. л. 25.]
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе