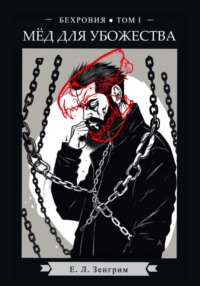Читать книгу: «Мёд для убожества. Бехровия. Том 1», страница 3
ГЛАВА 4. Бругожеле
Бруг. Рюень, 649 г. после Падения.
Город содрогается от жуткой трагедии! В минувшую ночь найдена мертвой глава церкви Упавшего – иерофантесса Гретхен фон Блау. Как сообщается, тело госп. фон Блау страшно изувечено, налицо насильственная смерть. Что это: очередной произвол т.н. «калековцев» или некое «бехровское лихо», поселившееся на наших улицах? Некролог и официальное заключение констеблей ожидайте в следующем выпуске.
Внимание, розыск! Вильхельм Хорцетц Кибельпотт, 30 лет. Прибыл вчера на маслорельсе из Преждер. Приземист, дороден, волосом рус и коротко стрижен, на лицо брит; всегда носит при себе нашейный платок и документ республиканского образца. За любые вести полагается щедрое вознаграждение! Обращаться к господинам Билхарту или Гелберту Кибельпоттам.
Вырезки из свежего номера еженедельной газеты
«Бехровский вестник»
Я сплю – но сплю без сновидений.
Раньше было иначе. Каждую ночь я выпадал в пульсирующий зал: гагатово-рубиновый, дымящийся, не имеющий стазиса. Порой там поджидала Шенна. Иногда ласковая, иногда донимающая, но чаще – просто скучающая Шенна встречает меня на своем подпаленном кресле, нетерпеливо покачивая ногой. Хмыкнув, она исчезает всполохом пламени – и появляется совсем близко, чтобы запалить иллюзорную папиросу.
Она поджигает, а я затягиваюсь. Так бывает порой. Но сегодня – не так.
Сегодня я в Глушоте, на своей проклятой родине. Снова помню ее запахи, серые краски, злые нравы.
А еще я помню, как убить тухляка. Хитрости тут никакой – нужно пробить сердце. Склизкое, вонючее, это сердце величиной с подгнивший кочан – да и сам тухляк не мал. Старики молвят, рост у него медвежий, но проверить никак: косолапые стали редки в Глушоте, когда еще отец мой сопел в люльке.
Оттого для меня тухляк – чудище больше жалобницы, но меньше гузнаря.
Тухляк жутко неуклюжий, еле перебирает ногами, пухлыми от гангрены. Часто валится наземь, сдирает кору с вековых стволов, а деревца помладше и вовсе выворачивает жирным пузом. Где он прошел – всюду сукровицей забрызгано. А уж пахнет она – хоть нос законопать.
Оттого разыскать тухляка несложно. Труднее, чем грыжича, но легче, чем псыжку.
Я приметил тухляка еще у берега. Отец часто говорил мне: «Глаза – бесовские стёкла, к смерти тебя приведут. А вот уши – это да! Уши таборян не подводят». Но больно уж шумна река Закланка: стылая вода топочет по камням, как целое стадо зобров; ничего не слышно. Зато пойма там голая, ржавая от жертвенной крови, что приносит вода с таборянского капища. Гиблое место: один жалкий кустик пробился, да и тот ниже пояса.
Всё от ворожбы полегло. Река теперь ядовита, зато чудищ отворачивает лучше любого частокола. Вот и тухляк мялся у самой воды, увязая по колено в красноватом иле. Что-то тянуло его на дальний, крутой берег, словно не все мозги еще размокли и пошли плесенью.
Инстинкты ли, воспоминания ли… Но однажды тухляк вдруг замер, обратившись к той стороне, и протяжно замычал. Зоб тухляка надувался и опадал, пузо колыхалось, но мычание его неслось куда-то далеко вперед – безнадежно и тоскливо, как последняя отчаянная песня. Уродливый плач по человеку, которым он сам когда-то был.
По человеку, который спутался с бесом. С ним спутаешься – себя потеряешь. А потерявши, не найдешь: станешь вечным скитальцем Глушотских чащоб. Таких прозвали заложными – узниками собственной плоти и бесовской прихоти.
Я присел поодаль. Работая рогатиной* как посохом, взобрался выше по берегу – там, где две мертвые сосны легли друг на дружку, обнявшись куцыми ветвями. За тухляка я не переживал: покуда так мычит, потерять его сложно, – но сам час встречи с ним ох как хотелось отложить.
Вот только отец смотрел на меня. Мерещилось, что он всегда приглядывает, когда хожу на дело – на охоту ли, проверить скотину или башмаки подковать… И сегодня отец смотрел во все глаза, чуял во все ноздри, слышал во все уши. Сегодня он сама чуткость. Ведь сегодня его сын станет разлучником – тем, кто разлучит тухляка с Глушотой.
Это раньше заложных можно было по пальцам пересчитать – мало их бродило по лесам. Тогда разлука считалась просто древним обрядом, и каждый таборёнок был должен разлучить по заложному. Без этого настоящим таборянином не стать. Порой заложных даже не хватало, и таборята грызлись меж собой за право стать разлучником – тем единственным, кто добьет страдающую тварь.
Раньше, если заложного не разлучишь или разлучишь погано, таборёнка сам родитель и кончал – шорным ножичком да по горлу. А если медлишь или повернешь назад, из зарослей прилетит батина сулица*. Увернулся – молодец. Значит, это сигнал тебе: «будь расторопнее».
А поймал сулицу спиной – поделом.
«Таборянам слабаки без надобности», – часто говорил отец. Теперь заложных плодилось всё больше с каждым годом, а таборян – нет. Глушота стала скудна на дичь, а таборы бесконечно рубились – с южаками или друг с другом, кто под руку подвернется. Наконец, таборы поголовно плюнули и на разлуку, и на разлучников. Принесет таборёнок сердце заложного или кудрявую башку южака – не всё ли равно? Но отец верен традициям. Иная шавка, беззубая от старости, за всё свое житье не знала такой верности.
И вот отец приказал, чтоб я разлучил тухляка.
Он не предупреждал, что пойдет по пятам, – но он ни о чем никогда не предупреждал. Это у других батьки. А у меня отец. Его-то сулица хорошенько заточена.
Я примял под соснами сухую хвою, вытряхнул пожитки из долгой сумы. Средь скарба: полупустых склянок, тряпья и мотков шпагата, – нащупал оселок*. Хоть я и заточил рогатину еще в таборе, тревога не отпускала до сих пор. «Доведи лезвие», – твердила она накуренным голосом отца, – «вставь рожон». И я был послушен, тихонько шкрябал перо рогатины, лавролистное и холодное. А после ввинтил рожон – узкую железную поперечину – в ушко под самым наконечником.
Потом сгреб пожитки в кучу да так и оставил между сосенок. Разлучу – тогда вернусь. Только прихватил мано́к на шнурке и рогатину. Тяжесть ясеневого древка, длиной с меня самого, была знакома рукам. Мои ладони дружны с рогатиной: не счесть, сколько раз на них выступали мозоли; сколько рвались и кровили – тоже. Мясо под содранной кожей было красноватое и жглось, стоило только что-нибудь задеть. Но отец снова и снова всучивал мне рогатину.
И вот спустя годы ладони зарубцевались. Пожелтели как старый пергамент. Кажется, они приняли форму древка – будто какой-то кожевник насилу их подогнал как чехол.
Проворно взбежав на бровку холма, я осмотрелся. Выцепил глазом тухляка – далеко он не ушел, только взбаламутил воду у края Закланки. Я вдохнул глубоко, забрав в легкие запах чащи, горьковатый от смолы и чуточку сладкий от тухлячьих ран. Зажал манок меж губ…
И густо выдохнул. Мой выдох преобразился в манке и истошным женским визгом прокатился по берегу. Разбередил стайку птиц в верхушках мертвых деревьев, вспугнул одинокого зайца… Но главное – никакого больше мычания.
Сердце мое заколотилось. А сердце тухляка, склизкое и вонючее, радостно ухнуло.
Заложный обернулся резко, будто его позвали по имени. И, готов поклясться всем своим жестоким родом, наши взгляды встретились. Мои черные таборянские глаза и его – мертвецки белесые. С полминуты он пялился на меня, не мигая, а после подался брюхом вперед – и кинулся навстречу.
С рогатиной наперевес я рванул обратно. Бежал что есть мочи сквозь лес, отбиваясь от веток и получая сдачу в лицо. Паутина лезла в рот, а сверху сыпалась труха, от которой чесалось под воротником. Я отплевывался, ежился, но шага не сбавил. Ведь слышал, чуял, видел тяжелую поступь тухляка.
За худобу и юркость отец прозвал меня хорьком. Не из ласки, а в пренебрежении.
Что ж, ноги у меня и правда быстрые. Но тухляк быстрее.
Сапоги слегка утопали в мокрой земле. Почва здесь сплошь гниль да песок. Сверху вязко от дождей и тумана, а снизу рыхло. Догонит прямо здесь – и мне несдобровать. Закрепиться негде, сметет и не заметит. Втопчет в песок, раздавит, обглодает лицо, а кишки с перегноем смешает.
Затормозил я так скоро, что полетели комья земли. На пути серой стеной пролег ветровал, ощерившись острогами переломанных сучьев. Я ругнулся на родном наречии. Грязно ругнулся – совсем как отец, когда отчитывал меня перед печью.
Я весь покрылся холодным потом, мысли судорожно метались. Тухляк неотвратимо пер ко мне, потрясая тучным животом. Приближаясь, тухляк всё рос и рос, и когда его туша заслонила тусклое глушотское солнце, я понял – шанс у меня всего один. Тогда я закусил губу, крепче перехватил древко и встал в позу. Левое плечо вперед, острие рогатины – к носку сапога.
Тухляк же остановился в трех копьях от меня и выжидающе захрипел. Поглядел на меня выпученными глазками, а опухшей пятерней почесал брюхо – совсем по-человечески, как бы неуверенно.
В складках шеи, сливовой от застоявшейся крови, что-то железно блеснуло. Двузубая вилочка на ремне. Южаков оберег.
Я тряхнул рогатиной, присвистнул, вынуждая тухляка пойти ко мне. Он послушно заковылял… И вновь замер – теперь в двух копьях.
– Дош-ш-ш-кх!
Утробный звук, от которого немели пальцы, прошел через его брюхо и с гноем вытек из пасти. Тухляк переступил с ноги на ногу, почесался опять.
– Дош-шка!
Широко расставив руки, как для объятия, заложный подался вперед. Меня замутило.
– Пхапа до-о-ома…
Тухляк припустил ко мне, но мертвые руки захлопнулись, так и не найдя добычи – я вовремя отпрыгнул вправо. Я быстро, коротко ткнул рогатиной, целясь ему под лопатку. Ладони ощутили, как наконечник чиркнул по кости, мягко вошел в плоть до самого рожна. Потянул на себя – и сталь вновь обнажилась, липкая от порченой крови.
Тухляк обернулся, непонимающе сунул пальцы под мышку. Оттуда сгустками валила гниль. Я опять встал в позу. С опущенного острия капало.
– Ну! – не выдержал я. – Давай, пса крев!
А он припал на четвереньки и завыл – как тогда у берега Закланки, тоскливо и безнадежно. Гной, сочившийся из глазниц, напомнил слезы, хотя я точно знал: заложные не плачут. Мне всё же стало жаль тухляка: появилось чувство, что убивать его не за что… Он был обманут бесом, он страдал, он не хотел драки. За что его разлучать?
– До-о-о-о-ощка…
Бедная тварь, перестань же выть. Рычи как гузнарь! Смейся как грыжич!
Только не вой ты. Не так по-человечески.
Тухляк гнил заживо, давился собственным гнильем, когда выл, и гнильём же разило из его пасти. От вони у меня заслезились глаза, и я сменил хват, чтоб утереть веки.
И тухляк увидел это. Рванул на меня в упор – прытко как дикая свинья, норовя протаранить склизким рылом. Хватился я скоро, но недостаточно. От удара было не уйти – хватит времени лишь вскинуть оружие, упереться пяткой в поваленный ствол…
Раздутой грудью тухляк налетел на рогатину, и что-то хрустнуло у него внутри, надломилось на самом острие. Он заметался, но не повис на рожне, как повис бы волк или рысь, а стал теснить назад.
Почва поползла подо мной, предательски слетела кора, и ноги потеряли опору. Я рухнул в самую гущу бурелома, колючего от сучьев. Обрубки веток полоснули одежду, воткнулись в кожу и где-то вошли еще глубже. От боли в глазах стало по-настоящему мокро, и я только и мог, что из последних сил сжимать рогатину.
Черная кровь текла по древку, смазкой пачкала руки так, что натертое дерево скользило меж пальцев, выкручиваясь угрём. Повезло, что древко застряло намертво – между стволов где-то подо мной. Но тухляк не унимался: слепо молотил лапами по сторонам, с треском сминал ветки там, где могла бы быть моя голова. Темные человеческие зубы клацали наверху, будто уже нашли мягкие хрящики моего лица. Заложный напирал, нанизанный на рогатину, и бурелом скрипел под нашим весом.
– Пхапа пишов, – булькнул тухляк и надавил сильнее.
Рогатина застонала, рискуя сломаться пополам. Я испугался. Так испугался, что оцепенел, не в силах предпринять хоть малость. Вдруг грудина твари хрустнула, ребра разошлись на месте раны, и рожон исчез в ее внутренностях. Рогатина прошла насквозь.
Дутая туша придавила меня, впечатала в дерево, обняв холодным мясным мешком. Она упала сверху. Мертвая. Теперь-то мертвая окончательно. Из хребта чудища торчал конец рогатины – с вонючим, больше кочана сердцем, оставшимся на рожне. Оно отстучало еще дважды, тюк-тюк, пока не остановилось совсем… И последним, что я увидел, была печальная харя тухляка.
Я с трудом повернул к ней лицо. Не знаю зачем – лицо повернулось само, будто так положено. Поймал на себе взгляд белесых зрачков, покрытых чем-то вроде молочной пенки. И к ужасу своему понял, что лицо мне знакомо.
Пышная коса на макушке, высокий лоб с насупленными бровями. Жестокие губы в рамке вислых усов и бороды, росшей диким кустом. Волосы у тухляка чернющие, как ночь. Даже смолистые.
Такой окрас еще бывает у котов – шерсть словно блестит. У котов и у меня. А еще – у моего отца.
Тухляк разлепил жестокие губы, накурено пробасил:
– Погано разлучил, правда?
Я почувствовал, как к горлу прижался шорный нож. Меня парализовало – от тяжести трупа, от вязкой крови, от жути происходящего. Но больше всего – от встречи с отцом.
– Скажи по секрету, хорёк…
Отец тихо рассмеялся – как если б не хотел, чтобы нас подслушали.
– Скучаешь по папке?
Ответом ему стал крик, на куски разорвавший Глушоту. Мой крик – что выцепил Бруга из узилища сна.
***
Здесь почти не пахнет. Казалось бы, лучше уж так, чем какой-нибудь противный душок… Но тут просто обязано пахнуть, притом не лучшим образом.
Ведь мое убежище – сырой кирпичный ящик.
Окон в нем не найдешь, а масел-лампа над головой – единственный источник света. Абажур, бестолковый стеклянный шар, знавал и лучшие времена. И теперь он весь, кроме небольшого островка, покрыт жирным слоем нагара. Боюсь, на очистку уйдет обильно спирта и не одна тряпка – а может, одна уже и ушла: чтобы отмыть тот прозрачный ныне кусочек… После чего, видать, уборщик это дело бросил.
Зато лампа вертится. Ее свет, ускользая сквозь чистую форточку абажура, выхватывает из темноты то один клок моего убежища, то другой.
Когда-то я вижу корыто в углу, вросшее в глинобитный пол, когда-то еще – трубу под самым потолком. От нее по кирпичам – грибок, такой густой, что даже темный. Крадется вниз липким тихим пауком, раскинув лапки между кирпичей.
Если особенно везет, можно разглядеть дверь напротив моей койки. Дверь дверью – простая, деревянная, подернута ржавчиной там, где кто-то наспех простучал ее гвоздями. Но широкая, как амбарные ворота.
Ладно, хватит на сегодня наблюдений. По-моему, я и так неприлично наблюдателен для того, кто проснулся в сыром подвальчике, лежа на несвежем соломенном тюфяке… Но вот абажур хорош. Если выберусь отсюда, заберу себе.
Кстати, здесь ничем не пахнет.
А ведь от корыта должно нести стоячей водой, равно как затхло, землисто пахнет плесень. Тюфяк же – сочетание подгнившей соломы с ноткой мышиных экскрементов. Но вот беда – не чую. Нос дышит исправно, а воздух безвкусен.
Зато цепь со мной. Только это не Цепь, а цепь! Только-то размер буквы, а сколько смысла. Цепь с маленькой буквы начинается в моем ошейнике, а заканчивается в стене. У цепи с маленькой буквы там вколочен здоровенный штырь, что никак не вырвать из кладки голыми руками.
Правда, есть одна хорошая новость: меня подлатали.
Где раньше дымился безобразный узел плоти, теперь желтеют бинты. Тонкие и протертые, их кипятили не раз – и не единожды пользовали.
С каких пор меня нужно бинтовать? Пьяные переломы, бесовы укусы, рваный поцелуй клевца, небрежный росчерк ножа – на мне всегда всё заживало, как на самой вредной дворняге. Но этот город удивил в самый день приезда, харкнув жижей, которую я ожидал лишь услышать – бурлящей в котлах маслорельса. Теперь, когда я думаю о ней, в горле встает ком – и я впервые не хочу приподнять бинты и поглядеть на свои болячки. Раньше мне нравилось корябать запекшуюся кровь, а прилипшую к ранам одежду я отдирал с возбуждением юного натуралиста. Порезы, не успевшие зажить, сминал пальцами, пока не становилось липко. Это казалось… Занятным?
Я словно говорил себе: Бруг, тебе не страшен никакой недуг! И новая боль напоминала о боли старой – той, что давно зарубцевалась, но не скоро пройдет.
Но масла нужно сторониться. Я стану аккуратнее, не буду бросаться напролом. Превращусь в тварь такую хитрую, какую этот город еще не видел. А главное – достану ублюдка, который сделал это со мной. Я запомнил твой голос, «гадость евонная». И в следующую встречу масло будешь жрать уже ты. Будешь лакать его, пока язык не прикипит к нёбу, а потом…
– Доброе утро, убожество!
От удивления чуть не кувыркаюсь с тюфяка. Упасть не дает ошейник, больно сдавивший кадык. Кое-как мне удается сохранить равновесие, но эти потуги выстрелом отдаются под бинтами. В глазах на секунду меркнет.
– Что, очнулся? – неприлично высокий голос. Бряк захлопнутой двери.
Опершись о влажную стену, я жду благосклонности абажура – и, о Пра, он балует меня. В свете масел-лампы я вижу девчонку. Ту самую, из Прибехровья. Ростом пять футов с половиной, сложена тонко, но атлетично – как степная лисица. Тембр – тоже от нее, да и взгляд такой же въедливый. Того и гляди цапнет за палец, только сунь.
– А что, – скалюсь я, – это твоя койка? Прости, что занял, да меня как-то не спросили.
Девчонка подходит ближе, и я бегло изучаю ее с ног до головы. Простецкие сапожки, а выше – бриджи, прикрытые домотканой рубахой. Шнуровка на груди – ха, было б что скрывать! Рубаха сидит свободно, будто слегка велика, и справа задрана небрежно – там, где к поясу приторочен плотный круг кнута. Плетеный из кожи, с узким блестящим хлыстом, он не похож на нагайку моего отца. Но сам вид его навевает воспоминания.
– Какое разговорчивое убожество, – фыркает девка, собирая волосы на затылке в узел. Они у нее цвета пшеницы в инее. – Что, мало получил? Еще хочешь?
Длинная шея, злое бледное личико в россыпи веснушек. Косая челка, спадающая на один глаз, добавляет ее виду дерзости.
– Нет, это точно твоя койка, – закидываю руки за голову, смотря на нее снизу-вверх. – Иначе на кой здесь цепь, если не держать такую маленькую дрянь?
– Я бы плюнула тебе в лицо, но не хочу запачкать матрас Хорхи, – она морщит нос. – Хотя и так и так его придется менять: уж насквозь провонял твоей грязной, немытой…
– Давай-ка без оскорблений, подруга? Мы же только начинаем дружить!
– Завались, убожество.
– Ого.
– Съел? Ничего больше не ответишь? – ее серо-голубые глаза превращаются в щелки.
– Не-а. Просто заносил тебя в список.
– Что за список? – склоняет голову на бок, и я замечаю, как из пшеничного узла выбивается локон.
– Мой список недотраханных сук.
Разворот, щелчок. Я еле успеваю вскинуть руку – и кнут обжигает предплечье ядовитой многоножкой. Кожаный кончик пролетает у самого уха – цепь гремит, ошейник душит, а я падаю на бок.
– Надо было дать тебе сдохнуть.
И прежде чем я успеваю растереть место удара, башмаки отстукивают прощальный ритм. Створка ворот скребет по полу и захлопывается наглухо. Гневная перепалка с той стороны, звуки возни, лязг засова… О, мы определенно нашли общий язык.
Кроме бинтов и портков на мне – только нищая нагота. Но разве это повод вот так меня бросать? Да, мог быть и почище – но разве я виноват, что здесь нет банного дня? Сволочи. Даже роялистам Ржавска позволяли подмыться, пока республиканцы пересчитывали гвозди, чтоб вколотить им промеж глаз.
Обидно, что я хлебнул достаточно лиха уже до Бехровии, а попался – вот паскуда! – в Бехровии самой. Кордоны Республики, карательные отряды некнягов, толпы беженцев из Предгорных княжеств, которые теперь – лишь муравейник, разворошенный палкой Комитета… Всюду я протиснулся, везде прогрыз дорогу. И только для того, чтобы застрять в подвальчике на потеху дуре с плёткой?
Черта с два. Я задницу рвал, идя по следу. Убивал и мучил, чтобы выловить билет на этот маслорельс. Душил и пинал, чтобы выбить документы на въезд – привет, Вилли, как ты там? И здесь я тоже не сгнию. Пусть даже в сраной Бехровии не хватит надгробий на всех жертв Бруга.
Молвят, хорь – самое страшное животное. Мол, по ночам он влезает коровам в гузно и хладнокровно жрет их наживую, выедая путь наружу. Правда это или байка – мне до одного места, однако Бруга тоже зовут хорем. Хорем Ночи, если уж сохранять зловещий ореол мистики.
Итак, пройдемся по хорьковому плану. Шаг номер раз: оказаться в гузне – готово. Шаг номер два: выесть дорогу – в процессе. И шаг номер три – найти неблагодарную сволочовку, сбежавшую от меня…
Новый лязг за дверью. Я сажусь на корточки, не отрывая пяток от тюфяка. Мои ноги слегка напружинены, а под бинтами покалывает. Неужели снова девка с кнутом?
Но входит не она. В обоих моих посетителях есть нечто похожее, но этот второй – паренёк. Щеголь, одетый в приталенную оливковую курточку, под которой чернеют модные узкие шоссы и туфли из фальшивой замши. Тот самый щеголь, что гнал мою Цепь шпагой. Ох, Шенна ему этого не простит. Кстати, а где она?
– Эй, приятель.
Он то ли не ожидал увидеть меня в бодрости, то ли думал о чем-то своем – вздрагивает и широко раскрывает глаза, заслышав мой оклик. При этом в руках у него железно брякает.
– Это что, ведро? – присматриваюсь. – Заставите жрать из него, как домашний скот?
Мимика парня – небольшое цирковое представление. Его удивление исчезает, разрез глаз сужается до нормы – и только приподнятая бровь выдает недоумение. Затем он нарочито строго глядит на ведро, а после переводит взгляд на меня. И взгляд его – взгляд старца, глубоко преисполненного пониманием мира.
– Тебе, дядя, чтобы поесть отсюда, сначала самому придется потрудиться.
А потом он задыхается от смеха. Я смиренно жду, когда пройдоха перестанет краснеть, брызгать слезами и отрывисто дышать. У пацана острые скулы и небольшой треугольный подбородок, а волосы – кудрявая шапка цвета ячменного вина, коричнево-золотистая. И снова на щеках – знакомые веснушки.
– Ты всё? – проверяю я. – Отсмеялся?
– Ну ты понял? – утирает остатки шутки из уголков глаз. – Понял же, зачем тебе ведро принес? Это чтобы вашей милости было где срать!
– Моей милости? – хмыкаю. – А ты у нас кто такой смешной? Домашний комедиант?
– Коме-кто? – парень ставит ведро на пол вверх дном и присаживается как на табурет. – Не, я Лих. Присматривать за тобой буду типа. Так-то сестра должна, но она у меня дурастая – в край отказалась тебе ведро носить. Дед Строжка говорит, она такая стерва оттого, что ей желтая желчь в голову ударяет, ну и…
Когда я думаю о жидкостях человеческого тела, живот предательски урчит.
– …дед, конечно, не зовет ее прямо так «стервой», но все ж понимают, что она…
– Погоди, Лих, – перебиваю. – Раз ты теперь за мной «присматриваешь» – жрать-то дашь?
– Ты уж извиняй, но Строжка запретил тебя кормить, – Лих упирает руки в колени. – Сказал, у тебя там порваться всё может, и что-то в брюхо протечет… Что протечет – не понял.
– Да кто такой этот твой Строжка?! – теряю терпение. Меня коробит от одной мысли, что там за воротами контролируют мой паек и решают, когда Бругу разрешено есть, а когда нет.
– Ну-у, Строжка – это дед… – Лих задумчиво поднимает глаза к абажуру. – То есть он не прямо наш с Вилкой дед-дед, а просто старый. Он у нас в цеху типа за врача: кости вправит, порез подлатает, если надо. Он и тебя подлатал, пока ты тут под жмых-жижей валялся… – парня передергивает. – Ты уже чуешь запахи, кстати?
– Куда там… – мой нос сопит в подтверждение.
Когда долго куришь папиросы, однажды замечаешь, что берет тебя уже слабее. Начинаешь курить по две за раз – но эффект уже не тот: вторая папироска не успокаивает, а делает только гаже во рту и горле.
Кто-то делает перерывы – мол, после завязки курится как впервинку. Кто-то переходит на трубку… Но трубка, по мне, – гигантская морока. Ее сначала правильно забей, потом раскури. А в конце трубку надо еще и почистить....
Есть еще жмых-жижа. Жижа она, потому что с виду – грязь цвета сажи. Жмых – потому что жмыхает. Да так иной раз жмыхнет, что голова кружится и колени не держат. А главное, проста как палка. Достал флакончик, откупорил, выдавил на ладонь жирную черную гусеницу – и вмазывай скорее в дёсны и ноздри.
Но вот обоняние отшибает насмерть. К счастью, не навсегда.
– Поганый врач твой Строжка, – подытоживаю я. – Где это видано, чтоб под жижей людей штопали?
– Где, где… – Лих фыркает. – В Прибехровье – везде. Это раньше мак был, а ныне не достать его с тех пор, как респы… Ну, республиканцы в Княжества вошли. Болтают, нескоро еще торгаши к нам с Запада потянутся. Выжимку багульника еще можно откопать, но вот цена…
– На Запад теперь дороги нет, – не люблю я обнадеживать. – Бывал в Кукушни́це? Шумный городок: всего десять вёрст до границы, так что лавок и базаров там – тысяча. А красивых девок, водки и веселья – десять тысяч…
– «Приезжай-ка в Кукушни́цу, чтоб примерить рукавицы»! – подскакивает Лих, брякнув ведром. – Точно, в песне какой-то дорожной было…
– Ага, «заворачивай в Вареник, присмотри жене передник», – киваю я. – Нет там теперь ничего. Вареник сожгли в первый день войны, а от Кукушницы оставили перекопанный пустырь. Дома же по бревнам раскатали и свалили в огроменный вал, кольев вдоль натыкали… а на кольях – знаешь что?
– Э-э, флаги?
– Ну да. Длинные и короткие. Гладкие и морщинистые. Из кожи сделаны – тех бедолаг, что границу думали перемахнуть.
– Курва… – морщится Лих. – Понятно, отчего столько предгорцев к нам валит.
– Еще бы, – сплевываю. – Это раньше некняги там крепостными были. А как Республика руки развязала – зверствовать стали похлеще хозяев.
– Откуда так шаришь, дядя? Жил там? Говоришь ты не как предгорец.
– В тюремной яме наслушался, – нехотя поясняю я. – После того, как в Кукушнице поймали.
– За мародерство? Разбой? Или как у нас – людей порезал?
– В этих вещах я, может, и мастак, но нет, не угадал. Попался разведотряду респов у самых Преждер. За языка меня приняли.
– Ты, что ли, тоже от войны бежал?
– Нет, – обрубаю резко. – На войну мне всё равно. Это от меня убежали.
– Понял. А ты, значит, типа, догоняешь?
– Догонял!
Тело мое дико рвется вперед – так, что цепь гудит. Лих вздрагивает, взгляд его устремлен к двери.
– Я догонял, слышишь?!
Сволочовка убегает всё дальше, прячется всё лучше. Но главное – продолжает тонуть в моей памяти. Нет ничего коварнее разлуки. Каждый новый день мне кажется, что я помню чуть меньше о той, которую поклялся отыскать. Раньше Шенна помогала освежить образы – но где она теперь?
– Ты это, – прокашливается Лих, – притормози, дурастый. Деваться тебе всё равно некуда: эта железка у тебя на шее и свинуша удержит.
– Выпусти меня, а? – собственные слова кажутся мне чужими. – Чего тебе моя неволя? Тебе б гулять, куролесить с бехровскими кокотками… А ты меня пасешь как овцу! Уж лучше дай мне уйти, парень. Свяжешься со мной – взвоешь. Это я по-дружески тебе…
– Да если б и мог, что с того? – Лих со вздохом встает, пинком подтолкнув ко мне ведро. – Ключа от ошейника у меня нету, а на воротах, с той вон стороны, Хорха стоит. Высунешь нос наружу, и он тебя по лестнице размажет. Я не шучу, дядя.
– Щенок, – цежу я. – Ты еще пожалеешь.
Лих, прислонившись к двери спиной, дважды ударяет по ней пяткой.
– Щенок не щенок, но тебе отсюда не смазать. И не глупи, ладненько? А то чуть только жмур в карцере, – он вздыхает, – так все заняты! Типа некому, кроме Лиха, жмуров выносить, понял?
Грохот двери – и мой новый знакомец ловко протискивается в проем.
– Бывай там, – бросает он напоследок. – Авось мастер к тебе забежит или Строжка… Или нет.
– Постой! – вспоминаю вдруг. – Цепь моя где?!
Отвечают мне лязгом засова.
И снова я в одиночестве. После республиканских казематов я почти забыл, каково это – сидеть в четырех стенах. Ведь стоило бежать из Глушоты, и вся жизнь превратилась в одно длинное скитание. В бесконечную охоту за призраком прошлого.
Но у всех охотников случаются голодные недели.
***
Я просыпаюсь снова – от внезапного приступа удушья.
Нос словно заложило, а глотку разъедает холодным. Пытаюсь сглотнуть, но делаю только хуже: едкий ком стекает по горлу, и на глазах выступают слезы. В подвале отчего-то очень светло, но зрение меня подводит: всё вокруг предательски нечеткое, будто смотришь из-под воды.
– Строжка, мать твою, – раздается женский контральто. – Почему он в сознании?
– Видать, доза не та, – трещит неисправно и старчески. – Резистентность у него скачет ого-го… Ситуация для беса, кхем, стрессовая, вот он и привык к жиже.
– На вторые сутки привык?! – досадует женщина. – А предусмотреть нельзя было?
– Дык они все разные, бесы эти окаянные. Не угадаешь, мастер.
Сжавшись червяком, я опрокидываюсь на бок – чтобы выхаркать черный сгусток.
Что-то выплюнуть удается, но остатки налипают на небо и застревают в зубах. Язык вяжет до онемения.
– Да уймись ты! – меня поворачивают обратно. – Строжка, раз «доза не та», то когда его отпустит?
– Дык уже отпускает, – заверяет треск. – Ты не волнуйся-то так, Таби. У него швы за две ночи затянулись, а тут жижа какая-то… Пфе! Так кудахчешь, будто поганец сляди хлебнул и вот-вот богам душу отдаст.
– Я волнуюсь не за него, а за то время, которое летит Хрему в одно место, – обрубает контральто. – Сам знаешь, каковы дела у цеха…
Мне и правда становится лучше. Хоть нос и стянуло коркой, а горло жжет, я неуклюже сажусь на тюфяке.
– Ба! Оклемался, – трещит старик.
– Не прошло и года, – выдыхает контральто. – Живучая же скотина.
– Какого черта вы делаете? – выхрипываю я, только-только проморгавшись.
– Какого-какого… – ворчит обладатель неисправного голоса. – Штопаем тебя непутевого.
Передо мной двое. На карликовой табуретке – скрюченный годами старик. Глаза у него выцвело-безучастные, глубоко утопленные в череп, а нос крючковатый, с вмятиной на переносице. Вмятина, видно, от тех очков, что он рассеянно протирает платком.
– Вот же задачку ты мне задал, бедолага, – голосом он похож на сломанный механизм: того и гляди треснет, заплюет искрами. Но от челюсти, скошенной набок, исходит только аптечный запашок. – От масла-то обыкновенно калеками остаются. Но Строжка не промах, хе-хе! Есть, сталбыть, еще бальзам в бальзамнике…
Другой мой гость – это гостья. Женщина средних лет. Крепко сбитая, рослая, она напоминает гранитную стелу. И серый костюм мужского кроя только прибавляет ей некой непробиваемости.
– Отставить треп, Строжка, – она скрещивает руки на груди, и серое сукно рукавов плотно облепляет мускулы; могучая баба. – Я тебя не для болтовни подняла.
Старик отвечает неразборчивым бормотанием, а женщина принимается за меня.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе