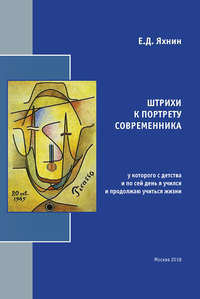Читать книгу: «Штрихи к портрету современника, у которого с детства и по сей день я учился и продолжаю учиться жизни», страница 2
Она рассказала мне, как однажды её старая подруга спросила: «А вы часто ругаетесь?» – и, услышав, что никогда, очень удивилась – «Неужели у вас не бывает поводов для ссор?» Люба объяснила ей, что Евгений Давыдович не умеет ругаться и вообще с ним невозможно поссориться. Это, конечно, неверно. Ругаться я умею, но только про себя, и потом, я ругаюсь лишь когда выхожу из себя и только в случае хамства. Ко всему могу относиться спокойно, философски, но хамства не переношу, оно может меня вывести из строя надолго.
Меня поражала её терпимость ко всему, что бы я ни сделал. Купил сдуру что-нибудь совершенно лишнее, принес домой и слышу: «Вот и хорошо, пригодится, пойдет в дело», а не вроде – «Ну зачем ты эту дрянь принёс? Что я с ней буду делать?». Что бы я ни сотворил дома, всё к месту, всё хорошо. И дело не в том, что «умна баба», дело в исключительной уважительности друг к другу. Впрочем, когда я постарел и стал часто забывать что-нибудь сделать, она порой не удерживалась от замечаний, а я сердился. Да, она уставала, и её обижала моя «невнимательность», а я сердился (умею сердиться), дулся на неё, бывало. Но никогда, ни насколечко это не разрушало нашего счастья. В ряде телевизионных передач с упоением рассказывали о «великой» любви «великих» мира сего (И. Тургенев и П. Виардо, Х. Перон и его супруга Э. Перон, С. Дали и его муза и спутница жизни Гала и ещё, и ещё…). Думаю, наша любовь, другая, конечно, но не меньше, и мне приятно считать, что для нас она была единственная и бесконечная.
Мы были одним целым, но не теряли себя друг в друге. Музыка была нашей общей любовью, при этом я меломан-классик, она всеядна, любила эстраду, помнила все песни молодости и с удовольствием их пела. Путешествия нам обоим были необходимы, театр – также обоим, но ей больше, при этом она наслаждалась литературой о театре, об известных артистах, о царственных персонах и их жизни, я ко всему сему практически равнодушен. Последнее время пристрастилась к экскурсиям по памятным местам Москвы и Подмосковья, я ленился. Если куда-то надо идти, она ухитрялась строго оформлять мою внешность. Я сопротивлялся, но уступал и надевал полагающуюся «фешенебельную» рубашку, облачался в костюм, чтобы «комильфо», и превращался в собственный портрет в рамке. Сопротивлялся, но, в конце концов, подчинялся, и получалось, вроде бы, то, что надо. Не допускала, чтобы я куда-нибудь пошел без подарка.
Я гордился ею, она гордилась мною. Пишу, она – первый читатель, придирчивый, критичный и всегда в точку. Без неё, вероятно, я ничего бы не написал. Она была моей хранительницей, жизненной необходимостью. Без неё после перестроечного краха моего института я бы зачах.
При встречах с моими родственниками, при знакомствах с моими давними друзьями она никогда не выглядела приложением к мужу, ни в коей мере, она сразу становилась вровень со всеми, а порой – выделялась, привлекала внимание и как собеседник, и как человек. На Волге под Рыбинском очень серьёзные дамы, старейшины-основательницы идеи летнего отдыха в Коприно никого не приглашали на свой девичник, а её сразу притянули, зазвали, признали за свою. Широтой души она привлекала. Моим приложением ей быть не приходилось. А я однажды был – приехали в Дубну, она помогала типографии ОИЯИ освоить новую полиграфическую технологию, при регистрации в гостинице записали: «мадам Сулакова и её муж…».
В мае 2005 года мы предполагали отметить её 68-летие. Она постепенно приходила в себя после тяжелейшей операции. Если кому-либо потребовалось бы убедиться в природной естественности нашей жизни и безусловном отсутствии вмешательства бога в нашу судьбу, то её пример для этого был бы абсолютен. Никакой бог не мог бы подвергнуть эту женщину таким испытаниям, которые ей пришлось пережить. Кто-кто, а она, моя Люба, ни в малейшей степени не могла заслужить такой кары. В очередной раз она преодолела себя и всё, что только возможно. Мы были снова вместе.
Сейчас 2015 год и я пишу это в прошедшем времени, начал же писать о ней в 2005 году. Вечером 19-го апреля, когда она после двух с половиной месяцев больницы первый день дома сидит на диване, разговаривает по телефону с подругой, а я, заканчивая эти строки о самом дорогом для меня человеке, думал, что ставлю точку.
Горько, но оказалось, что то была лишь запятая. Судьба, которой мы не смогли противостоять, поставила свою точку уже в августе.
Я пробежал по прошедшим годам и подумал: «Что же в ней, моей Любе, было главным?». И понял: главным в ней была удивительная духовная щедрость, подобной которой в других людях я не встречал. Она дарила всем окружающим возможность счастья, а мне – больше четверти века – новую, замечательную жизнь.
Николай Николаевич Семенов
Академик, нобелевский лауреат, директор Института химической физики Академии наук
В тот год Москва река разлилась. У поселка Луцино, что под Звенигородом, вода поднялась метров на 5, может и больше. Когда вода спала, можно было пройти по берегу. Небольшая компания взрослых и детей шла по узкой полоске обнажившегося косогора под заросшей кривыми деревьями и кустарником пятнадцатиметровой кручей правого берега. Кое-где земля, ещё насыщенная влагой, хлюпала под ногами. Дваакадемика Николай Николаевич Семенов и Александр Наумович Фрумкин, как всегда на прогулке, увлеченно беседовали. Дети затеяли какую-то игру и бегали вдоль растянувшейся компании, громко подразнивая друг друга. Все были наполнены солнцем и пряными запахами, сотворенными отступившей водой. Моего младшего сына, Сережу, я нес на плечах, крепко держа его за ноги. Неожиданно Валя, мама Сережи заметила, что на одной ноге у нашего сына нет сандалии.

Н.Н. Семенов
– Ты где потерял сандалику? – спросила Валя.
Он помотал ножкой и сказал:
– Там.
– Где там? – попытались выяснить мы.
– Там.
Я вернулся на несколько шагов назад.
Валя остановилась. Женщины заметили нашу заминку. Поняв в чем дело, посокрушались и решили, что, вряд ли, маленькую сандалику можно найти, прошли-то уже не меньше километра. Семенов и Фрумкин повернулись, ожидая чуть приотставшую компанию. Александр Наумович прикрыл глаза рукой, защищаясь от солнца, Николай Николаевич стал выяснять причину задержки. Узнав о потере, он тут же заявил, что надо искать. Женщины попробовали убедить его в бесполезности поисков, но он повернулся и отправился назад, внимательно оглядывая тропинки. Он приступил к поиску сандалии настолько решительно, что за ним пошли и другие. Я шел метрах в пяти правее Николая Николаевича, казалось, что надо искать ближе к косогору и хотелось самому, первым её обнаружить. Прошли метров двести и вдруг слышу:
– Вот она, – он победно поднял найденную сандалику, подошел и надел её на босую ножку Сережи, по-прежнему сидевшему у меня на плечах. Все обрадовались, можно было снова идти дальше. Александр Наумович ожидал задержавшуюся компанию, отойдя в тень нависавшей над берегом березы, все ещё прикрывая рукой глаза от солнца. На обратном пути, уже поверху, не по берегу, Семенов среди прочих интересных вещей рассказал о маленькой девочке, которая складывала числа с помощью наборного диска телефонного аппарата. При этом он признался, что так и не понял, как это она делает, добавив, что считала она правильно.
Следующий эпизод я уже описал в своих воспоминаниях «Учитель». В нём Н.Н. Семенов предстает достойнейшим человеком. Считаю правильным рассказать об этом еще раз. На банкете по поводу выбора известного физикохимика Я.К. Сыркина в действительные члены академии наук СССР Н.Н. Семенов предложил тост в честь П.И. Зубова, человека по-своему исключительного. Родившийся в неграмотной крестьянской семье он стал доктором химических наук, профессором, ректором Московского химико-технологического института им. М.В. Ломоносова. Семенов пояснил, что, если бы не Зубов, этого банкета, а может быть, и самого Сыркина не было. Суть выступления Семенова состояла в следующем. Сыркин был профессором кафедры физической химии в этом институте. В СССР развертывалась антисемитская кампания, называвшаяся борьбой с космополитизмом. Зубова, в то время ректора института, вызвали в райком партии и предложили уволить профессора Сыркина. Выполнение указаний партии (в данном случае её очень высокой инстанции – районного комитета коммунистической партии г. Москвы) считалось обязательным. Эти указания были больше, чем приказ в армии. Неподчинение райкому грозило не только снятием с занимаемой должности, но и увольнением с невозможностью устроиться на другую работу, а в некоторых случаях и последующим арестом. Этот комментарий я делаю специально для молодых читателей, которым не суждено было познать истинного «счастья» жизни в «социалистическом» государстве.
Зубов спросил, за что он должен уволить Сыркина и услышал: «Ну, например – студенты жалуются на то, что он опаздывает или плохо, непонятно читает лекции и потому они не хотят на них ходить».
– Когда Сыркин читает лекции, я должен заботиться не о том, чтобы они на них ходили, а о том, чтобы они не сбегали с других занятий. Аудитория на его лекциях всегда переполнена, – ответил Зубов.
– Но его надо уволить, – настаивал секретарь райкома. – Что, Вы ничего не можете придумать? Найдите что-нибудь.
– Мне его увольнять не за что! Если вам надо, пришлите мне соответствующее решение, тогда уволю, – проговорил Зубов.
Официально такого решения райком написать не мог, Зубов это отлично понимал и Сыркина не уволил.
Семенов закончил свое пояснение, провозглашая тост за Зубова, и добавил, что Сыркин со всех других должностей был к тому времени уже уволен и ему негде было работать. Если бы Зубов уступил, Сыркин лишился бы последнего источника существования.
Жизнь испытывала людей на честность, принципиальность, справедливость по отношению к другим. Не всем удавалось испытания, предлагаемые жизнью, выдержать. В рассказанном эпизоде Н.Н. Семенов и, конечно, П.И. Зубов испытание выдержали. Достойные люди остаются достойными и в малом, и в большом.
Виктор Иванович Спицын
Академик, директор Института физической химии Академии наук
– А кто у вас на химфаке читает неорганическую химию? – спросил я у своей дочери Ирины, затевая разговор по поводу её планов на будущее.
После некоторой паузы она произнесла:
– Ужасная зануда, Спицын его фамилия, кажется, академик. Невозможно слушать – бухгалтер, перечисляющий статьи расхода, пономарь на паперти.
Я подумал и в ответ на ее нелицеприятный отзыв рассказал ей следующее. Академик Спицын – директор моего института, председательствуя на ученом совете, быстро и четко реагирует на любую острую ситуацию. На одном из заседаний возникла дискуссия между академиком П.А. Ребиндером и профессором А.А. Трапезниковым, который очень часто претендовал на приоритет в том или ином вопросе. Каждый отстаивал свое право, резкий обмен аргументами, упреки приняли оскорбительную форму. Обстановка накалилась. Вдруг Спицын прервал их и сказал: «В Институте Дружбы народов возникла перепалка между студентами, дело шло к драке. Стороны обвиняли друг друга в оскорблениях. На разборе конфликта решили установить наличие оскорблений с помощью словарей. В результате выяснили, что ни одна из сторон не употребляла слов, не имеющихся в словарях, и, следовательно, всё было в рамках допустимого». – Он продолжил: – «И Петр Александрович, и Андрей Александрович использовали в дискуссии литературную лексику, зафиксированную в словарях русского языка, слов, не записанных в словарях, не произносилось. Поэтому я считаю, что дискуссия происходила в рамках вполне дозволенного, и вопрос можно считать исчерпанным».

В.И. Спицын
– Неплохо, правда? Впрочем, я вспоминаю занудный доклад Спицына на методологическом семинаре в ИФХ, озаглавленный «Философские проблемы трансурановых элементов». Так что представляю себе его заформализованные лекции. Жаль, но что делать, учись.
На следующий день в обеденный перерыв я вместе с сотрудниками отправился в столовую, в здании президиума Академии наук в Нескучном саду. По дороге Эдик Авербах, взволнованный предстоящей ему защитой диссертационной работы, возмущался Спицыным, который в присутствии Володи Пригородова, друга Эдика, выразился по поводу аспирантов-евреев: «Нечего готовить кадры для вражеского государства!». В этот момент мы подошли к зданию президиума. Таня, талантливейшая девушка, постоянно удивлявшая нас своей наблюдательностью, рисунками, вышивками, которые она приносила в лабораторию, вдруг воскликнула: «Смотрите, – она показала на одного из чугунных бульдогов, украшавших фасад здания, – это же вылитый Спицын!» Мы остановились. Сходство, действительно, было поразительным. В 1972 г мне пришлось вспомнить слова Спицына о «подготовке кадров», когда он избавлялся от ученых-евреев путем выборочного сокращения штатов. Он проявлял при этом удивительную, иезуитскую изощренность в формулировках. Так, приказ о моем увольнении ввиду сокращения штатов звучал издевательски торжественно: «Ввиду того, что Е.Д. Яхнин вырос в исследователя, способного возглавить новое научное направление, его целесообразно уволить и предоставить ему возможность работать в промышленности».
Вот так проявлялся в жизни «выдающийся» академик, директор одного из самых известных в мире институтов Академии наук СССР.
Никита Николаевич Моисеев
Академик, заместитель директора Вычислительного центра Академии наук

Н.Н. Моисеев
Я прочитал книгу Н.Н. Моисеева «Восхождение к разуму» и понял, что мы единомышленники; захотелось встретиться. На дачу к Моисееву в Абрамцево осенью 1996 года мы ехали на «жигулях»; я – за рулем – рассказывал о себе, он – рядом справа – слушал. Остановились передохнуть возле небольшого лесочка. Вдруг он смачно продекламировал соленые, не для дам, стихи о старости.Я откликнулся стихами:
«В дни младости Дубинин несомненно,
Стремясь познать начало всех начал,
Стерических преград сопротивленье
Молекулярным щупом изучал».
К.В. Чмутов (член-корреспондент АН СССР), которого называли первым химиком среди поэтов и первым поэтом среди химиков, преподнес их академику М.М. Дубинину в день его 60-летия. Не знаю правильно ли оценил Моисеев эти стихи, поскольку вряд ли ему был известен разработанный Дубининым метод исследования пористости сорбентов молекулами все большего размера, который назвали методом «молекулярных щупов». Но после обмена поэтическими «шедеврами» существовавший пока еще барьер условностей разрушился, появилась доверительность, и сразу передо мной возник образ того молодого веселого крепыша, альпиниста, о котором рассказывал мой друг, физик из Дубны, известный специалист по элементарным частицам Александр Львович Любимов. Среди любителей гор в альплагере на Домбае оказался актёр Кмит. Вспомните, он играл Петьку в фильме «Чапаев». Кмит оказался невыносимым пошляком, нагло пристававшим ко всем женщинам. Его решили проучить. Идею предложил Моисеев, возглавлявший в то время комсомольскую группу лагеря. После очередного хамства молодые парни, оказавшиеся рядом, крепко взяли Кмита за ноги и за руки, раскачали и с размаха, в одежде, бросили в бассейн. Моисеев и начальник лагеря стояли поодаль и спокойно наблюдали водную процедуру Кмита. Он не умел плавать, но выкарабкался и подал жалобу. Жалобу рассмотрели и решили объявить Кмиту строгое порицание за недопустимое купание в одежде, повлекшее за собой загрязнение воды в бассейне.
Отдохнули, поехали дальше. Он заметил, что я хорошо веду машину, и он не нажимает непроизвольно на педали, как обычно, когда ездит с другими водителями. Я похвастался водительским стажем с 1947 года. В ответ услышал, что он водит машину с 1939 года. Говорили всю дорогу, часа два с половиной. Изложение проблем, связанных с судьбами человечества, я завершил словами: «Планетарная катастрофа может разразиться уже в середине XXI века, поэтому необходимо объединить усилия всех, кто озабочен этим». «Вы ошибаетесь, – сказал он. – Катастрофа разразится не позже второго – третьего десятилетия будущего века». С этого началась наша недолгая дружба.
На даче нас встретила Антонина Васильевна, его жена, и кот без одной лапы. Никита Николаевич взял его на руки, нежно стал гладить и рассказывать грустную кошачью историю.
Мне запомнился финал моего первого посещения Никиты Николаевича в Москве. После обсуждения возможных вариантов преодоления угрозы гибели человечества он в коридоре снял с вешалки и подал мне пальто.
– Что Вы, Никита Николаевич, я же моложе вас, – попытался протестовать я, и в ответ услышал:
– В России пальто не подавали только лакеям!
Пришлось воспользоваться его любезностью и усвоить урок внимания и уважения к человеку.
В следующий раз мы обсуждали проблемы современной России. Он считал, что куча непростительных ошибок, сделанных пришедшими к власти гайдаровскими реформаторами, обусловлена их низкой образованностью, и называл их «образованцами».
Как-то раз он позвонил мне и спросил:
– Вы читали? – далее следовало название статьи и фамилия автора – прочтите обязательно, это удивительный бред, получите удовольствие. Да, и ещё. Приходите на следующий семинар, на доклад В.Н. Волченко. Это будет ещё похлеще.
Действительно, доклад профессора МВТУ Волченко был примером мистического использования физики, в котором утверждалось бытие мира и человечества за границей нашего нынешнего «положительного» мира. Моисееву было интересно всё. Он принципиально запрограммировал себя на неприемлемость тезиса: «только так, а не иначе», поэтому ставил на семинаре и такие доклады. Вероятно, с этим также связано было услышанное мной от академика Е.Л. Фейнберга: «Моисеев? Но он же допускает существование Бога». Я защитил Моисеева, вспомнив слова, которые он произнес вскоре после нашего знакомства: «Евгений Давыдович, у нас с вами общая позиция – мы оба не верим в Бога, но оба признаем важную роль религии в жизни общества».
В последние годы Моисеев тяжело болел, много раз оперировался.
– Как Вы себя чувствуете? – спрашивал я его по телефону и при встречах.
– Хреново, – отвечал он. Но был полон идеями, активно работал, выступал. Своими размышлениями об эволюции и будущем человечества он поделился с нами в трех последних лекциях на семинаре в Политехническом музее осенью 1999 года. Читал медленно, но очень ясно. Поразительного мужества и воли был человек.
Начислим
+4
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе