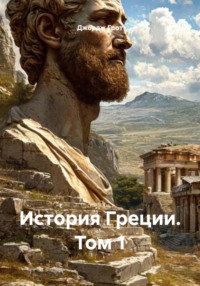Читать книгу: «История Греции. Том 1», страница 8
Ясон и Медея удалились из Иолка в Коринф, где прожили десять лет. Их детьми были Медей, которого кентавр Хирон воспитывал в окрестностях горы Пелион,[257] а также Мермер и Фер, родившиеся в Коринфе. После десяти лет благополучной жизни там Ясон воспылал страстью к Главке, дочери коринфского царя Креонта.[258] Поскольку её отец согласился выдать её замуж, он решил развестись с Медеей, которой было приказано немедленно покинуть Коринф. Оскорблённая и жаждущая мести, Медея приготовила отравленное одеяние и отправила его в качестве свадебного подарка Главке. Та бездумно приняла его и надела, после чего тело несчастной невесты сгорело дотла. Креонт, её отец, пытавшийся сорвать с неё пылающую одежду, разделил её участь и погиб. Ликующая Медея сбежала на колеснице с крылатыми змеями, предоставленной ей её дедом Гелиосом, и нашла убежище у Эгея в Афинах, от которого родила сына по имени Мед. Своих малолетних детей она оставила в священном храме Геры Акрейской, надеясь, что защита алтаря обеспечит их безопасность. Однако коринфяне, разгневанные убийством [стр. 118] Креонта и Главки, вытащили детей из-под защиты алтаря и умертвили их. Несчастный Ясон погиб под обломком собственного корабля «Арго», который рухнул на него, когда он спал под ним.[259] Корабль был вытащен на берег, как это обычно делали древние.
Первое поселение в Эфире (или Коринфе) основал Сизиф, ещё один из сыновей Эола, брат Салмонея и Крефея.[260] Эолид Сизиф прославился как беспрецедентный мастер хитрости и обмана. Он перекрыл дорогу через перешеек и убивал путников, скатывая на них огромные камни с гор. Он превзошёл даже самого Автолика, сына Гермеса, знаменитого вора, который унаследовал от отца способность менять цвет и форму украденных вещей так, что их невозможно было узнать. Сизиф, пометив своих овец под копытами, разоблачил Автолика, когда тот украл их, и заставил вернуть добычу. Его проницательность раскрыла связь Зевса с нимфой Эгиной, дочерью речного бога Асопа. Зевс увёз её на остров Энона (позже названный Эгиной), и Асоп, отчаянно пытаясь её найти, спросил у Сизифа, куда она исчезла. Тот раскрыл ему правду при условии, что Асоп создаст источник воды на вершине Акрокоринфа. Разгневанный Зевс за это откровение обрёк Сизифа в Аиде на вечную муку – вкатывать на гору огромный камень, который, едва достигнув вершины, снова скатывался вниз, несмотря на все его усилия.[261]
В применении эолидской генеалогии к Коринфу первым именем выступает Сизиф, сын Эола. Однако древний коринфский поэт Евмел [стр. 120] создал для родного города героическую генеалогию, независимую как от Эола, так и от Сизифа. Согласно ей, Эфира, дочь Океана и Тефиды, была первой владелицей коринфских земель, а Асоп – сикионских. Оба региона были отданы богу Гелиосу в урегулировании спора между ним и Посейдоном Бриареем. Гелиос разделил территорию между двумя сыновьями – Ээтом и Алоеем: первому достался Коринф, второму – Сикион. Ээт, повинуясь оракулу, уехал в Колхиду, оставив свои земли под управлением Буна, сына Гермеса, с условием, что они будут возвращены, если он или его потомки вернутся. После смерти Буна и Коринф, и Сикион перешли к Эпопею, сыну Алоэя, человеку порочному. Его сын Марафон, не вынеся его правления, уехал в Аттику, но вернулся после смерти отца и унаследовал его земли, которые затем разделил между своими сыновьями – Коринфом и Сикионом, давшими названия этим областям. Коринф умер бездетным, и тогда коринфяне призвали Медею из Иолка как наследницу Ээта. Так она вместе с мужем Ясоном получила власть над Коринфом.[262]
Эта легенда Евмела, одного из первых генеалогических поэтов, сильно отличающаяся от версии Неофрона или Еврипида, была принята Симонидом и, по-видимому, Феопомпом.[263] События в ней выстроены так, чтобы обосновать верховенство Медеи: уход Ээта и условия передачи власти были придуманы, чтобы дать ей законные права на трон. Коринфяне воздавали Медее и её детям божественные или героические почести вместе с Герой Акрейской,[264] и этого было достаточно, чтобы [стр. 121] Медея заняла важное место в генеалогии, составленной коринфским поэтом, который смешивал богов, героев и людей в истории родного города.
Согласно легенде Евмела, Ясон стал (благодаря Медее) царём Коринфа, но она тайно прятала их детей в храме Геры, надеясь, что богиня сделает их бессмертными. Когда Ясон раскрыл её замысел, он в гневе покинул её и вернулся в Иолк. Медея, разочарованная неудачей, также уехала, оставив трон Сизифу, к которому, по версии Феопомпа, она испытывала привязанность.[265] Другие легенды гласят, что Зевс воспылал страстью к Медее, но она отвергла его из страха перед гневом Геры, которая в награду за верность даровала бессмертие её детям.[266] Кроме того, Медея по особому повелению Геры воздвигла знаменитый храм Афродиты в Коринфе. Эти сказания явно связаны с храмом Геры, и можно предположить, что изначально миф о Медее был независим от истории Сизифа, но позже был искусственно встроен в неё, чтобы удовлетворить потомков эолидов, считавших себя его наследниками.
У Сизифа были сыновья Главк и Орнитион. От Главка произошёл Беллерофонт, чьи романтические приключения начинаются уже в «Илиаде» и развиваются позднейшими поэтами. По некоторым версиям, он был сыном Посейдона, главного бога эолидского рода.[267] Юность и красота Беллерофонта вызвали страсть у Антии, жены аргосского царя Прета. Получив отказ, она возненавидела его и оклеветала перед мужем. Прет, не желая убивать его сам, отправил его к своему зятю, царю Ликии, вручив ему складную табличку с гибельными знаками. Следуя им, царь поручил Беллерофонту самые опасные задания: сразиться с чудовищной Химерой, победить воинственных солимов и амазонок. Когда он вернулся победителем, против него устроили засаду лучшие ликийские воины, но он перебил их всех. В конце концов царь Ликии признал в нём «истинного сына бога», отдал ему в жёны свою дочь и половину царства. Внуки Беллерофонта, Главк и Сарпедон (последний – сын его дочери Лаодамии от Зевса), сражались на стороне Трои против войск Агамемнона.[268]
О крылатом Пегасе Гомер не упоминает, но поздние поэты сделали этого чудесного коня, чьё происхождение описано в «Теогонии» Гесиода, помощником Беллерофонта в его путешествиях и подвигах.[269] В Коринфе Беллерофонту воздавали героические почести, и его образ был популярен не только среди самих коринфян, но и среди их многочисленных колонистов.[270]
От Орнитиона, сына Сизифа, мы переходим через ряд трёх ничем не примечательных имён – Фоант, Дамосфон и братья Проподас и Гиантидас – ко времени [с. 123] дорийского завоевания Коринфа[271], о котором будет рассказано далее.
Теперь мы переходим от Сизифа и коринфских преданий к другому сыну Эола – Афаманту, чья семейная история столь же насыщена скорбными и трагическими событиями, обильно разукрашенными поэтами. Афамант, как рассказывают, был царём Орхомена; его жена Нефела была богиней, и она родила ему двоих детей – Фрикса и Геллу. Спустя некоторое время он пренебрёг Нефелой и взял себе в жёны Ино, дочь Кадма, от которой у него родились двое сыновей – Леарх и Меликерт. Ино, ненавидя Фрикса, как мачеха, подстроила заговор против его жизни. Она уговорила женщин поджарить посевное зерно, которое, будучи посеянным в таком виде, не дало урожая, и голод охватил страну. Афамант отправил послов в Дельфы, чтобы испросить совета и помощи, но получил ответ (благодаря проискам Ино с оракулом), что бесплодие полей нельзя устранить иначе, как принеся Фрикса в жертву Зевсу. Отчаянное положение народа вынудило его исполнить это повеление, и Фрикс был приведён к алтарю как жертва. Однако сила его матери Нефелы спасла его от гибели, и Гермес даровал ему барана с золотым руном, на которого Фрикс и его сестра Гелла взобрались и перелетели море. Баран направился к Понту Эвксинскому и Колхиде; когда они пересекали Геллеспонт, Гелла упала в узкий пролив, который получил своё название от этого события. После этого баран, наделённый даром речи, утешил перепуганного Фрикса и в конце концов доставил его невредимым в Колхиду. Ээт, царь Колхиды, сын бога Гелиоса и брат Цирцеи, принял Фрикса дружелюбно и отдал ему в жёны свою дочь Халкиопу. Фрикс принёс барана в жертву Зевсу Фиксию, а золотое руно повесил в священной роще Ареса.
Афамант (а по некоторым версиям – и Афамант, и Ино) впоследствии был поражён безумием от гнева богини Геры, так что отец застрелил собственного сына Леарха и убил бы также другого сына, Меликерта, если бы Ино не унесла его. Она бежала с мальчиком через Мегарскую [с. 124] область и гору Геранию к скале Молурис, нависающей над Сароническим заливом. Афамант преследовал её, и, чтобы избежать его, она бросилась в море. Она стала морской богиней под именем Левкотеи, а тело Меликерта было выброшено на берег в соседней области Схенунт, где его похоронил дядя Сизиф, получивший указание от нереид воздавать ему героические почести под именем Палемона. Истмийские игры – один из великих периодических праздников Греции – проводились в честь бога Посейдона, а также Палемона как героя. Афамант покинул свои земли и стал первым поселенцем соседнего региона, названного в его честь Афамантией, или Афамантской равниной.[272] [с. 125]
Предание об Афаманте связано с кровавыми религиозными обрядами и весьма своеобразными семейными обычаями, которые сохранялись в Алосе, в Ахайе Фтиотиде, вплоть до времени[273], более позднего, чем эпоха историка Геродота, и отголоски которых существовали в Орхомене даже во времена Плутарха. Афамант почитался в Алосе как герой, имея собственную часовню и священную рощу при храме Зевса Лафистия. На семью, чьим героическим прародителем он был, лежало особое проклятие и ограничение. Старший в роду не имел права входить в пританей (правительственное здание), и если его находили внутри, остальные граждане хватали его при выходе, украшали венками и вели в торжественной процессии, чтобы принести в жертву на алтаре Зевса Лафистия. Этот запрет исключал его из всех общественных собраний и церемоний, как политических, так и религиозных, а также лишал доступа к священному огню государства. Многие из отмеченных этим проклятием осмеливались нарушать запрет. Некоторые были схвачены при выходе и действительно принесены в жертву; другие бежали из страны на долгое время, чтобы избежать той же участи.
Проводники, сопровождавшие Ксеркса и его армию через южную Фессалию, рассказали ему об этом сохранившемся обычае, связав его с местным преданием о том, что Афамант вместе с Ино пытались погубить Фрикса, но тот сбежал в Колхиду; что ахейцы получили повеление от оракула принести самого Афаманта в искупительную жертву, чтобы избавить страну от гнева богов; но что Китиссор, сын Фрикса, вернувшись из Колхиды, помешал жертвоприношению Афаманта,[274] из-за чего гнев богов остался неутолённым, а на семью легло вечное проклятие.[275]
То, что подобные человеческие жертвоприношения в той или иной степени сохранялись даже в эпоху, более позднюю, чем время Геродота, среди семьи, почитавшей Афаманта как своего героического предка, не вызывает сомнений. Упоминаются также схожие обычаи в некоторых частях Аркадии и Фессалии в честь Пелея и Хирона.[276] Однако можно с уверенностью предположить, что в более гуманную эпоху, свидетелем которой был Геродот, реальные жертвоприношения стали очень редки. Проклятие и предание сохранялись, но не приводились в действие, за исключением периодов сильных народных бедствий или тревог, во время которых религиозные чувства всегда обострялись. Нельзя сомневаться, что во время тревоги, вызванной присутствием персидского царя с его огромной и недисциплинированной армией, умы фессалийцев должны были остро воспринимать всё устрашающее в их народных преданиях и всё искупительное в их религиозных обрядах. Более того, сам Ксеркс был настолько потрясён этим рассказом, что почтил святилище, посвящённое Афаманту. Проводники, поведавшие ему эту романтическую легенду, представили её как историческую причину существующего правила и обычая. Однако критически настроенный исследователь вынужден (как уже отмечалось ранее) поменять порядок следования и считать, что сам обычай породил объясняющую его легенду.
Родовая история Афаманта и почитание Зевса Лафистия, по словам Геродота, напрямую связаны с городом Алос в Ахее Фтиотиде – одним из городов, упомянутых в «Илиаде» как находящихся под властью Ахилла. Однако существовала также гора Лафистий, а также храм и культ Зевса Лафистия между Орхоменом и Коронеей, в северной части области, известной в исторические времена как Беотия. Здесь же локализуется и семейная история Афаманта, который предстаёт перед нами как царь областей Коронеи, Галиарта и горы Лафистий: таким образом, он оказывается вплетён в орхоменскую генеалогию.[277]
Андрей (как нам сообщают), сын реки Пенея, был первым, кто поселился в этом регионе. От него он получил название Андреида. Афамант, прибыв позже к Андрею, получил от него земли Коронеи, Галиарта и гору Лафистий. Он выдал за Андрея свою внучку Эвиппу, дочь своего сына Левкона, и от этого брака родился Этеокл, называемый сыном реки Кефиса. Корон и Галиарт, внуки коринфского Сисифа, были усыновлены Афамантом, так как он потерял всех своих детей. Но когда его внук Преспон, сын Фрикса, вернулся к нему из Колхиды, он разделил свои владения таким образом, что Корон и Галиарт стали основателями городов,[стр. 128] названных их именами. Алмон, сын Сисифа, также получил от Этеокла часть территории, где основал деревню Алмоны.[278]
С Этеокла, согласно одному из гимнов Гесиода, началось почитание Харит (Граций), столь долго и торжественно отмечавшееся в Орхомене во время периодического праздника Харитерии, в котором, по-видимому, участвовали многие соседние города и области.[279] Он также разделил жителей на два племени – Этеоклеи и Кефиссии. Он умер бездетным, и ему наследовал Алм, у которого было лишь две дочери, Хриса и Хризогения. Сыном Хрисы от бога Ареса был Флегий, отец и основатель воинственного и хищного племени флегиев, которые грабили всех вокруг и нападали не только на паломников по дороге в Дельфы, но даже на сокровища самого храма. Оскорблённый бог покарал их непрерывными громами, землетрясениями и чумой, которая уничтожила всё это нечестивое племя, за исключением немногих уцелевших, бежавших во Фокиду.
Хризогения, другая дочь Алма, родила от Посейдона Миния; сыном Миния был Орхомен. От этих двух произошли названия как народа (минии), так и города (Орхомен).[280] Во время правления Орхомена к нему прибыл из Аргоса Гиетт, ставший изгнанником после убийства Молира. Орхомен выделил ему участок земли, где тот основал деревню Гиетт.[281] Орхомен, не имея наследников, был сменён Клименом, сыном Преспона из рода Афаманта. Климен был убит фиванцами во время праздника Посейдона в Онхесте, и его старший сын, Эргин, чтобы отомстить за его смерть, напал на Фивы со всей своей мощью – атака, в которой он был настолько успешен, что фиванцы были вынуждены подчиниться и платить ему ежегодную дань.
[стр. 129] Власть Орхомена теперь достигла своего пика: и Миний, и Орхомен были правителями несметного богатства, и первый построил просторное и прочное здание, наполненное золотом и серебром. Но успех Эргина против Фив вскоре был прерван и обращён вспять неодолимым Гераклом, который с презрением отверг требование дани и даже изувечил послов, присланных за ней. Он не только освободил Фивы, но и сокрушил и обеднил Орхомен.[282] Эргин в старости женился на молодой жене, от этого брака родились знаменитые герои, или боги, Трофоний и Агамед, хотя многие (включая самого Павсания) считали Трофония сыном Аполлона.[283] Трофоний, один из самых памятных персонажей греческой мифологии, почитался как бог в разных местах, но с особой святостью – как Зевс Трофоний – в Лебадее. В его храме в этом городе пророческие откровения сохранялись дольше, чем в самом Дельфийском оракуле.[284] Трофоний и Агамед, прославившиеся как непревзойдённые зодчие, построили[285] храм в Дельфах, покои Амфитриона в Фивах, а также неприступное хранилище Гириея в Гирии, в котором, как говорят, они оставили один камень съёмным, чтобы обеспечить себе тайный вход. Они проникали туда так часто и похитили так много золота и серебра, что Гирией, поражённый пропажами, в конце концов расставил тонкую сеть, в которой Агамед запутался намертво. Трофоний отрубил голову брату и унёс её, так что оставшееся тело не могло идентифицировать вора. Подобно Амфиараю, с которым он схож во многих отношениях, Трофоний был поглощён землёй близ Лебадеи.[286]
От Трофония и Агамеда орхоменская генеалогия переходит к Аскалафу и Иалмену, сыновьям Ареса от Астиохи, которые упоминаются в «Каталоге кораблей» «Илиады» как предводители тридцати кораблей из Орхомена, отправившихся на Трою. Азей, дед Астиохи в «Илиаде», у Павсания назван братом Эргина,[287] который не продолжает родословную дальше.
Приведённая у Павсания генеалогия заслуживает особого внимания, поскольку, по-видимому, была скопирована из специальной истории Орхомена, написанной коринфянином Каллиппом, который, в свою очередь, заимствовал у местного орхоменского поэта Херсия. Сам Павсаний не имел доступа к трудам последнего. Эта генеалогия ярко иллюстрирует принцип, по которому строились мифические родословные, поскольку почти каждый персонаж в ней является эпонимом. Андрей дал имя стране, Афамант – Афамантской равнине; Миний, Орхомен, Корон, Галиарт, Алм и Гиетт связаны с названиями народов, племён, городов или деревень, тогда как Хриса и Хризогения отражают легендарное богатство Орхомена. Однако в других источниках обнаруживаются многочисленные расхождения. Согласно одному из них, Орхомен был сыном Зевса от Исионы, дочери Даная; Миний – сыном Орхомена (или, скорее, Посейдона) от Гермиппы, дочери Беота; сыновьями Миния были Преспон, Орхомен, Афамант и Диохтонд.[288] Другие считали Миния сыном Посейдона[стр. 131] и океаниды Каллирои,[289] тогда как Дионисий называл его сыном Ареса, а Аристодем – сыном Алея. Наконец, некоторые авторы утверждали, что и Миний, и Орхомен были сыновьями Этеокла.[290] Ни в одной из этих родословных не упоминается имя Амфиона, сына Иаса, который в «Одиссее» фигурирует как царь Орхомена и чья прекрасная дочь Хлорида вышла замуж за Нелея. Павсаний упоминает его, но не как царя, каковым он назван у Гомера.[291]
Упомянутые здесь противоречия едва ли необходимы для доказательства того, что эти орхоменские генеалогии не имеют исторической ценности. Тем не менее, из общего содержания легенд можно вывести некоторые правдоподобные выводы, независимо от того, являются ли факты и лица, из которых они состоят, реальными или вымышленными.
На протяжении всей исторической эпохи Орхомен был членом Беотийского союза. Однако беотийцы, как утверждается, были переселенцами на территорию, названную их именем, из Фессалии; а до их переселения Орхомен и окружающие земли, по-видимому, принадлежали миниям, которые упоминаются в этой местности как в «Илиаде», так и в «Одиссее»[292], и от которых заимствован постоянно повторяющийся эпоним – царь Миний, использованный генеалогами. Поэтическая легенда связывает орхоменских миниев, с одной стороны, с Пилосом и Трифилией в Пелопоннесе; с другой – с Фтиотидой и городом Иолк в Фессалии; а также с Коринфом[293][стр. 132] через Сисифа и его сыновей. Ферекид изображал Нелея, царя Пилоса, также царём Орхомена[294]. В области Трифилии, близ или совпадающей с Пилосом, Гомер упоминает Минийскую реку; и мы находим следы жителей, называемых миниями, даже в исторические времена, хотя рассказ Геродота о том, как они туда попали, странен и неубедителен[295].
До великих перемен, произошедших в населении Греции из-за переселения теспротов в Фессалию, беотийцев в Беотию, а дорийцев и этолийцев в Пелопоннес (в дату, которую мы не можем точно определить), минии и родственные им племена, по-видимому, занимали значительную часть территории Греции – от Иолка в Фессалии до Пилоса в Пелопоннесе. Богатство Орхомена славится уже в «Илиаде»[296]; и при детальном изучении его топографии мы находим вероятное объяснение как его процветания, так и упадка. Орхомен был расположен на северном берегу Копаидского озера, которое принимает не только реку Кефис из долин Фокиды, но и другие реки с Парнаса и Геликона. Воды озера находят несколько подземных выходов – отчасти через естественные разломы и полости в известняковых горах, отчасти через искусственно пробитый туннель длиной более мили – в равнину на северо-восточной стороне, откуда они впадают в Эвбейское море близ Ларимны[297]. И, как видно[стр. 133], пока эти каналы тщательно охранялись и поддерживались в чистоте, значительная часть озера представляла собой аллювиальную землю, исключительно богатую и плодородную. Но когда каналы стали либо забрасываться, либо намеренно засоряться врагами, вода скапливалась в таком количестве, что затопляла территорию нескольких древних городов, угрожала положению Коп и вынудила перенести сам Орхомен с равнины на склон горы Гифантейон. Инженер Кратет начал расчистку засорённых водных путей в царствование Александра Великого и по его поручению – разрушитель Фив стремился восстановить утраченное процветание Орхомена. Он добился частичного осушения и уменьшения озера, благодаря чему стало видно местонахождение нескольких древних городов. Но возрождение Фив Кассандром после смерти Александра остановило работы, и озеро вскоре вернуло свои прежние размеры, для сокращения которых больше не предпринималось попыток[298].
Согласно фиванскому преданию[299], Геракл после победы над Эргином заблокировал выход вод и превратил орхоменскую равнину в озеро. Таким образом, разлив этих вод связывается с унижением миниев; и можно с уверенностью предположить, что именно древние жители Орхомена, до его беотизации, расширили и поддерживали эти защитные каналы. Такая задача не могла быть выполнена без объединённых действий и признанного превосходства этого города над соседями, простиравшегося вплоть до моря у Ларимны, где впадает река Кефис. О его широком влиянии, а также о морской активности, мы находим яркое свидетельство в древнем и почитаемом Амфиктионии в Калаврии. Этот маленький остров[стр. 134] близ гавани Трезена в Пелопоннесе был посвящён Посейдону и считался неприкосновенным убежищем. В храме Посейдона в Калаврии с незапамятных времён существовало периодическое жертвоприношение, совершаемое совместно семью городами – Гермионой, Эпидавром, Эгиной, Афинами, Прасиями, Навплией и Минийским Орхоменом. Этот древний религиозный союз относится ко времени, когда Навплия была независима от Аргоса, а Прасии – от Спарты: Аргос и Спарта, согласно обычной греческой практике, продолжали выполнять обязательства каждый за своего зависимого союзника[300]. Шесть из семи государств – приморские города, расположенные достаточно близко к Калаврии, чтобы объяснить их участие в этой амфиктионии. Но включение Орхомена, учитывая его относительную удалённость, становится необъяснимым, если не предположить, что его территория достигала моря и что он вёл значительную морскую торговлю – факт, который помогает объяснить как его легендарную связь с Иолком, так и его участие в так называемом Ионийском переселении[301]. Мифическая генеалогия, в которой Птой, Схеней и Эритрий названы сыновьями Афаманта, дополнительно подтверждает идею, что города и местности к юго-востоку от озера признавали братское происхождение с орхоменскими миниями, не менее чем Корония и Галиарт на юго-западе[302].
Великая мощь Орхомена была сломлена, а город низведён до второстепенного и полузависимого положения беотийцами из Фив; когда и при каких обстоятельствах это произошло, история не сохранила. Рассказ о том, что фиванский герой Геракл избавил свой родной город от подчинения и дани Орхомену, поскольку он происходит из кадмейской, а не орхоменской легенды, и поскольку его детали были излюбленными сюжетами для изображения в фиванских храмах[303], даёт основания предполагать, что Фивы действительно когда-то зависели от Орхомена. Более того, зверские увечья, нанесённые героем послам, собирающим дань (так точно переданные в его прозвище Риноколуст – «Обрубатель носов»), придают мифу ту долю ожесточённости, которая долго царила между Фивами и Орхоменом и которая побудила фиванцев, как только битва при Левктрах отдала им власть, разрушить и опустошить своего соперника[304]. Следующее поколение увидело ту же участь, обращённую против Фив, вместе с восстановлением Орхомена. Легендарное величие этого города, даже после того как он перестал выделяться богатством и могуществом, оставалось неизгладимо запечатлённым как в памяти благородных граждан, так и в поэтических произведениях; выразительные слова Павсания показывают, как много он нашёл о нём в древнем эпосе[305].
Раздел II. – Дочери Эола.
С несколькими дочерьми Эола связаны знаменитые мифические родословные и предания.
Алкиона вышла замуж за Кеика, сына Эосфора, но и она, и её муж проявили в высшей степени надменность, свойственную эолийскому роду. Жена называла мужа Зевсом, а он величал её Герой – за эту дерзость Зевс наказал их, превратив обоих в птиц.[306]
Канака родила от бога Посейдона нескольких детей, среди[стр. 136] которых были Эпопей и Алоей.[307] Алоей женился на Ифимедее, которая воспылала страстью к Посейдону и хвасталась своей связью с ним. Она родила от него двух сыновей – Отоса и Эфиальта, исполинских и грозных Алоадов. Эти титанические существа уже в юности достигали девяти саженей в высоту и девяти локтей в ширину, ещё не достигнув полной силы. Алоады бросали вызов и оскорбляли богов на Олимпе: они сватались к Гере и Артемиде, а однажды даже схватили Ареса и заточили его в медную темницу на тринадцать месяцев. Никто не знал, где он, и невыносимые оковы изнурили бы его до смерти, если бы Эрибея, мачеха Алоадов, не открыла Гермесу место его заточения. Тот похитил Ареса в последний момент, но даже так бог войны не смог отомстить за нанесённое ему унижение. Отос и Эфиальт даже вознамерились штурмовать небеса, поставив Оссу на Олимп, а Пелион – на Оссу, чтобы добраться до богов. И они бы преуспели, если бы достигли полной зрелости, но стрелы Аполлона положили конец их недолгой жизни.[308]
[стр. 137]Родословная ещё одной дочери Эола, Калики, ведёт нас из Фессалии в Элиду и Этолию. Она вышла замуж за Этлия (сына Зевса и Протогении, дочери Девкалиона и сестры Эллина), который вывел колонию из Фессалии и поселился в землях Элиды. У него родился сын Эндимион, о котором в «Каталоге женщин» и поэме «Эойи» рассказывалось немало удивительного. Зевс даровал ему право самому выбрать час своей смерти и даже вознёс его на небеса, но тот лишился этой милости, осмелившись добиваться любви Геры: его зрение помутилось облаком, и он был низвергнут в подземный мир.[309] По другим[стр. 138] сказаниям, его неземная красота пленила богиню Селену, и она стала навещать его по ночам во время сна. «Сон Эндимиона» стал поговоркой, обозначающей блаженный, безмятежный и вечный покой.[310]
У Эндимиона было несколько детей (Павсаний приводит три разные версии имени его жены, а Аполлодор – четвёртую): Эпей, Этол, Пеон и дочь Эврикида. Он устроил для трёх сыновей состязание в беге на стадионе в Олимпии, и победивший Эпей был вознаграждён правом наследовать царство. По его имени народ стал называться эпеями.
Как само это сказание, так и этимология имён Этлия и Эндимиона явно указывают (как уже отмечалось ранее), что данная родословная была придумана уже после того, как Олимпийские игры приобрели общегреческую известность.
У Эпея не было сыновей, и ему наследовал племянник Элей, сын Эврикиды от Посейдона. Тогда народ сменил название с «эпеи» на «элейцы». Брат Эпея, Этол, убив Аписа, сына Форонея, был вынужден бежать из страны. Он пересёк Коринфский залив и поселился в земле, называвшейся тогда Куретидой, но которой он дал имя Этолия.[311]
Сыном Элея (или, по другим версиям, бога Гелиоса, Посейдона или Форбаса[312]) был Авгий, упомянутый в «Илиаде» как царь эпеев (элейцев). Нестор подробно рассказывает о своих подвигах во главе пилосцев против соседей-эпеев и их царя Авгия. Он разгромил их, убив зятя царя Мулия и захватив огромную[стр. 139] добычу.[313]
Авгий обладал несметными богатствами, а его стада были так многочисленны, что навоз в хлевах и загонах скопился до невыносимого уровня. Еврисфей, желая унизить Геракла, приказал ему очистить эти скотные дворы. Герой, не желая выносить навоз вручную, направил через них реку Алфей и смыл всю грязь.[314] Однако Авгий, несмотря на столь великую услугу, отказался отдать Гераклу обещанную награду, хотя его сын Филей протестовал против такого вероломства. Не сумев образумить отца, он в горе и гневе удалился на остров Дулихион.[315]
Чтобы отомстить за обман, Геракл вторгся в Элиду, но у Авгия были могущественные союзники, особенно его племянники – Молиониды (сыновья Посейдона и Молионы, жены Актора), Эврит и Ктеат. Эти чудесные братья, обладавшие невероятной силой, срослись в одно тело, но имели две головы и четыре руки.[316][стр. 140] Их мощь была такова, что Геракл потерпел поражение и отступил. Однако вскоре элейцы отправили Молионидов как феоров (священных послов) на Истмийские игры, и Геракл, устроив засаду у Клеон, убил их по дороге. За это убийство элейцы тщетно требовали возмездия в Коринфе и Аргосе, что, как считалось, стало причиной добровольного отказа элейских атлетов от участия в Истмийских играх на протяжении всей исторической эпохи.[317]
После гибели Молионидов Геракл вновь напал на Элиду, убил Авгия и его детей (кроме Филея, которого он вернул с Дулихиона и посадил на отцовский трон). По более мягкой версии, которую приводит Павсаний, Авгий был помилован по просьбе Филея.[318] Его почитали как героя[319] вплоть до времени этого автора.
Согласно древнему мифу, который Пиндар облагородил в великолепной оде, именно по случаю завоевания Элиды Геракл впервые освятил землю Олимпии и учредил Олимпийские игры. По крайней мере, так гласила одна из многих легенд о происхождении этого памятного учреждения.[320]
Филей, наведя порядок в Элиде, снова удалился в Дулихион, оставив царство своему брату Агасфену, что возвращает нас к гомеровскому циклу. Поликсен, сын Агасфена, – один из четырёх предводителей сорока эпейских кораблей в «Илиаде», действующих совместно с двумя сыновьями Еврита[стр. 141] и Ктеата, а также с Диором, сыном Амаринкея. Мегет, сын Филея, командует отрядом из Дулихиона и Эхинад.[321] Поликсен благополучно возвращается из Трои, ему наследует его сын Амфимах – названный в честь эпейского вождя, павшего под Троей, – а затем другой Элей, во времена которого дорийцы и Гераклиды вторгаются в Пелопоннес.[322] Эти два имени, лишённые каких-либо деяний или примечательных черт, вероятно, были введены генеалогами, которых цитирует Павсаний, чтобы заполнить предполагаемый промежуток между Троянской войной и дорийским вторжением.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе