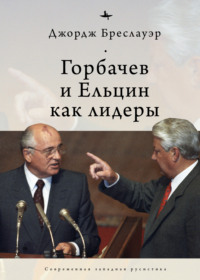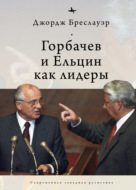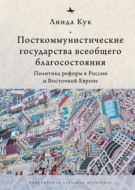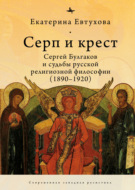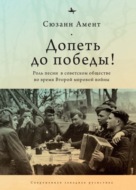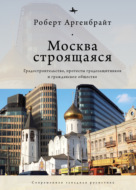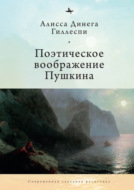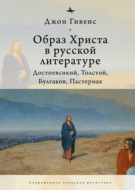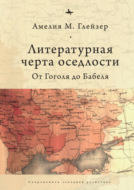Читать книгу: «Горбачев и Ельцин как лидеры», страница 6
В ожидании смены власти
Когда в марте 1985 года Горбачева выбрали генеральным секретарем, министр иностранных дел Громыко в своей речи по поводу выдвижения его кандидатуры сказал: «У него приятная улыбка, но железные зубы»52. Подразумевалось, что Горбачев как руководитель – новичок, послушный, но при этом неглупый. Он был способен отстаивать свои взгляды перед лучшими из них как внутри страны, так и за рубежом. Он мог заставить страну начать снова двигаться вперед, не жертвуя основными интересами или ценностями системы. Громыко не мог знать, что в итоге Горбачев не выполнит его предсказание. Однако в то время, возможно, этого не знал и сам Горбачев.
В течение первых полутора лет пребывания у власти Горбачев был именно таким лидером, как предполагал Громыко. Он не скрывал того, что выступает за отказ от старых подходов, но делал это осторожно, создавая базу для своей власти и вынуждая уйти в отставку руководителей из числа брежневских консерваторов.
Внутриполитический курс и методы
Члены Политбюро, а также ведущие члены Центрального комитета знали, что во время своего пребывания в Москве Горбачев советовался и поддерживал контакты с учеными и журналистами, настроенными радикально реформистски [English 2000:183]. Они знали также, что, возглавляя партийную организацию Ставрополья, он продвигал некоторые новаторские меры по реорганизации экономического производства на краевом уровне [Brown 1996: 45–47]. Но в то время у них не было оснований подозревать, что он в итоге решится на капитальную ревизию системы. Горбачева также справедливо воспринимали как человека, который десятилетиями играл по ленинским правилам. Его выступления в 1976–1981 годах были безупречны по меркам того времени53. Когда Горбачев перебрался из провинции в Москву, его поддержали – и тем самым поручились за него – Суслов и Андропов, одни из самых влиятельных членов старой гвардии. Его выступления в качестве члена Политбюро с 1980 до конца 1984 года не выходили далеко за рамки преобладавшего в то время политического консенсуса, соответствовавшего экспериментальному подходу андроповцев к повышению эффективности экономики и зачистке коррумпированных кадров54. Более того, он укрепил имидж командного игрока, правильно выждав время после смерти Андропова и не оспаривая назначение консерватора Черненко на пост генерального секретаря [Brown 1996: 69]. Пуритане и технократы в Центральном комитете знали также, что он по брежневским меркам не коррумпирован и является компетентным администратором, а значит, соответствует их типу. В целом Горбачев создал для себя (с помощью манипуляций или нет) образ человека, способного управлять, не создавая чрезмерной угрозы для ключевых заинтересованных групп и лиц внутри политического истеблишмента. Он мог преследовать новые цели, не ставя под угрозу драгоценные традиционные ценности55.
Тем не менее самым актуальным оставался вопрос: какие традиционные ценности наиболее драгоценны? Ключевое ленинское наследие с упором на руководящую роль партии? Или новые возможности для обогащения номенклатуры? Горбачев четко обозначил свою позицию по этому вопросу еще до смерти Черненко. Когда в конце 1984 года здоровье Черненко начало ухудшаться, Горбачев быстро перехватил инициативу у оппозиционеров и занял отчетливую идеологическую нишу в борьбе за престолонаследие. Прошло время проявлять почтительность и бескорыстность на фоне чаяний других, более высокопоставленных членов руководства. Горбачев был готов к предвыборной речи, где он публично заявил бы о себе как о человеке, который возродит лучшие черты ленинского наследия, проводя политические и экономические реформы дома и идя на компромиссы при решении вопросов за рубежом. Для этого шага он выбрал закрытую партийную конференцию по идеологии в декабре 1984 года. Это была самая радикальная речь кого-либо из ведущих членов Политбюро со времен Хрущева56. По содержанию (хотя и не по продолжительности) она была сопоставима с «секретной речью» Хрущева, в которой он осудил Сталина в 1956 году; Хрущев использовал эту речь как способ выйти из политического тупика и перехватить политическую инициативу, определив радикальные изменения в доктрине и политике как морально и практически необходимые. В декабре 1984 года Горбачев, еще не будучи руководителем партии, дал понять, что готов трансформировать советскую доктрину и язык советской политики, с тем чтобы формально лишить легитимности брежневский подход к решению вопросов. Он еще не бросил вызов традиционным политическим аренам. Его речь была произнесена на частной арене и не призывала к созданию новых публичных арен; это случится позже. Тем не менее соперники Горбачева из числа сторонников брежневской политики поняли значение его слов и почувствовали в них угрозу. Сам Черненко пытался помешать Горбачеву выступить, но тот держался твердо. Черненко и его союзникам удалось лишь помешать появлению полного текста речи в газете «Правда» [Hough 1997: 73; Brown 1996: 82].
В своем выступлении Горбачев использовал абстрактную терминологию, как это обычно бывает в доктринальных речах, и оно не содержало подробного описания конкретной политики, которая вытекала бы из пропагандируемых в нем доктрин. Но в нем уже присутствовало большинство кодовых слов, которые позже станут отличительными чертами преобразований Горбачева: перестройка, гласность, реформа, демократия, человеческий фактор, а также в нем говорилось о потребности в кадрах, «доверяющих» людям и «уважающих их интеллект». Как и выступление Хрущева на XX съезде партии в феврале 1956 года, оно включало значительное число критических замечаний, граничащих с «системными», а также риторику нетерпения и срочности, наполнявшую весь текст57. На самом деле, когда Горбачев говорил о том, что производственные отношения в СССР вступили в противоречие со способом производства, он повторял традиционное марксистское определение предреволюционной ситуации.
Это выступление стало явной атакой на брежневских «консерваторов». Кроме того, в нем не просто провозглашалась альтернатива политике, господствовавшей при Черненко. Скорее это было обобщенное изложение концепций и идей, вокруг которых смогли бы объединиться представители всех трех направлений, альтернативных брежневизму: пуритане (борцы с коррупцией), технократы (рационализаторы плановой экономики) и политические реформаторы. Пуритане и технократы в ЦК могли сделать вывод, что Горбачев пропагандирует политику всеобщей замены коррумпированных и некомпетентных кадров, то есть политику, с которой они были согласны. Они могли заключить, что риторика Горбачева, воспевающая коммунистическую систему, марксистско-ленинские идеалы и социальную дисциплину, по сути подразумевает его готовность очистить аппарат от коррумпированных кадров, укомплектовать его такими неподкупными людьми, как они, и тем самым высвободить неиспользованный потенциал социалистической системы. Это им ничем не угрожало и не предвещало потери ими политического контроля над обществом. Действительно, упор Горбачева на растущие противоречия в советском обществе перекликался с тем, как Андропов оправдывал свою дисциплинарную политику и антикоррупционную кампанию58. Точно так же критика Горбачевым советских методов управления могла подразумевать различные политические рецепты. Хрущев преследовал аналогичные цели, не отказываясь при этом от политической централизации, ведущей роли партии или ленинского антилиберализма.
Пуритане и технократы могли рассматривать речь Горбачева как всего лишь заявление о том, что ситуация стала слишком серьезной, чтобы ее игнорировать – не такое уж скандальное заявление на фоне действий революционного рабочего движения «Солидарность» в братской Польше, которому в 1981 году почти удалось свергнуть коммунистический режим в этой стране. Но по сравнению с прежней осторожностью Горбачева в публичных выступлениях, а также с учетом того, что он представил столько концепций, связанных с антисталинской кампанией Хрущева 1956 года, реформами Косыгина 1965 года и Пражской весной 1968 года, можно сказать, что эта речь в том числе была задумана как обращение к реформаторам внутри партии и критической интеллигенции с целью их активизации. В представленном в речи видении, обращенном к этой разнородной аудитории, пуританам обещался возврат к революционной истине, технократам – модернизация и повышение эффективности, а критически настроенной интеллигенции – больше возможностей для самовыражения. Всем им обещались более эффективная и производительная экономическая система, более сильный Советский Союз и более договороспособное государственное устройство.
Идеи, выраженные Горбачевым, служили зонтичной схемой для широкого круга групп, интересы которых часто не пересекались. Это важнейшая функция, которую выполняют лидеры, продвигающие новые идеи. Горбачев не просто играл роль «политического антрепренера», который определяет общее «контрактное пространство» для различных заинтересованных групп и определяет программу, обеспечивающую их поддержку59. Скорее Горбачев создавал новый набор политических символов, достаточно двусмысленных, чтобы пуритане, технократы и радикальные политические реформисты могли по своему вкусу их интерпретировать. Такая двусмысленность позволила Горбачеву воспользоваться своими полномочиями для внесения изменений, которые так или иначе не получили бы одобрения этих групп60.
Внешняя политика
Сделанные в то время Горбачевым публичные заявления об отношениях между Востоком и Западом позволяли предположить, что он, вступив в борьбу за то, чтобы стать преемником Черненко, занял широкую идеологическую нишу, одновременно представляя себя человеком, который мог бы уверенно вести страну в новых направлениях. Он сочетал энергичную защиту статуса СССР в мировых делах со склонностью к гибкости и уступкам. Он полагал, что политика Черненко ведет страну в тупик и что необходимы новые идеи и предложения, чтобы этого избежать. В своем докладе на конференции по идеологии 10 декабря 1984 года он мало что сказал о международных делах, но в сказанном им ритуальная риторика сочеталась с критикой того, что СССР позволил своим оппонентам перехватить инициативу на мировой арене. Возвращение инициативной позиции приведет не к эскалации холодной войны, а скорее к «конструктивному диалогу, практическим мерам, ведущим к снижению международной напряженности» [Горбачев 1987–1990, 2: 103].
Всего через восемь дней, в своей речи перед членами парламента Великобритании 18 декабря 1984 года, которая была полностью напечатана в «Правде», Горбачев точнее обозначил пространство для маневра [Горбачев 1987–1990, 2: 109–116]. Тут он предвосхитил многие из концепций, которые позже станут основой его гибкой внешней политики. Он призвал к «оздоровлению» международных отношений. Он упомянул о необходимости «нового мышления в ядерный век» и компромисса, основанного на «балансе интересов» между Востоком и Западом. Он определил интересы обеих сторон как «законные» и призвал к «разумным компромиссам» и доверию, основанному на «совпадающих интересах». Он назвал Европу «нашим общим домом». Кроме того, он отказался от традиционного нежелания проявлять слабость, несколько раз повторив, что СССР нужен мир для достижения своих внутренних целей. Горбачев все же критиковал Соединенные Штаты и пытался провести различие между Соединенными Штатами и Европой, но на этом не акцентировал внимание.
Также в ходе своего визита в Великобританию в декабре 1984 года Горбачев продемонстрировал сочетание примирительной риторики, непринужденного стиля и гибкости мышления с твердостью взглядов и резкой, уверенной, четко сформулированной защитой достоинства и интересов Советского Союза от прямых нападок со стороны членов парламента. Маргарет Тэтчер, по крайней мере, была прозорливее своих парламентариев и оценила потенциал будущего советского лидера, заявив: «Мне нравится Горбачев. С ним можно иметь дело»61. Напротив, Громыко, который менее чем через три месяца выдвинет кандидатуру Горбачева на пост генсека, вероятно, выступление последнего в Англии представлялось предвестником более эффективной реализации «наступательной разрядки»62.
Итак, еще прежде, чем стать генеральным секретарем, Горбачев давал понять, что в его намерения входило вывести Советский Союз из того, что он определял как тупик. Он предложил себя в качестве энергичного лидера, способного разрядить напряженность между Востоком и Западом и преодолеть кризис внутри страны. Хотя он ясно дал понять, что поддерживает реформаторские предложения по изменениям во внутренней политике и является сторонником большей степени гибкости и примирения в отношениях между Востоком и Западом, было совершенно неясно, как далеко он готов зайти в каждом из этих направлений. В частности, из его публичных заявлений не было очевидно, какими из традиционных ценностей он готов был бы поступиться для достижения этих целей. Хотя его общая позиция как лидера нового типа была понятна, его позиция по конкретным вопросам оставалась достаточно двусмысленной, чтобы он мог получить явную или негласную поддержку со стороны широкого круга политических деятелей в Политбюро и Центральном комитете. Это был разумный подход для захвата инициативы в конкурентной политической борьбе. Он мог оттолкнуть только противников перемен, но они, теряя уверенность в себе и терпя потери в своих рядах (с уходом из состава Политбюро более старых по возрасту членов), становились все более неэффективными в роли блокирующей коалиции.
Горбачев у власти
Став в марте 1985 года генеральным секретарем, Горбачев внезапно занял более осторожную, традиционалистскую и уклончивую позицию. Единственным исключением была кадровая политика, где он действовал быстро, укрепляя свою власть, возможно, быстрее, чем какой-либо партийный лидер в прежней советской истории. Неуклонно и без заминок он расширял свой организационный аппарат и укреплял фундамент своей власти, увольняя членов Политбюро, а также противников перемен из числа чиновников центрального и регионального госпартаппарата и заменяя их людьми, которых он знал, уважал и которым доверял. Однако в том, что касается реальных политических изменений, он действовал медленно и осторожно; его риторика, хотя и оставалась новаторской, стала менее масштабной, чем выступление в декабре 1984 года на конференции по идеологической работе. В то время это дало некоторым наблюдателям повод предположить, что Горбачев мало чем отличается по своим взглядам от деятелей брежневского поколения. Но при этом упускалось из виду то влияние, которое оказывали на его поведение политика, необходимость консолидации власти и императивы укрепления авторитета. Горбачев выстраивал организационные основы своей власти, временно уступив общую проблематику более консервативным силам в Политбюро и Центральном комитете.
Внутренняя политика Горбачева с марта 1985 года по осень 1986 года более примечательна своим традиционализмом, нежели реформаторством; она больше напоминала не хрущевскую, а андроповскую. Потому она, должно быть, больше пришлась по душе таким пуританам, как Лигачев, которого Горбачев одновременно продвигал в Политбюро и вовлекал во внутренний круг руководства. Экономическая политика ускорения, например, предполагала перераспределение бюджета в пользу машиностроительной отрасли, усиление давления на хозяйственников с целью экономии материалов и кампании за повышение дисциплины рабочих и служащих. Административные реорганизации, происходившие в то время, не бросали вызова принципам командной экономики, не говоря уже о введении элементов рынка. Вместо этого усилилось давление на директоров предприятий. Были начаты или расширены антикоррупционные кампании, что увеличивало возможность Горбачева по построению своего орг-аппарата. Аналогичным образом кампания по борьбе с пьянством, начатая в мае 1985 года, напоминала традиционные советские мероприятия. Теперь мы знаем, что она проводилась под контролем Лигачева, хотя нет единого мнения по поводу того, был ли он инициатором этой политики63.
Остается неясным, считал ли Горбачев в то время, что этой политики будет достаточно для оживления экономики, и в какой степени его уступка пуританам была вызвана политическим расчетом64. Ясно, однако, что он использовал это время, чтобы подготовить почву для проведения более радикальной политики. Хотя в 1985 году и до начала 1986 года его выступления в целом были менее радикальными, чем речи, произнесенные в период с декабря 1984 года по февраль 1985 года, в них все же содержались фразы и формулировки, связанные с политической и экономической реформой. С одной стороны, мы находим там такие темы, как «ускорение», дисциплина, необходимость для рабочих и кадров научиться мыслить по-новому, а также потребность в большей «социалистической демократии» (любимая тема Черненко). Эти темы носили традиционалистский характер, или, по крайней мере, их можно было истолковать в традиционном ключе, и они имели тенденцию преобладать количественно в выступлениях Горбачева с марта 1985 год по середину 1986 года. Тем не менее он продолжал говорить и о необходимости экономической реформы, а данная тема была особенно важна для технократов65. Он не отказывался от сказанного в декабре 1984 года. В своих выступлениях он продолжал отмечать необходимость гласности, перестройки и демократизации – особенно важные темы для радикальных реформаторов66. Так, на XXVII съезде партии (февраль 1986 года) Горбачев впервые заговорил о необходимости «радикальной реформы» [Горбачев 1987–1990,2:212]. В июле 1986 года он приравнял перестройку к «настоящей революции» [Горбачев 1987–1990, 4: 37]. Как и прежде, однако, оставались неясными конкретные политические меры, которые должны были вытекать из этих принципов, а то, что они обрамлялись более традиционалистской риторикой, позволяло пуританам и технократам чувствовать меньшую угрозу со стороны радикальных фраз, чем это могло бы быть в противном случае.
Например, на XXVII съезде КПСС Горбачев заявил: «Всякая перестройка хозяйственного механизма <…> начинается с перестройки сознания, отказа от сложившихся стереотипов мышления и практики, ясного понимания новых задач» [Горбачев 1987–1990, 3: 217]. Пуритане могли понять это в том смысле, что чистка коррумпированных кадров и усиление просветительской работы партии среди рабочих являются предпосылками для изменений в институциональной структуре. Таким образом, «революция» Горбачева могла быть истолкована как революция культурная, а не политическая, как революция, направленная против привилегий партийного аппарата. Кроме того, в своих выступлениях в марте-апреле 1985 года Горбачев часто ссылался на патерналистскую роль партии как воспитателя советских людей. В своей речи после избрания генеральным секретарем, например, он утверждал, что углубление социалистической демократии неразрывно связано с повышением общественного сознания:
Мы и дальше обязаны расширять гласность в работе партийных, советских, государственных и общественных организаций. Владимир Ильич Ленин говорил, что государство сильно сознательностью масс. Наша практика полностью подтвердила этот вывод. Чем лучше информированы люди, тем сознательнее они действуют, тем активнее поддерживают партию, ее планы и программные цели [Горбачев 1987–1990,2: 130–131].
Это явно было заявление представителя элиты, которое слушатели в Центральном комитете легко могли истолковать как гарантию того, что изменения, хотя и необходимы, не оспаривают ведущую роль партии.
Несмотря на такие уверения, постоянное присутствие реформаторских фраз в речах генерального секретаря могло иметь далекоидущие последствия для идеократического режима67. Эти фразы подразумевали негласный отказ от самоуспокоительных доктринальных формулировок, которыми ранее оправдывались неизменность и стабильность (или то, что Горбачев назвал «застоем»). Тем самым они открыли интеллектуальное и политическое пространство для реформаторов в журналистском сообществе, академических кругах и среди культурной интеллигенции, которые могли теперь публично участвовать в дебатах об альтернативах брежневизму. Они позволили потенциальным политическим активистам ссылаться на заявления генерального секретаря как на политическое прикрытие для рискованных усилий по расширению границ дозволенного в публичных обсуждениях и сообществах. На этом раннем этапе своего правления Горбачев осторожно приоткрыл публичное пространство (и обеспечил ему прикрытие), сочетая традиционалистскую и реформаторскую риторику, но проводя в основном традиционалистскую политику. Он бросал вызов формальным доктринам брежневизма, но еще не оспаривал примат частных арен власти и не вызывал у пуритан и технократов в руководстве тревоги по поводу потенциально опасных последствий того, что должно было произойти.
Приведем другой пример. На этой ранней стадии Горбачев еще не рассматривал гласность как самоцель. Скорее он определял ее как инструмент, необходимый для разоблачения бюрократов, скрывающих свои должностные злоупотребления или некомпетентность. Гласность была необходимым прожектором, и теперь ее нужно было усиливать. Он также называл ее механизмом, с помощью которого партия повысит доверие масс и тем самым побудит их внести свой вклад в реализацию партийных целей. Но он еще не переступил черту между элитарностью и популизмом; центральным властям все еще нужно было контролировать масштабы и направленность «открытости». Это проявлялось в том, как Горбачев сочетал гласность с традиционными, элитарными концептами68. Так, в июне 1986 года на частной встрече с членами Союза писателей Горбачев призывал их не делать вопрос о Сталине центральным элементом в своем определении гласности. Зачем тратить всю свою энергию на споры о прошлом, спрашивал он, когда нужно сконцентрировать наше внимание и энергию на настоящем и будущем? [Gorbachev 1986]. Здесь Горбачев также делал упор на осторожность и на то, чтобы представить себя лидером, способным уравновесить и урегулировать противоречивые интеллектуальные программы, политические ориентации, интересы различных классов и поколений.
Для режима, который пытается легитимировать себя, ссылаясь на священное идеологическое наследие, важны слова. Население может не верить в догматы данной идеологии, но постоянная защита этих догматов режимом призвана сигнализировать о коллективной неуязвимости чиновничества. Когда лидер хочет существенно изменить положение вещей, он может мобилизовать в поддержку своих усилий новые источники, изменив догмат и тем самым обозначив, что представители установленного порядка – а возможно, и сам этот порядок – больше не являются неуязвимыми. Именно об этом сигнализировала антисталинская кампания Хрущева. Это также объясняет, почему для консервативного режима Брежнева было так важно положить конец антисталинской кампании и ввести в оборот новые доктринальные формулировки, чтобы заново защитить установленный порядок. Горбачев последовал примеру Хрущева, а не Брежнева, хотя на тот момент в менее конфронтационной манере. Но в 1980-х годах, как и в 1950-х, за дело взялись журналисты, ученые и критически настроенная интеллигенция.
Похожая картина наблюдается и в международных отношениях. В начальный период своего правления Горбачев подготовил идейную почву для последующих внешнеполитических инициатив. Мы видели, что с декабря 1984 по февраль 1985 года он уже обозначал свою связь с «новым мышлением» и другими концепциями, ставшими предвестниками более гибкой позиции в международных делах. Это не изменилось в течение первого года его пребывания в должности, хотя его политика оставалась осторожной, а риторику можно было истолковать двояко. Например, на XXVII съезде партии в феврале 1986 года он назвал войну в Афганистане «кровоточащей раной», тем самым став первым советским генеральным секретарем, давшим публичную критическую оценку этой войны [Горбачев 1987–1990, 3: 251]69. Тем не менее в его комментариях по поводу отношений между Востоком и Западом на том же XXVII съезде решительный акцент на достижении согласия сочетается со столь же решительным осуждением «американского империализма»70.
Точно так же осторожно и двусмысленно Горбачев действовал в отношениях с коммунистическими правительствами Восточной Европы. Через месяц после своего избрания генеральным секретарем он подтвердил основные принципы «доктрины Брежнева» (санкционирование применения Советским Союзом силы для предотвращения свержения социализма), говоря в своем выступлении о продлении действия Варшавского договора71. Однако в том же месяце он, как сообщается, в частном порядке говорил некоторым восточноевропейским руководителям, что СССР их не спасет, если народ их отвергнет72. В 1985–1986 годах Горбачев очень редко обращался к проблеме Восточной Европы, концентрируясь на других вопросах. Но в своей речи на XXVII съезде партии он не поддержал доктрину Брежнева или связанные с ней концепции, а вместо этого сформулировал видение более согласованных отношений СССР с Восточной Европой73. Аналогичным образом, в выступлении перед сотрудниками Министерства иностранных дел в мае 1986 года Горбачев настаивал на необходимости более уважительного отношения Советского Союза к Восточной Европе [Brown 1996: 242].
Концепции, которые Горбачев поддерживал тогда в своих выступлениях как на съезде, так и в МИДе, были гораздо менее радикальными, чем те, которые он сформулирует позже. Они напоминали новации, введенные Хрущевым на аналогичном этапе своего правления, когда он тоже пытался преодолеть наследие прошлого в виде основанного на силе господства и отчуждения в советско-восточноевропейских отношениях, надеясь поставить эти отношения на основу кооперации и консенсуса, но без поощрения антикоммунистических тенденций. Действительно, Хрущев и Горбачев на первых этапах своего правления, возможно, разделяли оптимистическую веру в то, что в отношениях СССР с Восточной Европой может быть достигнуто промежуточное стабильное равновесие, такое, которое не повлекло бы за собой ни основанного на силе советского господства, ни вынужденного отказа СССР от доминирования74.
Примечательно также, что Горбачев на данном этапе мало что сделал для снижения темпов роста советского военного бюджета. Он даже увеличил советскую военную помощь некоторым странам третьего мира и на короткое время усилил советское военное наступление в Афганистане, хотя бы для того, чтобы улучшить позицию СССР на переговорах о выводе войск [Garthoff 1994: 727]. Он не отступил от стратегии своих предшественников, предлагая постепенные уступки Советского Союза в переговорах по контролю над вооружением и требуя эквивалентных взаимных уступок от Соединенных Штатов. Все же он встретился с президентом Рейганом в Женеве (октябрь 1985 года) и Рейкьявике (октябрь 1986 года), тем самым нарушив объявленную советским правительством решимость избегать таких встреч до тех пор, пока Соединенные Штаты не откажутся от своей СОИ (Стратегической оборонной инициативы). Хотя на этих двух саммитах не было принято никаких конкретных решений, Горбачев и Рейган произвели друг на друга хорошее впечатление, и Горбачев после этого почувствовал себя более свободным для того, чтобы поддержать идею полной ликвидации ядерного оружия, а также принцип инспекции на местах. Таким образом, как во внешней, так и во внутренней политике Горбачев придерживался традиционных подходов и готовил почву – в идейном и политическом плане, но в меньшей степени в плане действий – для более радикальных инициатив в будущем.
1986 года связывал гласность с «критикой и самокритикой» в качестве предпосылок для движения вперед [Горбачев 1987–1990, 3: 352]. Гласность в выступлениях Горбачева становится самоцелью только начиная с января
1987 года [Горбачев 1987–1990, 4: 358]. [Вполне вероятно, что ядерная катастрофа в Чернобыле в апреле 1986 года послужила толчком для последующей радикализации Горбачевым гласности и политической реформы. – Комментарий автора, 2021 год.]
Начислим
+20
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе