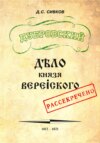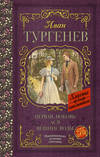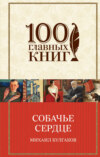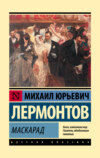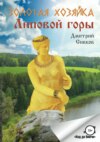Читать книгу: «Дубровский. Дело князя Верейского», страница 3
IX
Сам Верейский считал, что если разведчик берётся за оружие, это явная недоработка или того хуже – провал. Их задача – ставить капканы, а не устраивать канонаду при облаве на волка. Хотя и одобрял готовность помощника к любому развитию событий. Тот всегда был начеку.
Бумаги, передаваемые осведомителями и агентами, князь никогда не хранил при себе. Документы тут же перекочёвывали в тайник, оборудованный в мольберте Алексея Иванова, всегда находившегося где-то поблизости. Оказалось, Толстой и в самом деле владел кистью, к чему его ещё в детстве пристрастил гувернёр-француз.
В Париже деятельность князь развернул широкую. За короткий срок ему удалось создать сеть информаторов в правительственной и военной сферах Франции. Идеи здесь не работали, а лишь деньги, и деньги немалые. Самой большой удачей стала вербовка сотрудника военного министерства Мишеля. Этот чиновник имел доступ к целому ряду сверхсекретных документов, включая донесения о состоянии русской армии.
Особую важность являл доклад, составляемый каждые пятнадцать дней на основании рапортов командиров частей. Доскональное описание положения дел французской армии готовили только в одном экземпляре для самого императора. Но прежде чем этот документ ложился на стол Наполеона, его копия оказывалась в мольберте одного русского художника. Так что Бонапарт знакомился с документом одновременно с российским послом, после чего тот незамедлительно отправлял дипломатическую почту в Санкт-Петербург.
X
Мещанин Иванов ни разу не подвёл, всегда оказывался в нужное время в нужном месте. При этом нередко проявлял находчивость и смелость, в его действиях не было определённой схемы. Отчасти ещё и поэтому слежка французской контрразведки за Верейским не дала результатов. Нельзя было не проникнуться симпатией к этому человеку. Хотя для того чтобы сойтись близко, у них не было ни условий, ни времени. Тем не менее князю иногда казалось, что они могли бы подружиться, будь ровесниками или при других обстоятельствах.
Знать французской столицы благосклонно отнеслась к русскому князю, к тому же, пусть и дальнему, потомку императоров Византии. Он хорошо разбирался в живописи и литературе, мог живо судить и о премьере в Комеди Франсез, и о новостях из-за океана о Томасе Джефферсоне. Верейского охотно принимали в доме сестры Наполеона Каролины – королевы Неаполитанской. Другую сестру императора, красавицу Полину Боргезе, версальские сплетники записали ему в любовницы. Мало того, огненная драма на балу у австрийского посла, князя Шварценберга, сделала князя героем. Тогда в апогей раута во дворце случился пожар. Русский дворянин, в отличие от большинства находившихся в здании мужчин, действовал решительно. Вдвоём с оказавшимся неподалёку русским художником они спасли немало людей, в том числе жён маршалов Нея и Дюрока.
XI
В глазах высшего света Парижа князь обрёл репутацию человека образованного и храброго. Это с одной стороны. С другой —легкомысленного ценителя удовольствий, к тому же записного волокиту за хорошенькими женщинами. С таким не обязательно держать себя в жёстких рамках приличий и быть всегда начеку. Всё это играло князю на руку и облегчало доступ к важной информации и вербовку информаторов.
Французская контрразведка не могла не заинтересоваться такой особой как Верейский. За ним приставили филёров, подсылали ложных информаторов, но тщетно. Василий Михайлович ни разу не прокололся и не купился на эти уловки. Хотя для силовиков доказательная база – дело третье, они больше полагаются на внутреннюю убеждённость в том, что кругом лишь враги. Министр полиции Савари особо невзлюбил князя и стал искать возможность удалить его из Парижа. Для этого он даже инициировал статью в газете «Журналь де Деба», где недвусмысленно звучала мысль, что этот русский дворянин – шпион.
И хотя улик против Верейского французским контрразведчикам раздобыть не удалось, стало понятно, что это лишь дело времени. Потому-то военный министр и принял решение отозвать своего одного из самых ценных агентов.
X
I
I
Для Верейского приказ Барклая де Толли не стал неожиданностью. Он и сам понимал, что настойчивое внимание Савари добром не кончится. Князь объявил ближнему кругу парижских знакомых о болезни матушки – на самом деле покойной уже полвека, и незамедлительно отбыл. Всю дорогу до российской границы его не оставляла тревога. Ничего конкретного, но томило ощущение, что при отъезде второпях им допущена какая-то оплошность. Любой неосторожный шаг мог обернуться ордером на арест, а кому-то и стоить жизни.
Иванов-Толстой присоединился к шефу уже после Варшавы. Восстановленное по итогам Тильзитского договора польское государство в виде Герцогства Варшавского де-факто находилось под французским протекторатом. Так что забывать о мерах конспирации на территории Польши не следовало.
Только миновав будку пограничной стражи, князь впервые обратился к Толстому по-русски и по настоящему имени и отчеству:
– С возвращением на Родину вас, Фёдор Иванович!
Тот в ответ лишь кивнул головой, пробурчав что-то вроде «благодарюивастоже», и закрыл глаза.
Василий Михайлович обдумывал доклад на имя Барклая де Толли. В нём он непременно укажет, что рядовой Преображенского полка Толстой зарекомендовал себя лучшим образом: дисциплинированный, храбрый и инициативный. Благодаря этим качествам ему удалось способствовать помощнику министра по особым поручениям в успешном выполнении его задач. Вывод – рекомендовать для восстановления в офицерском звании.
Всем нам в небесной канцелярии нет-нет да и дают шанс исправить какие-то свои ошибки. Так заплутавшего в лесу охотника случай приводит к тропке, ведущей на большак. Но большинство слепы и глухи к знакам или хуже того – не ценят открытые им возможности. Князю хотелось верить, что его помощник не из таких.
У «Ивана Ёлкина»
I
Толстой открыл глаза, как если бы мысли попутчика явились ему наяву. Мельком, словно дама в стеклянную витрину третьеразрядной шляпной лавочки, глянул в мутное оконце и потянулся. От души. Натужный звук не уступил бы тому, с коим дюжий канонир вытягивает «единорог» из склизкой ловушки прусской грязи. Упражнение отозвалось в большом здоровом теле приглушёнными раскатами грома.
Затихнув, «громовержец» нетерпеливо постучал по стенке кареты. «Тпру-у-у-у!» – немедля отозвался возница – русский мужик, севший на козлы на границе. Попутчики отошли до ветру. Остановка выдалась на краю рощи, за ней уже маячили окраины Брест-Литовска. Мужчины с облегчением изучали их сквозь ветви лип в бахроме молодых листьев. Толстой хмыкнул:
– Мы будто отливаем в строю Ольвиопольских гусар.
Князь оценил армейский юмор – гусары полка из резерва Дунайской армии носили доломаны зелёного цвета.
– Да вы и впрямь художник, граф.
По возвращении к карете рядом увидели ещё одну. Её пассажиры направлялись в обратную сторону – к границе. Лошади стояли по разные обочины тракта и тоже воспользовались санитарной остановкой по назначению. Около дымящихся кучек, оставленных их парой гнедых, попрыгивала стайка воробьёв.
– Смотрите, Василий Михайлович, до чего в России-матушке предпочтенье всему заграничному дошло, – шутя, но с ноткой досады сказал Толстой. – Даже воробьёв лошадиное дерьмо из-за кордона манит больше, чем родимое.
– Эка вы, Фёдор Иванович, загнули, – отозвался добродушно князь и добавил с улыбкой: – А потом, может, овёс у ляхов действительно слаще.
Граф ничего не ответил и первым забрался в карету.
II
– Эх, князь, вы всю жизнь по заграницам, – обратился к шефу помощник, как только они тронулись. – И вам сложно понять моё неприятие лизоблюдства российского дворянства перед Европой.
– Вот уж не ожидал встретить в вас такого патриота. Вы так органично вписались в европейскую жизнь… Впрочем, это может быть свойством натуры. Слышал, алеуты предлагали вам стать их вождём?
Американец лишь отмахнулся, не принимая лёгкого тона разговора:
– Дело не в этом. Я действительно знаю несколько языков, не стушуюсь в любом обществе… Но не забываю, кто я есть по рождению. Прежде всего Фёдор Толстой – русский человек! Да, в опере ценю итальянца Чиморозе, в балете – француза Дидло, в живописи – испанца Гоью… А вот слезу пустить могу лишь у икон Дионисия или от казачьей песни… При Фридланде у нас с войском атамана Платова как-то биваки соседствовали. Вот когда я душу отвёл! Даже карты забросил. Ходил вечерами меж костров, всё слушал пение донских молодцов. И наслушаться не мог…
III
Толстой умолк. Казалось, он мысленно напевает что-то, не смея дать звуку воли, и от этого имел сходство с бронзовым колоколом, чьё нутро лизнул растревоженный полусонным звонарём язык. Князь не решился нарушить молчаливого пения. Для него откровением стали и многословность, и сентиментальность записного бретёра. Никак его бравый помощник захандрил? Немудрено – на днях ему опять придётся вернуться к жизни разжалованного в рядовые гвардейского офицера. Когда тот снова заговорил, Верейский даже забеспокоился: уж не читает ли он его мысли?
– Не думайте, что я приуныл оттого, что вместо боливара буду опять носить солдатскую шинель…
Через паузу Толстой ухмыльнулся и помотал головой:
– Недолго мне в ней маршировать!
Князь вопросительно поднял брови, отчего лоб разрезала большая складка. Его помощник по-своему истолковал эту мимику:
– Я не про ваш доклад командованию, Василий Михайлович, речь завёл. Пишите в отчёте что должно. Не хватало, чтобы я ещё сам за себя хлопотал. Война не за горами. А уж в баталии-то я себе эполеты верну непременно. Если, конечно, голову не сложу прежде. Ну да бог не выдаст, свинья не съест.
IV
Казалось, Толстой хотел ещё что-то добавить, но оборвал речь, прислушиваясь к сказанному. Глаза его оживились:
– Кстати, насчёт поесть! Предлагаю, князь, отметить наше возвращение в Отчизну русским обедом. Никаких жульенов и страсбургских пирогов, а уж устриц – тем более! Знаю в этом городке одно местечко м-м-м… Ярославский купчишка один открыл. И ведь не прогадал! Кто напоследок, а кто по приезде вкусить русской еды желает. Отказа, уж как хотите, а не приму.
Верейский картинно поднял руки вверх. Граф, ободрённый этим жестом, хлопнул ладонью в стенку кареты, привлекая внимание, и громко спросил:
– Слышь, ездовая душа, знаешь, где трактир «Иван Ёлкин»?
– Как не знать, ваше высокблагородь!
– Вот и правь туда!
– Не извольте беспокоиться, доставлю в лучшем виде! Но-о-о-о, залётные, шевели копытами немытыми! – засуетился мужик, мечтая получить от барина на водку.
– Иван Ёлкин… Кто таков? – спросил с лёгкой иронией князь.
– О, вы не в курсе?! Сразу видно – наездами у нас. В России так кабаки называют. Мужики азбуки не знают, им хоть какую вывеску напиши – один чёрт ни бельмеса. Целовальники и докумекали еловую ветвь над входом приколачивать. Не накладно, и лапти дорогу знают. Вот этот ярославский и решил так свой трактир назвать. Умно.
V
Карета с моста скатилась в незамысловатый лабиринт улочек Брест-Литовска. Форпост на западной границе Российской империи вошёл в её состав семнадцать лет назад при третьем разделе Речи Посполитой. К тому времени славные дни некогда торгового и ремесленного города канули в Лету, как сорвавшийся с удочки жерех в Западный Буг.
А всё опустошительные войны XVIII века: разрушенные здания уже не отстраивались, горожане побогаче съезжали в более спокойные места. Хотя с вхождением в состав России брестчане немного ожили: заработали суконная фабрика, винокуренный и маслобойные заводы… По улицам заскрипели подводы возвращенцев. Всё же Брест-Литовск можно было назвать типичным уездным городишком на полтысячи дворов. Обособляла его лишь приграничная атмосфера. Она не имела явных отличий, но незримо ощущалась во всём, даже в том, как цепные псы лаяли на бродячих: дежурно – для устава.
Но если где-нибудь на Рязанщине главной достопримечательностью уездного центра могла слыть огромная лужа, то здесь высились остатки пятиугольного Брестского замка. Верейский знал, что разрабатывались проекты по его реконструкции и возведению новых фортификационных сооружений. Теперь всё это зависело от исхода нашествия французских армий.
VI
Трактир оказался большим рубленым домом на манер избы. Одна из редких новостроек в городе выбивалась из его архитектуры европейского захолустья. Выглядело так, как если бы драгун нижегородского полка затесался в строй гусар маршала Нея. Среди внутреннего убранства главенствовали столы и лавки. Мебель в стиле а ля русс между тем была добротной. Такую не одним топором ладили в соседней улице, видно, что руку приложили истинные мастера. Получился не лубок, а изысканная стилизация. Хозяин не поскупился на обустройство, вышло так, что и гоголем прошёлся, и лицо сохранил. Толстой приветствовал его вопросом:
– А чего ты, Устин, еловых веток не приколотишь над дверью, как водится в России?
– Не к душе это. У нас, ярославских, лапник по дороге на погост за гробом кидают, – ответил трактирщик и мелко перекрестился.
Гостям поднесли две большие рюмки хлебного вина двойной очистки. К ним на серебряной тарелке – квашеной капусты с двумя вилками и ржаным хлебом на липовой узорчатой дощечке.
– С прибытием вас в Отчизну, господа! Пусть ваши дела идут слава богу! – трактирщик сказал это буднично, как деревенский поп на свадьбе.
– Вот теперь вижу, что признал меня, каб-бацкая твоя душа! – оживился Толстой.
Без церемоний он махом опрокинул рюмку и с прищуром ткнул вилкой в капусту. Приподнял руку и задержал её на весу, радостно оглядывая отливающие золотом масла белёсые пряди в веснушках семян аниса и в перламутровых искрах мелкорубленого лучка и тут же с наслаждением отправил всё это великолепие в рот. Верейский глотнул слюну и немедля потянулся к рюмке.
VII
– Как же не признать господина хорошего, – чуть обождав, залопотал хозяин. – Не каждый день сверх счёта четвертную кладут.
Князь, услышав это, даже прекратил жевать.
– Нет, Василий Михайлович, это не то, что вы могли подумать. Никаких кутежей. Как можно?! Всё-таки не за буклями в Париж ехал. А на чай оставил, так… На удачу, можно сказать. Ведь не знал, что и кто ждёт за кордоном.
– Подтверждаю, всё чинно-благородно с их стороны было-с.
Князь помягчел лицом и заработал челюстями. Затем не удержался и спросил, глядя на то, как Толстой с аппетитом подчищает капусту.
– Где же вы, Фёдор Иванович, к такой незамысловатой пище-то пристрастились? Явно не в родительском доме.
– Не поверите – в Российско-американской кампании. Вот вы улыбаетесь, а между тем никакого отношения к моему прозвищу это не имеет. Управляет тамошней канцелярией Кондратий Фёдорович Рылеев, мой хороший приятель. Так вот он и завёл у себя «русские завтраки», на них подавали очищенное хлебное вино, кислую капусту да ржаной хлеб.
– Понятно теперь, почему Аляска остаётся необжитой.
– Напрасно, Василий Михайлович. Рылеев образованный и весьма деятельный человек. Только в этакую даль дальнюю, уж поверьте знающему человеку, колонистов толковых сосватать – большая проблема. А от сброда и проку никакого… А насчёт «русских завтраков» – так ведь кто только не съезжался к Кондратию на Мойку: и знатные особы, и литераторы, и дамы света не брезговали. Но я вас одной водкой да капустой с хлебом потчевать не собираюсь.
VIII
Толстой подозвал жестом хозяина, дающего в стороне круги соколом над лебяжьим выводком:
– Ну, сказывай, Устин, чем потчевать намерен?
– На закуску балычок рекомендую. Намедни только получили… На цвет – янтарь как есть: хоть в оправу вставляй да девок одаривай.
Граф выразительно посмотрел на князя – мол, каков экземпляр! Тот одобрительно улыбнулся.
– Икорка само собой: белужья зернистая – икринка к икринке – да паюсная ачуевская-кучугур с распахом – на срезе каждая икринка пополам аккурат, как если бы яблоко какое. Рыжики солёные имеются. Еловые. Дух такой, что зажмурюсь – и как будто у себя в ярославском лесу окажусь… Под это дело зубровка хороша будет. Сами настаиваем из полугарного хлебного вина и медком её липовым смягчаем. Катится, как салазки в Рождество…
– Полугарное? – князь, имеющий мало языковой практики, всякий раз спрашивал значение незнакомых ему слов.
– Это у нас ещё Петр Первый завёл так испытывать на качество хлебное вино, – отозвался граф. – Зажгут меру, и несгоревший остаток должен составлять ровно половину от того, что было. Отсюда и название – полугарное.
Ободрённый кивком Толстого, ярославец продолжил:
– Следом селяночку – со стерлядкой. Вчера ещё в Днепре плескалась, нагулянная – жирники злато и только! Глянешь в тарелку – так словно кто империалов сыпнул. Тут же расстегайчики с судачком да печёнкой налимьей…
IX
Рядовой Преображенского полка хлопнул ладонью по массивной столешнице, не дав трактирному златоусту довести речь до конца:
– Вот что он творит, Василий Михайлович, а?! Так ведь и слюной изойдёшь, пока дослушаешь до конца. Подавай уже, ирод! Ну и всего, чего ещё полагается…
Хозяин, довольный такими словами, кивнул половому, и тот метнулся на кухню.
– А поросёнок молочный есть ли? – не удержался от дальнейших расспросов Толстой.
– Как не быть! Изволите понежней – со сметаной? Или румяного? Это так, чтобы корочка с хрупостинкой, для того водочкой смочить…
– Давай уж с этой самой хрупостинкой твоей! Да и смотри, чтобы на блюде, непременно целиком.
Устин удалился, только завидев двух половых. Молодцы несли на вытянутых руках большие подносы, каждый величиной с колесо телеги. На них уже что-то дымилось в порционных сковородочках в окружении серебряных жбанчиков с икрой и фарфоровых тарелочек, уложенных ломтиками провесной, нарезанной в толщину ассигнаций ветчины и ещё – сразу даже и не разберёшь – чем-то. Дополняла этот натюрморт золотобокая тыква с бременем неженских солёных с хреном и смородиновым листом огурчиков.
– Да осилим ли всё, Фёдор Иванович? – шутливо взмолился Верейский. – У нас ведь с вами желудки не малороссийских помещиков.
– А это ничего, Василий Михайлович. Мне и полюбоваться на родную пищу отрадно. Где не живот, там глаз порадуется. Не каждый день.
X
Когда нахлынувший разом от услышанного и увиденного приступ голода ретировался под стремительным натиском закусок, беседа возобновилась. Теперь слово держал Верейский:
– Надо признать, всё действительно вкусно, – он указал на яства перед ними. – Хотя для меня всё это не имеет иной ценности, кроме гастрономической. Моих предков вынудили покинуть родину ещё при Иване III. Польский король и великий князь литовский Казимир IV обласкал беглецов. Как-никак – Рюриковичи! Ведь мой полный тёзка приходился внуком Дмитрию Донскому. На случай войны с Москвой такого валета в колоде претендентов на трон можно было удачно разыграть. Король наделил предка уделом в Смоленском воеводстве. То поместье до сих пор остаётся за Верейскими. В состав Российской империи земли вошли ещё при Алексее Михайловиче, но подлинно русскими они так и не стали. Смоленское дворянство лишь недавно перестало именовать себя шляхетством. Как и читать польские книги, и жён себе брать из Польши, а не из России. Сам же я большую часть зрелой жизни провёл в Европе. По крайней мере, с её кухней и нравами я знаком больше, чем с теми, что бытуют у дворян в русских губерниях.
Князь сделал знак половому, тот наполнил рюмки.
– Так что хочу поблагодарить вас, Фёдор Иванович, за столь наглядный и аппетитный урок русской культуры! Надеюсь, когда-нибудь смогу отплатить чем-то подобным.
– Почту за честь, Василий Михайлович.
Чоканье отозвалось тонким звоном богемского стекла. Это звук с вывертом – так отзываются в человеческих душах надежды, ведь наполнены рюмки были не только полугарным хлебным, но и ожиданиями, верой и мечтами.
Совещание в кадетском корпусе
I
Совещание агентов военной разведки Барклай де Толли изначально думал организовать в расположении одного из гвардейских полков. Казармы для них стали возводить в столице ещё при отце нынешнего императора – Павле Петровиче. До великого гвардейского переселения элитные части дислоцировались в слободах – деревянные избы в окружении огородов на весьма обширных территориях. В этих военизированных деревнях разве что пахарей было не встретить, да улицы различались по номерам и назывались то линиями, то ротами.
Теперь, после возведения на месте слобод казарм в два-три этажа, размещение гвардейцев оказалось довольно компактным. К тому же новые здания ничем не выделялись на фоне традиционной петербургской архитектуры и имели присущий стилю классицизма жёлтый цвет и белые колонны. Так что несведущий человек лишь по обилию мундиров вблизи этих зданий мог догадаться, что они какого-то особого, военного назначения.
Дислокация гвардейских частей включала в себя и жилые помещения для нижних чинов, и квартиры для офицерского корпуса. Здесь же были плац, офицерское собрание, баня, лазарет, склады различного назначения, мастерские и хозяйственные помещения, огороды и конюшни. И обязательно – церкви: в элитных полках они возводились большие, доступные и гражданским лицам, в частях попроще – внутри зданий.
Данная обособленность размещения гвардейцев отвечала режиму секретности предстоящей встречи.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе