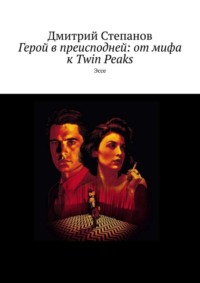Читать книгу: «Герой в преисподней: от мифа к Twin Peaks. Эссе», страница 3
Рыцарь в преисподней
Мотивы романного сюжетосложения, намеченные в «Метаморфозах» Апулея – странствия одинокого героя во враждебном мире, воспитание героя жизнью, познание им мира и самого себя, – в полной мере выразились в средневековом рыцарском романе, созданном на фундаменте кельтской мифологии и фольклора.
Композиция рыцарского романа строится как серия приключений-испытаний героя. Для рыцарского романа, так же как и для героической сказки, характерны странствия в чудесных иных мирах, поиски противника и обидчиков, а также чудесных объектов, часто ради выполнения трудных задач, освобождения и спасения похищенных или плененных красавиц, поединков с соперниками, чудовищами. Героическое сватовство также находит место в рыцарском романе, как, например, в романах Кретьена де Труа (женитьба Эрика, Клижеса, Ивена, вероятно, и Персеваля, как это описывается у Вольфрама фон Эшенбаха). В «Рыцаре Телеги» брак заменен мотивом любовного свидания, а в «Тристане и Изольде» – устройством брака для другого и любовными свиданиями.

Рыцарь, Смерть и Дьявол. Картина Альбрехта Дюрера.
По словам Елеазара Мелетинского, «переход от кельтской мифологической и героической сказки (может быть, отчасти античной, если придавать значение античному влиянию) к французскому, а затем и немецкому рыцарскому роману явно сопровождается нейтрализацией мифологического фона: хтонические демоны превращаются в „черных“ и „красных“ рыцарей, обижающих сирот и одиноких женщин, хозяйки местностей и водных источников становятся владелицами замков, сиды (феи) – капризными и обольстительными девицами, привратники преисподней – уродливыми пастухами, странными калеками или карликами, райский остров женщин превращается в замок чудес, а культурные герои-полубоги – в идеальных рыцарей короля Артура».
Важно подчеркнуть, что образы кельтской мифологии были переосмыслены в рыцарском романе в контексте куртуазного культа Прекрасной Дамы. Любовь к последней определяет все поступки героев поэзии трубадуров («сама Любовь приказ дает»), придает смысл самой их жизни. Соответственно, в рыцарском романе именно любовная тема является лейтмотивом. Герой средневекового романа, в отличие от героя классического эпоса, движим не столько соображениями чести и долга, сколько собственными внутренними переживаниями. Для героя рыцарского романа любовь может оказаться выше чести (Ланселот); любовь может лишить героя воли (Эрек из романа Кретьена де Труа) или разума (Тристан).
Герой рыцарского романа движим внутренними мотивами. Разумеется, это еще не те сложные душевные переживания, которые позднее найдут свое выражение в психологическом романе. В поведении идеального рыцаря не трудно обнаружить и представления о чести и долге, и страстные порывы, и христианские добродетели, и мифологические мотивы. Все это сочетается в одном герое – особенном герое, исключительность которого задается уже не его причастностью «иному миру», но его иным душевным складом. Он противопоставляет окружающему его миру свой собственный поэтический мир (от такого героя один шаг к Дон-Кихоту и Гамлету, князю Мышкину и Холдену Колфилду).
Пытаясь описать душевный мир одного из таких героев, А. Д. Михайлов отмечал, что Тристан – «рыцарь и охотник, поэт, музыкант и актер, навигатор и фармацевт, архитектор и художник, шахматист и полиглот… Что еще отличает Тристана? Это неудовлетворенность. Вернее, постоянное стремление к новому, неизведанному, опасному. Ему как бы тесно в рамках обычной повседневности, обычных человеческих норм… Незаинтересованность, бескорыстное подвижничество героя отличают его всю жизнь… Действительно, Тристан побеждает герцога Моргана, но не вступает во владение отвоеванными у узурпатора землями; он отдает их Роальду Твердое Слово и больше о них не вспоминает. Не вспоминает даже тогда, когда его вынуждают покинуть двор Марка. Он ищет пристанище на чужбине – в Польше, Испании, Бретани, – но не в родном гнезде. Из великодушия и безрассудной удали вступает он в бой с Морхольтом, ничего не требуя в награду. Он сражается с драконом, побеждает его и – вот вершина его бескорыстия – отдает завоеванную невесту другому. На службе у Бретонского герцога, отца Изольды Белокурой и Каэрдина, он опять-таки не ищет ни славы, ни достатка. Сколько героев куртуазной литературы увенчали цепь своих рыцарских подвигов браком с прекрасной и богатой принцессой, сколькие из них возвращали себе престол своих предков, где начинали королевствовать со своей милой подругой. Тристан – иной… важно отметить его исключительность. В этой исключительности некоторые исследователи, например М. Казенав, видели основу конфликта легенды: Тристан, по их мнению, как бы принадлежит иному миру, у него иные жизненные принципы, иная мораль, иное представление о добре и зле. И в этом смысле оказывается символичным лечение Тристана Изольдой: „иной“ герой, пораженный „иной“ силой, может быть вылечен только „иными“ руками».

Тристан и Изольда с ядом. Картина Д. У. Уотерхауса. 1916 г.
Трубадуры не только создавали подобных исключительных героев, живущих в их «поэтическом» мире – мире сказок, видений и снов, – но и сами пытались казаться таковыми. Свою «инаковость» – чуждость обыденному миру и приобщенность поэтическому – они выражали посредством традиционного «священного безумия». Так, жизнеописание Пейре Видаля (ок. 1183 – 1204) изобилует множеством чудачеств, среди которых выделяется история – самая популярная из всех провансальских жизнеописаний трубадуров – «о том, как, будучи влюблен в даму по имени Лоба де Пуэйнаутьер (Лоба по-провансальски – «волчица»), Пейре Видаль ради нее назвался волком и носил волчий герб и, облачась в волчью шкуру, чтобы представить себя перед пастухами и собаками волком, дал им на себя охотиться, и в результате бездыханным был снесен в дом Лобы… Рассказ этот… надо интерпретировать в связи с глубинными мифологизирующими мотивами, сближающими образ поэта со сферой магического, потустороннего, с которой он вступает в отношения путем такого «оборачивания»… приведенные куртуазные анекдоты, без сомнения, не были придуманы биографом Пейре Видаля в тринадцатом веке, но восходят к слухам и историям, ходившим о Пейре при его жизни. Это подтверждается общей репутацией Пейре в куртуазных кругах, как безумца… Возможно, как полагает А. А. Смирнов, что «поэт, не будучи сумасшедшим, притворялся чудаком для увеселения своих высоких покровителей, как бы разыгрывая роль шута. Таким способом легко было бы объяснить, кроме разыгрывания роли императора, и другие эпизоды биографии: похищенный поцелуй, экстравагантную форму траура, переодевание волком»… Вспомним, кроме того, что в куртуазном универсуме категория безумия (foudatz) приобрела положительное значение еще со времен «первого трубадура».
Безумны герои рыцарского романа. Безумны от любви. Ивэйн, в пылу рыцарских забав позабывший о своей чудесной жене, встречает вестницу последней и слышит от нее проклятие. Рыцарь сходит с ума: «В нем вихрь жестокий бушевал. Одежду рыцарь в клочья рвал. Ткань дорогую раздирает, Рассудок на бегу теряет. Бежит в безумии бегом. Поля пустынные кругом, Кругом неведомая местность». Это безумное одичание героя мифологически восходит к шаманской инициации, но в романе Кретьена де Труа оно уже лишено мифо-ритаульных содержаний. Последние еще присутствуют в аскезе Мерлина, описанной Гальфридом Монмутским: «Тою порою, как Мерлин бессчетными стонами воздух Полнил, безумье его обуяло: покинув украдкой Всех, в леса он бежал, чтобы люди его не видали… Стал он лесным дикарем». Но в рыцарском романе инициационный аспект уже подменен эротическим безумием.

Ланселот и Гвиневра. Картина Ньюэла Уайета.
Неистов Ланселот – безумен от любви, – рвущийся спасти королеву – даму своего сердца: «Он забыл самого себя, не знает, существует он или не существует. Он не помнит своего имени, не знает, вооружен он или нет, откуда он пришел. Ни о чем не вспоминает, кроме одной вещи». Персеваль видит на снегу три капли крови, вспоминает свою возлюбленную и впадает в забытие. Два рыцаря бросаются на него; обоих он повергает наземь, продолжая созерцать капли крови. В лучах пригревающего солнца кровавые точки постепенно исчезают, и Персеваль медленно приходит в себя.
Поэтический мир средневековых поэтов создавался из сказочных и мифологических сюжетов. Разумеется, они были переосмыслены, но не настолько, чтобы лишиться своей мифопоэтической сущности. В романе о Ланселоте этот процесс выражен наиболее отчетливо. Ланселот безнадежно влюблен в жену короля Артура Гениевру (недоступная Прекрасная Дама трубадуров). Ее похищает чужеземный (инфернальный) властитель Мелеаган. Ланселот отправляется за ними в «позорной» телеге для узников («телега смерти»). Победив Мелеагана в поединке, рыцарь освобождает королеву и других узников тирана (воскрешает мертвецов).
Мифопоэтическая сущность подвигов Ланселота настолько очевидна, что у некоторых исследователей она ассоциативно связывалась с подобным христианским мифом о посещении преисподней Спасителем. Так, А. Л. Мортон воодушевленно писал: «Я не знаю ни одного автора, который обратил бы внимание и прокомментировал близкую созвучность произведений на тему о перепахивании ада и отдельных частей из «Ланселота» Кретьена де Труа, но близость между ними слишком бросается в глаза, чтобы быть случайной. Ланселот отправляется в поход на выручку супруги Артура и намеревается освободить всех пленников, заточенных Мелигантом (Мелльягонт у Мэлори) в его потустороннем мире. В эпизоде с поездкой на телеге, на которой возят преступников, он повторяет путь Христа на Голгофу. Он откатывает камень с могилы:
«… Чтобы водрузить его, нет сомнения, нужны семь мужчин, каждый из которых сильнее меня или вас. На этом камне начертано, что, кто один, без помощи со стороны сможет поднять его, освободит всех мужчин и женщин, томящихся в плену в стране, откуда нет исхода ни рабу, ни дворянину, если только он не родился в той стране. Никто и никогда не возвращался оттуда, все, кто попал туда, стали пленниками, томящимися в темницах для чужеземцев; а обитатели этой страны свободно покидают ее и возвращаются назад. Рыцарь без колебаний взялся за камень и поднял его легче, чем подняли бы десятеро, употребив на то всю свою силу»…
А затем освобожденные Ланселотом воздают ему хвалу, подобно тому, как воздавали хвалу Христу души, освобожденные им из ада. «Джентльмены! Вот он, кто избавляет нас от плена и страданий, на которые мы столь долго были обречены, и наш долг воздать ему высшие почести, ибо ради нашего спасения он подверг себя неисчислимым опасностям и готов пройти через еще большие».
Связь подвигов Ланселота с христианским мифом действительно не случайна. Она объясняется не влиянием апокрифической легенды на роман Кретьена де Труа, а мифопоэтической сущностью обеих историй. В образе Ланселота все еще присутствуют черты героя архаического эпоса – воина и шамана, – ведомого призывом «Умерших оживляй! Погибающих спасай!»

Ланселот поражает огнедышащего дракона. Картина Артура Рэкема. 1917 г.
Инициационной мифопоэтикой пронизан последний незаконченный роман Кретьена де Труа «Персеваль, или Повесть о Граале». Его герой – валлийский простак – видит в лесу рыцарей и принимает их за ангелов. Он решает стать рыцарем и с этой целью отправляется ко двору короля Артура (внезапный отъезд Персеваля стоит его матери жизни – посвятительный мотив разрыва с материнским началом). В дороге он совершает ряд «чудачеств», над его «святой простотой» насмехаются и при королевском дворе (сочувственно к нему относятся лишь девушка-«Несмеяна», которую он рассмешил, и пророчествующий шут). Совершив свой первый подвиг – одолев Алого рыцаря, Персеваль посвящается в рыцари Горнеманом де Гором, обучающим юношу воинскому искусству и куртуазному этикету. Наставник, в частности, дает ученику совет поменьше болтать (мотив инициационного молчания). Этот совет Персеваль принимает настолько серьезно, что в замке своей будущей дамы сердца Бланшефлор он ведет себя как немой, а в призрачном замке Грааля молчит, не проявляя сострадания к Королю-Рыбаку.

Персеваль в замке Грааля (книжная миниатюра).
Пребывание в замке Грааля может быть соотнесено с посещением иного мира – самым значимым элементом инициации. После приобщения сверхъестественному миру герой узнает свое имя – Персеваль-валлиец. Кузина героя поправляет рыцаря: настоящее его имя – Персеваль-несчастный (традиционный героический эпитет, ср. с возможной этимологией имени Одиссея или Тристана, возводимого к латинскому «tristis» – «печальный»); она же рассказывает ему о замке Грааля. Озадаченный Персеваль ведет жизнь странствующего рыцаря, спасая «униженных и оскорбленных», но все его помыслы о Граале. Когда другие рыцари говорят о своих грядущих подвигах и славе, Персеваль говорит иное («Percevax redit tot el»). Он «иной» герой, ведомый «иными» переживаниями, неведомыми рыцарям артурового круга, – мистическими переживаниями, характерными скорее для героев творцов европейского романтизма. От отшельника, к которому Персеваль приходит, «потеряв память и позабыв Бога», герой узнает истинный смысл того, что он увидел в замке Грааля, и путь, по которому ему следует идти, чтобы вернуться в чудесный замок и занять место Короля-Рыбака.
В средневековом рыцарском романе, открывшем внутренний мир человека – пусть и мифологизированный и поэтизированный душевный мир, – сформировались все особенности романа как жанра. По словам, Елеазара Мелетинского: «Превратности одинокого частного человека во враждебном мире – это исходная формула романа как жанра». Таковым был рыцарский роман, повествовавший о «странном» герое, сражавшимся с «чудовищами» поэтизированного «иного» мира. Приключенческий мотив рыцарского романа в дальнейшем получил развитие в галантном и авантюрном романе, инициационный мотив – в романе воспитания, мотив «священного безумия» – в психологическом романе. Подобно тому, как, из «гнева Ахилла», по общему мнению античных авторов, вышла греческая драма, из навеянного любовью «священного безумия» Тристана, Ланселота и других героев рыцарских романов появился европейский психологизм (его метаморфозы можно было бы проследить от романа «Принцесса Клевская» Мари Мадлен де Лафайет до «Толкований сновидений» Зигмунда Фрейда, связывавшего природу безумия (неврозов) с любовью (сексуальностью)).
Плут в преисподней
Наряду с рыцарским романом существенное влияние на роман нового времени оказал испанский плутовской роман. Появившийся в средневековье он обыгрывал все тот же мифологический мотив героя, странствующего по преисподней. Только героем плутовского романа был не «печальный» воин, спасавший погибающих и воскресавший мертвецов, а комичный пройдоха, пытавшийся обхитрить всех и вся (изначально такой плут пытался обхитрить смерть, позднее – хозяев царства мертвых, черта и, наконец, недостойных людей, погрязших в грехе, с которыми, согласно плутовскому наставлению, «надо быть хитрее самого черта»).
Уже в «Пополь-Вух» герои ведут себя как хитрецы, фокусами и превращениями одерживающими верх над владыками преисподней. В шаманских легендах кам нередко похищает душу человека у хозяев царства мертвых с помощью хитрости и плутовства. Первый собственно плут в преисподней античного мира – раб Ксанфий («Рыжий» – традиционная характеристика «солнечного» героя, так рыжеволосым представлялся Одиссей) из комедии Аристофана «Лягушки», спустившийся вместе со своим господином богом-трикстером Дионисом в Аид, чтобы вернуть из царства мертвых почивших великих поэтов, ибо «одних уж нет, а те, кто есть, – ничтожество» (литературное безвременье живо ощущал уже Аристофан).

Шут и смерть.
Автор сатирического «Путешествия в подземное царство» Менипп, высмеивавший нравы и представления своих современников, сам стал плутом в преисподней в сочинениях Лукиана Самосатского. Согласно «Разговорам в царстве мертвых», этот плутоватый раб, наряду с Диогеном, прозванным Платоном «обезумевшим Сократом», со смехом и по собственной воле вошел в царство смерти, чтобы вдосталь посмеяться над его обитателями: «Харон: «Откуда ты выкопал, Гермес, эту собаку? Всю дорогу он болтал, высмеивал и вышучивал всех сидевших в лодке, и, когда все плакали, он один пел». Гермес: «Ты не знаешь, Харон, какого мужа ты перевез? Мужа, безгранично свободного, не считающегося ни с кем! Это Менипп!»

Менипп. Картина Диего Веласкеса.
Через комедии Менандра, Плавта и Теренция плутоватый раб, бесправный неимущий, но безгранично свободный, проник в средневековый плутовской роман. Здесь он обогатился чертами фольклорного простака и хитреца – излюбленного героя анекдота и бытовой сказки и новеллы, приобрел национальный испанский колорит и социальный статус обездоленного пикаро (его низкое социальное положение определяет его мифопоэтическое одиночество, он – изгой, сирота). По словам Леонида Пинского: «Пикаро – босяк, бродяга, „сын праздности“ (Алеман), рыцарь социального дна, „искатель житейской удачи“ (Кеведо), ради которой он не брезгует никакими средствами. То он нанимается слугой, но, ни к кому не привязываясь, легко меняет хозяев, то ходит с „корзиной“, подносит покупки с рынка, то помогает на кухне… Временами он ворует, побирается, но это не профессиональный вор, не нищий… пикаро – вольная птица и не любит клетки. Продукт разложения корпоративного строя, он своего рода робинзоном проходит через мир, где все против него и он один против всех. Но это робинзон беспечный, живущий сегодняшним днем, не накопитель, а мот, картежник, шулер и порой, если улыбнется фортуна, франт, хотя чаще щеголяет в лохмотьях и питается чем попало. Вместе с тем он предприимчив, остроумен в проделках, нередко образован и по-своему воплощает модный идеал века – „инхениосо“ (человека с „идеями“). У него своя честь, которая не дозволяет ему заниматься каким-либо ремеслом. При этом ему, по словам плута Эстебанильо Гонсалеса, „плевать и на султана, и на персидского шаха, не говоря уже о чести дворянской“. „Настоящая жизнь – это жизнь пикаро“, полная превратностей и лишений, но зато праздная и независимая…»

Обложка «Гусмана де Альфараче».
Нижний мир архаических мифологий в испанском плутовском романе преобразился в мир социального дна. Мифопоэтически это все та же преисподняя, «страшный мир» всевозможных злодеев, воров, продажных женщин, безумцев, мошенников, священников и аристократов, погрязших в грехе. В «Гусмане де Альфараче» он описывается следующим образом: «Все идет наоборот (мир наоборот – традиционный образ преисподней – Д. С.), всюду подделки и обман. Человек человеку враг; всяк норовит погубить другого, как кошка – мышь или как паук – задремавшую змею: спустившись на паутинке, он впивается ей в темя и не оторвется до тех пор, пока ядом не убьет жертву.» В том же романе один из героев романа Матео Алемана произносит, что «ныне вся земля превратилась в сумасшедший дом… Говорят, что на свете остался лишь один человек в здравом уме, но пока не удалось установить, кто этот разумник. Каждый думает, что именно он, но другие с ним не согласны». Этот образ безумного мира (= преисподней) позднее получит развитие в творчестве романтиков, символистов, сюрреалистов и постмодернистов (характерен он и для третьего сезона «Twin Peaks»).
Плутовской роман описывает все то же странствие по преисподней, выраженное рационально – в декорациях испанской реальности XVI – XVII вв. Характерно, что на немецкий язык плутовской роман Матео Алемана «Гусман де Альфараче» перевел Эгидиус Альбертинус, автор свыше пятидесяти назидательных и устрашительных книжек, в том числе сочинения «Царство Люцифера и Охота за душами» (1617), где представил красочные картины пылающего ада и его отделений для различных пороков. Он же сочинил вторую часть немецкого «Гусмана», превратившую плутовской роман в назидательный. Очевидно, что в сознании Эгидиуса гармонично уживались приключения плута в «страшном мире» и странствия души в преисподней.
Мифопоэтическая сущность плутовского романа, впрочем, вызывала соответствующие ассоциации и у читателей XX века. Так, Н. Томашевский делился своими впечатлениями от прочтения «Дона Паблоса» следующим образом: «Кеведо создает мир инфернальный, отвратительный, населенный почти нечеловеческими существами. Одним словом, создает что-то похожее на фантазии Босха… Реальность „Паблоса“ – бесчеловечная реальность, призрачная, ирреальная, создающая тем не менее символ того общества, которое опустилось на последнюю ступень моральной деградации… Создавая этот абсурдный дьявольский мир, как бы купаясь в слове, он вдруг успокаивается, и горькая гримаса сменяется заразительным веселым смехом. Так с помощью изобретательной и живописной метафоры Кеведо моделирует причудливый свой мир, в котором реальные ценности приобретают иные пропорции и привычные границы стираются».
Стоит напомнить, что Франсиско де Кеведо является также автором цикла памфлетов, написанных в жанре «видений». «Сон о страшном суде», «Бесноватый альгуасил», «Сон о преисподней», «Мир изнутри» и «Сон о Смерти» описывают мир людей как преисподнюю, а преисподнюю – как мир людей. В одном из таких «видений» черт произносит с комическим возмущением: «… я хочу вам сказать, сколь огорчены мы тем, что вы нас какими-то чудищами изображаете, приписываете нам когти, хоть мы и не хищные птицы, хвосты – хоть есть черти и куцые; рога – хоть мы и холостяки, и безобразные бороды – хотя многие из нас могли бы сойти за отшельников и коррехидоров. Исправьте это, ибо не так уж давно побывал у нас Иероним Босх и на вопрос, почему он изобразил нас в своих видениях такими страшилами, ответил, что никогда не думал, что черти существуют на самом деле». Просьбе кеведовского черта и следуют авторы плутовского романа, изображающие «чертей» в реальном мире.
Уникальный случай подобной демифологизации «страшного мира» представляет собой творчество Николая Гоголя, в котором малоросская нечисть превратилась в великоросское чиновничество. Характерна в этом контексте концовка «Шинели» Гоголя: Акакий Акакиевич, пытавшийся вочеловечиться с помощью шинели, после смерти стал тем, кем был изначально, – призраком, выходцем из преисподней. Остается только удивляться глубине мифопоэтических прозрений Николая Васильевича!
Е. М. Мелетинский видел в плутовском романе мотивы инициации. Я полагаю, что применительно к пикарескному роману следует говорить скорее о комичной инициации или, если хотите, антиинициации. Во время своих злоключений плут не приобретает новых «чудесных» качеств; он не вписывается в мир людей (его женитьба, как, например женитьба Ласарильо с Тормеса, описывается комично, как очередная неудача), его достижения сомнительны. Плутовской роман изображает не путь приобщения героя миру, а путь отчуждения от него – отчуждения от преисподней. «Похождения Гусмана, – отмечал Л. Е. Пинский, – начинаются с того, как мальчиком он в сумерках покидает родной дом в Севилье и, обливаясь слезами, не видя ни неба, ни земли, бредет по дороге, голодный и одинокий, в „совершенно чужом мире“, где, как ему начинает казаться, он скоро „перестанет понимать язык окружающих“. Эти похождения завершаются сценой отправления на галеры; Гусман, уже пожилой человек, медленно шагает в наручниках по улицам Севильи, – даже родная мать не вышла его проводить, не пожелала его видеть. „был я совсем один, один среди всех.“ Но предела „одиночества среди людей“ он достигает на галере, когда, всеми покинутый и гонимый, на этот раз безо всякой вины, он подвергается чудовищным мукам и унижениям».
Мотивы инициационного становления проникают в плутовской роман позднее, когда пикареска, преобразуясь, начинает впитывать в себя элементы романа рыцарского. Процесс этот, завершившийся во французском «комическом» романе, выражен уже в «Симплициссимусе» Г. Я. К. Гриммельсгаузена. Герой романа, сочетающий в себе черты «святого простака» (вроде героя «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха) и плута, проходит жизненный путь, в котором, в частности, угадываются мотивы инициационного становления героя.
После бегства из разоренного дома Симплициссимус отправляется в лес и ночует в дупле дерева. Завидев отшельника, он кричит: «О, ты сожрешь меня! Ты сожрешь меня!» (мотив инициационного чудовища). На вопрос, кто он и как его зовут, Симплиций отвечает, что он не знает, кто он, что у него нет родителей, но при этом замечает, что мать называла его «плут, осел долгоухий, болван неотесанный, олух нескладный и висельник» (мотив неведения, безумия и причастности иному миру, предшествующих инициации). «Не было тогда, – признается юноша, – у меня понятия ни о Боге, ни о людях, ни о небе, ни о преисподней, ни об ангелах, ни о чертях и я не знал, как отличить добро от зла». Отшельник учит его морали, христианскому миропониманию. Захоронив отшельника, Симплициссимус отправляется в мир.

Обложка «Симплициссимуса».
Присутствует в романе Гриммельсгаузена и шутовская инициация Симплициссимуса: «При первом сне явились к моей постели четверо в ужасающих бесовских личинах; сии скакали вокруг, словно фигляры и масленичные скоморохи; один с раскаленными вилами, другой с факелом; а двое остальных кинулись на меня, сволокли с постели, поплясали со мною несколько времени… И повели они меня… по многим лестницам то вверх, то вниз и под конец завели в погреб, где полыхал большой огонь… Они изрядно втолковали мне, что я помер и днесь нахожусь в преисподней… подкалывали они меня вилами, кои во все время лежали у них в огне, и гоняли по погребу из одного угла в другой… И когда я в такой травле свалился с ног… то сгребли они меня снова и прикидывались, будто вознамерились кинуть в огонь… Три дня и две ночи провел я в дымном сем погребе, где не было иного света, кроме как от разложенного там огня; оттого голова моя зачала бродить и яриться, как если бы восхотела она лопнуть… Тут завернули они меня в холщовую простыню и прибили столь безжалостно, что у меня чуть было все внутренности и вместе с ними душа не полезли наружу, от чего я толико ослабел и лишился всех чувств, что лежал подобно мертвому; и я не знаю, что было со мною далее, как если бы лишился я жизни… А когда пришел я в себя, то обретался уже не в пустом погребе с чертями, а в изрядном зале на попечении трех старух наискареднейшего вида, каких только когда-либо земля носила… сии честные старые матушки догола меня раздели и, словно новорожденного младенца, отмыли от всякой скверны… уложили в изрядную постель, где я и уснул без всякого укачивания… провел я в беспрестанном сне более суток; и когда я вновь пробудился, у изголовья моего стояли два крылатых отрока в белых рубахах… Сии ангелы, как они себя объявили, восхотели меня уверить, что отныне я обретаюсь в раю, ибо столь счастливо претерпел в чистилище и от черта вместе с его матушкой навеки избавился… На следующий день пробудился я вновь… однако ж обрел себя… в моем старом гусятнике. И была там паки тьма кромешная, как в недавнем погребе; и сверх того было на мне платье из телячьей шкуры шерстью наружу… А сверху напялили на меня до самой шеи колпак наподобие монашеского капюшона, украшенный парой красивых больших ослиных ушей… Тогда-то впервые начал я размышлять о самом себе и о лучшем своем уделе…»
Пережив подобную инициацию – инициацию скорее пророчествующего шута из романа «Персеваль» Кретьена де Труа (неслучайно он сравнивает себя с пророком Ионою), чем плута, – Симплициссимус начинает свои странствия по «страшному миру» – странствия, завершившийся бегством из него (мотив инициационного бегства из преисподней) и высказыванием о мире, адресованном капитану, предложившему герою вернуться в мир: «О боже! Куда вы влечете меня? Здесь мир – там война; здесь неведомы мне гордыня, скупость, гнев, зависть, ревность, лицемерие, обман, всяческие заботы об одежде и пропитании, ниже о чести и репутации; здесь тихое уединение без досады, ссоры и свары, убежище от тщеславных помыслов, твердыня противу всяких необузданных желаний, защита от многоразличных козней мира, нерушимый покой, в коем надлежит служить Вышнему и созерцать, восхвалять и славословить дивные его чудеса. Когда жил я еще в Европе, там повсюду (горе, что сие должен я свидетельствовать о христианах!) была война, пожар, смертоубийство, грабежи, разбой, бесчестие жен и дев и пр.; когда же, по благости Божией, миновали сии напасти совокупно с моровым поветрием и голодом и бедному и утесненному народу снова ниспослан благородный мир, тогда явились к ним всяческие пороки, как то: роскошь, чревоугодие, пьянство, в кости игра, распутство, гульба и прелюбодеяние, кои все потащили за собою вереницу других грехов и соблазнов, покуда не зашли столь далеко, что каждый открыто и без стеснения тщится задавить другого, дабы подняться самому, не щадя для сего никакой хитрости, плутни и политического коварства. А всего горше то, что нет и надежды на исправление… Надлежит ли мне вновь стремиться к таким людям? Не должен ли я помыслить о том, что ежели покину сей остров, куда перенес меня чудесным образом Господь, то не приключится ли со мною в море то же, что и с пророком Ионою?»
Это классическое описание «страшного мира» – мира, описанию которого автор мог бы предпослать слова Данте «Оставь надежду всяк сюда входящий». Из этого «ада» Симплициссимус бежит в собственный мир. На безлюдном острове он находит свою свободу и покой: «Итак, остался я один властелином всего острова и стал снова вести отшельническую жизнь, к чему у меня был не только довольный случай, но также твердое намерение и непоколебимая воля… Сей малый остров должен был стать для меня целым миром, и всякая вещь в нем, всякое деревцо служить напоминовением и побуждать к благочестивым помыслам, приличествующим всякому честному христианину. Итак, узрев какое-нибудь колючее растение, приводил я себе на память терновый венец Христа; узрев яблоко или гранат, памятовал о грехопадении наших праотцев и сокрушался о нем; а когда видел, как пальмовое вино источается из древа, то представлял себе, сколь милосердно пролил за меня свою кровь на святом кресте мой искупитель; глядел на море или на горы и вспоминал то или иное чудесное знамение или историю, случившуюся в подобном месте с нашим спасителем…»
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе