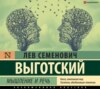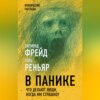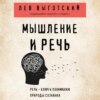Читать книгу: «Образ врага: технологии конструирования и деконструкции», страница 3
Мы пропустим тех многочисленных и разнообразных противников, с которыми далекие предки человека сталкивались на ветвях деревьев и на земле, им не было числа за миллионы лет эволюции приматов: кондиляртры, мезонихии, миациды, виверровые, стеноплезиктиды, креодонты, саблезубые некошки, амфициониды, перкрокуты и др.
Кошкообразные и кошачьи преследовали наших далёких предков на деревьях, но стали главным врагом после того, как они «спустились на землю», то есть после сокращения тропических лесов и их сужения к экватору, стали осваивать просторы африканских субтропических лесов, лесостепи и саванны. На черепах австралопитеков встречаются следы клыков крупных кошачьих, в первую очередь леопардов, которые специализировались на приматах.

Гильгамеш убивает льва. Шумерская печать21
Первое место среди списка хищников-врагов гоминид было прочно занято и долго удерживалось крупными кошачьими и кошкообразными (львами, леопардами, тиграми, гиенами и т.д.), именно их побеждают древние герои (поединок Геракла с немейским львом), их шкура украшает плечи могучих правителей и известных воинов. Позже, выйдя за пределы африканского континента, наши далекие предки столкнулись с псовыми (волк, шакал, гиеновидная собака и т.д.) и животными, представляющими в большей степени косвенную опасность, возникающую в процессе охоты за ними или внезапной встречи (медведь, пещерный медведь, лось, мамонт и т.д.). Развитием социальной организации наши предки отвечали на вызовы столкновения с отдельными крупными хищниками и хищниками, являющимися социальными животными (гиены, гиеновидные собаки, волки). Развитие орудийной деятельности позволило противопоставить кошачьим более эффективные инструменты агрессии, которыми представитель нашего вида вооружен слабо.
Именно в борьбе с врагами/хищниками в этих экосистемах человек становится «царем природы», низвергнув с этого пьедестала кошачьих. В процессе своего развития человек окончательно подчеркнет свое господство, осуществив доместикацию своих недавних биологических врагов – приручит хищных птиц для охоты, выведет различные виды домашних животных-компаньонов, из которых самые популярные – собака и кошка.
Однако кошачьи долго занимали первое место среди природных врагов человека (помимо других гоминидов и человека-врага). Следует указать на то, что последствия внутривидовой конкуренции у нашего вида несопоставимы по жертвам с атаками хищников в природной среде. Но, тем не менее, кошачьи в Африке и волки в более северных широтах представляли реальную угрозу человеку вплоть до XIX века. За краткий период 1896—97 гг. в Российской империи были зафиксированы нападения волков на людей: на территории Вятской губернии 205, Вологодской губернии – 10, Костромской губернии – 18, Ярославской губернии – 9.22
Наиболее известные случаи атак львов на людей в Африке в XIX веке, это история так называемых «людоедов из Цаво», двух львов, убивших по разным оценкам от нескольких десятков до более 130 человек в Кении при строительстве Угандийской железной дороги. К. Пекер из Университета Миннесоты, руководитель проекта «Львы Серенгети» утверждает, что в «В Танзании в начале 1990-х годов было зарегистрировано около сорока нападений в год. За последние пару лет зарегистрировано более 100 нападений ежегодно, причем 70 процентов из них заканчивались гибелью людей. …в провинции Линди, на юго-востоке страны, в среднем нападение льва на человека происходило каждый месяц в течение 15 лет. …Два года назад в провинции Руфиджи обитал лев-людоед на совести которого, как считалось, более 40 загрызенных людей».
Сначала гоминиды сами были объектами охоты, но позже, когда человек обзавёлся большими стадами домистицированных животных, крупные кошки стали представлять опасность в большей степени не для его жизни, а для его благополучия. Отношения «хищник – жертва» уходили по мере развития у гоминид орудийной деятельности и социальной организации и трансформировались в межвидовую конкуренцию за ресурсы.

Кинжал из Микен со сценой охоты на львов. XVI в. до н. э.
Афины, Национальный археологический музей.
Убийство крупной кошки являлось и частью ритуала инициации (самая знаменитая из дошедших до XX века – инициация у африканского племени масаи) и элементом привилегированной и/или аристократической охоты (кинжалы со сценами охоты на львов из Микен и мозаика из Пеллы с Александром Македонским, спасаемым ото льва во время охоты в Сузах) и символом власти (культ льва у древнегреческих басилевсов) и элементом тотемического культа у воинов и членов военных обществ.
…Этот витязь неизвестный,
Молчаливый и понурый,
Был одет поверх кафтана
Пышною тигровой шкурой.
Плеть в руке его виднелась,
Вся окованная златом,
Меч был к поясу привешен
На ремне продолговатом…
Так Шота Руставели в своей поэме «Витязь в тигровой шкуре» описывает главного героя – Тариэла, сына индийского полководца Фарсадана.
По мнению В. Ю. Михайлина, в зверином стиле архаических индоевропейских культур основные сюжеты «терзаний» служили четкому маркированию вполне конкретных воинских статусов. «Взрослый» воинский статус маркируется хищниками, которых с представителями семейства собачьих никак не спутаешь. Здесь мы имеем дело с крупными кошачьими, со львами и «пардами», под которыми архаическая индоевропейская традиция понимала все разнообразие больших кошек, лишенных гривы, то есть леопардов, гепардов и иногда, видимо, даже тигров. Тонкие смысловые различия существуют и в этом случае; образы варьируются от одной исторически конкретной формы общего зооморфного кода к другой, но главный принцип остается неизменным: лев или пард берут добычу, а не гонятся за ней».23

Король зулусов Гудвилл Звелитини в леопардовой шкуре.
Символами власти у зулусов по сей день являются череп буйвола и леопардовая шкура, носить ее позволено племенной знати: королевской семье, военачальникам и главам родов. Простые общинники ограничивались набедренными повязками и головным убором из страусовых перьев.
Власть воспроизводится и легитимируется, в том числе, посредством победы над основным нечеловеческим природным Врагом, который некогда господствовал в этой экосистеме. Но убивая этого врага, Власть как-бы уподобляется ему, перенимает его качества, король зулусов становится человеком-леопардом, а басилевс – львом. Происходит магический трансфер животного в человека и активация его свойств, характерные для тотемических обрядов установления и поддержания связи с тотемным животным посредством его убийства (и поедания, как наиболее явственного по характеру переноса качеств тотема, «орального поглощения» в интерпретации психофизиологических оснований тотемизма З. Фрейдом).

Бюст басилевса Понта Митридата VI Евпатора. Музей Лувра.

«Löwenmensch», Человек-лев (пещерный лев). Фигурка из бивня мамонта, изготовлена примерно 40 тысяч лет назад. Музей Ульма.

Ашшурбанапал убивает льва на охоте. Рельеф из дворца в Нимруде,
середина VII в. до н. э. Британский музей.
Теперь наделенная этой легитимностью Власть становится царем и животных, и людей в этой природной и социальной среде, одновременно и альфа-самцом в иерархии доминирования и помазанником высших сил. Но, как следствие, она является и главным хищником, поскольку имеет право решать судьбу других и убивать.
Власть с должным уважением относится к самому грозному существу после себя, согласно Дж. Фрезеру: «У некоторых племен Восточной Африки есть такой обычай: труп убитого льва приносят к местному царьку, который оказывает ему честь тем, что простирается перед ним ниц на земле и трется своим лицом о морду льва. В некоторых районах Западной Африки негра, убившего леопарда, крепко связывают; он предстает перед советом вождей по обвинению в убийстве лица их ранга. В свою защиту убийца приводит довод, что леопард является царем леса, то есть чужестранцем; после чего его выпускают на свободу и награждают. Что касается убитого леопарда, его наряжают в головной убор вождя и ставят посреди селения, где в его честь ночью устраивают танцы».24
Врага-кошку можно убить и можно ей уподобиться, так юноша инициируется в мужчину, а храбрец становится Героем. Так же дает знать о себе вождь, который легитимирует и подкрепляет свою власть. Вождь устраивает охоту на самого грозного хищника и важно, чтобы он поразил зверя собственноручно. Охота может быть коллективной и включать общинников/слуг-ловчих, представителей знати, гостей вождя и т.д., некоторые из которых могут отличиться. Но презентации и репрезентации этой охоты должны быть связаны с собственноручным убийством хищника вождем, как манифестации его личностной храбрости, силы, умений и удачи (связанной с проявленностью сакрального в вожде и/или сакральным благоволением).
Коллективную охоту в традиционных обществах можно условно разделить на два основных типа – «охоту равных» (с близкими по статусу участниками) и «охоту неравных» (стратифицированную). Первый тип появляется еще на заре человечества, в палеолите, когда загонная охота на мамонта, травля пещерных медведей и др. осуществлялась группами мужчин, прошедших ритуал инициации и требовала скоординированных коллективных усилий.
В науке существует точка зрения о связи коллективной охоты палеолита с появлением самого ритуала инициации: поскольку данная охота приводила к существенным потерям в мужской части популяций, требовались психологически устойчивые люди, не испытывающие острого страха смерти в угрожающей жизни ситуации.
Мезолитическая охота тоже была «охотой равных» осуществлялась удаляющимися от стоянки небольшими группами охотников. Неолитическая революция привела к переходу от присевающего к производящему типу хозяйства, сопровождавшемуся расслоением и усилением социального неравенства. Охота перестает быть основой экономики вождеств и потестарных обществ, перешедших к земледелию и оседлому скотоводству.
Второй тип – «охота неравных» появляется в эпоху бронзового века с урбанизацией и появлением раннеземледельческих цивилизаций и городов—государств. Это охота знати в стратифицированных обществах, в которой помимо привилегированных охотников участвуют представители зависимого населения и слуги-ловчие. Вершиной стратифицированной охоты является царская охота, которая выступает в качестве одного из механизмов производства и воспроизводства власти.
Рельефы из дворца в Нимруде представляют нам эпизоды царской охоты ассирийского царя Ашшурбанапала на львов. Вся композиция сосредоточена вокруг фигуры царя, собственноручно поражающего животных из лука и меча, как на колеснице и верхом на коне, так и спешившись. Ассирийские цари считались львами, а их столица Ниневия называлась «логовом львов». Поэтому человек—лев, самый могучий и совершенный из смертных, повелитель мира (печати на глиняных табличках в его библиотеке гласили «Дворец Ашшурбанапала, царя Вселенной, царя Ассирии») должен был доказывать свой статус и легитимировать свою власть, убивая царя зверей – льва. Предшественник Ашшурбанапала царь Синаххериб так описывает начало сражения с войском своего врага – царя Элама: «Как лев я взъярился, облачился в доспехи, шлем, украшение битвы, возложил я на главу свою, на мою боевую колесницу высокую, ниспровергающую супостата в ярости сердца своего я взошел поспешно. Могучий лук, вручённый мне Ашшуром, в руки мои я схватил, дротик, пресекающий жизни, во длани мои я взял, над всем войском злобного недруга, словно ураган грозно я закричал словно Адад, я взревел».25
С царем зверей идентифицировался не только сам ассирийский царь, но и его жена/жены и дети, то есть вся правящая династия и семья самого царя отождествлялась со львами. Иерархия социальная с царем и его семьей на вершине символически уподоблялась иерархии природной – во главе с царем зверей и его прайдом. Однако царская охота на львов устанавливала отношения неравенства и приоритетности в отношении этих двух измерений власти, поскольку показывала, какая из двух иерархий выше. Также одним из источников, свидетельствующим о культе льва у ассирийских царей является библейская «Книга пророка Наума», в которой предсказывается гибели Ниневии:
«Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их, —
Лев, похищающий для насыщения щенков своих, и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычею пещеры свои и логовища свои похищенным?
Вот, Я – на тебя! говорит Господь Саваоф. И сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих».26


Ассирийский царь Ашшурбанапал поражает львов мечом и луком.
Рельеф из дворца в Нимруде, середина VII в. до н. э. Британский музей.
В наибольшей степени удовлетворяет мужскую гордость и ласкает самолюбие охота на опасное животное, то есть способное «дать ответ», перевернуть ситуацию и сделать объектом охоты самого охотящегося человека. Такая охота превращается в поединок с достойным и опасным врагом, хотя баланс выигрыша в большинстве своем на стороне человека, использующего орудия убийства, помощь других людей и доместицированных животных. Но так ли иначе охотник испытывает судьбу надеясь, помимо собственных умений, на удачу и расположение сакральных существ. Начав подобную охоту, человек уподобляется Герою, поскольку выходит за пределы безопасного космоса в зону неопределённой лиминальности, его статус маргинален и транзитивен, а вероятность его возвращения обратно в социум неочевидна. Охота на опасного зверя это и проверка личностных качеств, и экзистенциальное рандеву со смертью и контакт с сакральным.
У древних греков, римлян, германцев и кельтов охота на опасных животных (льва, кабана и медведя) была наиболее излюбленной и престижной. Как пишет Мишель Пастуро: «Кабан – благородная дичь, грозный зверь, восхищающий своей силой и смелостью. Это чрезвычайно опасный противник, который бьется до последнего, предпочитая смерть бегству или отступлению. Уже потому это достойная уважения дичь и желанная добыча для охотника. Тем более что охота на кабана, чаше всего пешая, заканчивается борьбой один на один, глаза в глаза, лоб в лоб. Чтобы загнать дичь, используют собак и расставляют сети, но в финальную атаку на разъяренного зверя человек идет один. Победа над кабаном – это всегда подвиг».27 Во время мифической Калидонской охоты, в которой участвуют герои Древней Греции, вепрь убивает нескольких человек, но Атланта поражает его стрелой в спину, а Амфиарай в глаз, после этого Мелеагр справляется с ним.
Это отношение к охоте не опасных для жизни охотника животных как наиболее престижной сохранялось до эпохи классического Средневековья и во многом по настоянию Римской католической церкви постепенно изменилось – в период между началом XII и серединой XIII веков охота на оленя в Европе стала престижнее охоты на кабана. Но в период античности и раннего Средневековья: «Гон или травля оленя не приносят ни славы, ни удовольствия; знатный человек или уважаемый гражданин не должен предаваться такой охоте – это дело крестьян. „Оленя оставишь селянину“ („Cervos relinques vilico“), – советует в конце I века нашей эры поэт Марциал в своей знаменитой эпиграмме. Это мнение разделяет большинство авторов, которые пишут об охоте: олень – презренная дичь, благородством отличаются лишь лев, – которого не едят (и это доказывает, что охота была прежде всего ритуалом, а уже потом добыванием пропитания), – медведь и кабан».28
Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк в своей работе «Жизнь и развлечения в средние века» показывает насколько серьезно и эксклюзивно европейская знать относилась к организации охоты и сколь расточительно – к содержанию охотничьего двора: «В XIV и XV вв. богатые дворяне стремились сделать охоту настолько роскошной, насколько могли. Правитель Милана Бернабо Висконти (ум. 1395 г.) имел свору в пять тысяч собак для охоты на кабана. Этот вельможа приказывал карать смертью крестьян, изобличенных в убийстве хоть одного из диких животных. …Король Карл VI издал в 1396 г. ордонанс, подписанный в Париже, которым запрещалось заниматься охотой всем лицам неблагородного происхождения. Охотничий двор его брата Людовика, герцога Орлеанского, состоял из «одного обер-егермейстера (maître veneur); десяти пажей по псарне, двое из которых особо состояли при борзых; девяти псарей и двух бедных слуг, каковые не имели никакого жалования и спали по ночам вместе с собаками». «Свора насчитывала девяносто девять гончих собак, девять ищеек и тридцать две борзые собаки по оленю, не считая собак на кабана, а также комнатных борзых и сторожевых его высочества». Собаки были предметом особой заботы – их отправляли в паломничество, им посвящались мессы.
Фруассар пишет [34. L. 1. Ch. CXXI], что Эдуард III, находясь в 1359 г. во Франции со своей армией (король Иоанн в это время был в плену), имел в своей свите «тридцать сокольников конных, птицами нагруженных, да добрых шестьдесят пар собак крепких и столько же борзых, с каковыми каждый день ходил на охоту».
Герцоги Бургундские обладали самыми многочисленными охотничьими дворами: «Шестеро пажей псарных при гончих, шестеро при борзых; двенадцать младших пажей псарных, шестеро управляющих псарями; шестеро псарей при борзых, двенадцать псарей при гончих, шестеро псарей при спаниелях, шестеро при малых собаках, шестеро при английских и артуаских собаках».29
Но есть и другой способ зооморфной легитимации власти – главного природного Врага-хищника можно приручить и доместицировать. И это также свойства и признаки Героя и сакрализуемой Власти. Опасное животное может тронуть обычного человека, но оно признает доминирование сильного и храброго человека и каким-то образом чувствует проявленность в нем сверхчеловеческого/сакрального, поэтому с неизбежностью подчиняется воле Героя и Вождя. Как следствие, прирученное опасное животное свидетельствует об особых качествах хозяина, его связи с сакральным и праве властвовать над другими. Появление владельца опасного животного в его сопровождении на публике должно вызывать тревожность и страх, подкрепляющие почтение и уважение перед его авторитетом и статусом. Здесь мы сталкиваемся с механизмом зооморфной легитимации и сакрализации власти.
Фараоны и древнеегипетская знать держали дома крупных кошек, в основном гепардов и львов, которых завозили с территории современного Судана. Гепардов содержали не только как домашних экзотических животных, у них было и практическое и религиозное применение. Их использовали для охоты и в качестве животного-психопомпа (др.-греч. Ψυχοπομπός «проводник душ»), умерщвляя и отправляя их души вместе с хозяином, гепард должен сопровождать душу хозяина и показывать ей путь в мире мертвых.
Дикие хищники не смеют трогать людей, обладающих сакральной энергией, духовной чистотой и связанных с сакральными силами и сущностями. Обратимся к примерам одной из мировых религий – христианства, поскольку исторический и антропологический материал по данной тематике весьма велик и отражает все этапы социогенеза и эволюции религиозных идей и представлений.

Древнеегипетская охота с гепардом.
Восстановленная копия из Абу-Симбела. Изображение Рамсеса II
в боевой колеснице. Фрагмент из книги 1832 года об итогах экспедиции Ипполито Розеллини

Кибела в колеснице, запряженной львами.
Тарелка из храма с нишами в Ай-Ханум, Бактрия, 2-й век до н. э. Кабул, Национальный музей Афганистана


Икона «Пророк Даниил во рву львином»30. Россия, XVII век.
Мозаика в монастыре Осиос Лука, Греция, XII—XIII вв.
Христианских святых не трогают дикие звери, на съедение которым их бросают, наиболее известный сюжет о пророке Данииле, брошенном в львиную яму (этот сюжет мы наблюдаем выше в иконе «Пророк Даниил во рву львином» и мозаике церкви в монастыре Осиос Лука). «Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления».31
В силу своих особых отношений с сакральным эти люди выходят за рамки природной обусловленности, действия механизмов видовой конкуренции, связки «хищник—жертва» и т. п.


Итальянские плакаты периода Второй мировой войны
«Солдат и лев». Открытка, напечатанная Отделом пропаганды
Королевской итальянской армии. Худ. Джино Боккасили, 1939.
«К оружию! За честь! Х-я флотилия МАС», плакат Республиканского военного флота. Худ. Джино Боккасили, 1939.
Святые и праведники утверждают человека культуры и духа, во многом противостоящего своей биологической обусловленности, которую олицетворяют «языческие» силы и сущности. Праведный христианин начинается там, где заканчивается звериное и появляется собственно человеческое, не сводимое к биологической природе – животным, низменным потребностям и страстям. Дисциплина духа, сила веры, аскеза как укрощение страстей и плоти должны отличать верующего от грешника, искушаемого биологическим/бессознательным. Святые и праведники подавляют генетическую программу статусности, характерную для нас, как групповых приматов, к социальному статусу относятся уничижительно, спокойно или индифферентно (повышенный интерес к социальному статусу возникает в протестантизме, как следствие специфической кальвинистской сотерологии, но и у протестантов данный статус воспринимается не через положение в иерархии и обладание ресурсами, а через категории призвания и профессии). Биологически детерминированная «обезьянья» статусность и социальный статус в людском социуме порождают искушение всеми семью смертными грехами.
Согласно «Четьи-Минеи» и другим религиозным источникам, святые люди могут спокойно общаться с животными, к келье Серафима Саровского приходят звери и птицы, один из самых известных сюжетов иконы с его изображением это тот, где он кормит с рук медведя. Более того, святой человек может воздействовать на животный мир, повелевать им. Одна из наиболее популярных легенд о св. Патрике касается изгнания им из Ирландии всех змей.
Однако использование опасных для человека животных в целях легитимации и сакрализации власти может вызвать отторжение, когда политик переходит границы культурно—одобряемого и приемлемого. В «Естественной истории» Плиния Старшего находим такой фрагмент: «Надел на львов ярмо и первым в Риме впряг их в повозку Марк Антоний – это произошло во время гражданской войны после решающей битвы на Фарсальской равнине, причем не без того, чтобы показать положение дел: это был чудовищный поступок, намекавший на то, что можно укротить даже благородные души. Первым же человеком, осмелившимся приручить льва и показать его, уже прирученного, был, как говорят, Ганнон, один из самых выдающихся карфагенян, за что и был наказан: ведь рассудили, что человек со столь изобретательным умом способен убедить людей в чем угодно, и что они ошибочно доверили свою свободу тому, кто сумел полностью подчинить себе даже свирепость».32 Негативное отношение к поступку Марка Антония мы обнаруживаем и у Плутарха: «Взор римлян оскорбляли и золотые чаши, которые торжественно несли за ним, словно в священном шествии, и раскинутые при дороге шатры, и роскошные завтраки у реки или на опушке рощи, и запряженные в колесницу львы…».33
Помимо визуальных образов и эффектов, существует и вербальные, языковые маркеры зооморфной легитимации и сакрализации власти. Одна из известных скотоводческих метафор церкви как пастыря, пастора (ивр. רועה, лат. pastor «пастух») проходит по всему тексту Библии. Церковь, как пастырь, пасущий агнцев Божьих – это своеобразная вербальная доместикация, отраженная в языке. Бог, Иисус, его проповедники и община верующих представлены в скотоводческой лексике.
«Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28).
«Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных» (Ис. 40:11).
«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11).
«Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: «Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое» (Иер. 31:10).
Реальность, в которой формировались тексты Нового Завета, отражает черты сложного, стратифицированного общества с относительно развитой системой разделения труда, идущей урбанизацией, существенными структурными противоречиями и конфликтами. И ценности, которые принес Новый Завет, позволяют существовать именно в таком сложном обществе, с вертикальной социальной иерархией, увеличившейся плотностью населения и частотой социальных связей. В таком обществе необходимы новые нормы поведения и механизмы торможения, трансфера и сублимации агрессии. Ибо ветхозаветные ценности и нормы в данном обществе начинают работать против его единства и стабильности. Ветхозаветный принцип талиона («око за око») заменяется иным – «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5: 39). Духовная и ценностно—нормативная инновация христианства заключалась в инкорпорации социального контроля в сознание индивида, который признает ответственность за свою жизнь и спасение, рефлексирует над эндогенными факторами собственного поведения, развивает в себе внутренний локус контроля.
Однако язык верующих новозаветной эпохи демонстрирует некий «культурный лаг», отражая ветхозаветные ценности, скотоводческие (если конкретизировать, то овцеводческие) образы и метафоры. Отсюда, с одной стороны, «пастыри», «агнцы», «стада», «овцы», а с другой – угрожающие им дьявольские «звери», «барсы», «волки», «хищники». Сам дьявол, «враг рода человеческого» – это злонамеренный хищный зверь, испытывающий и разрушающий пасторальную идиллию скотоводческого общины/церкви верующих своими искушениями. И если его не остановить, то он обрушит загоны – спасительные ограждения, поддерживаемые верой праведников, и перегрызет все стадо. Спасение верующего – «овцы» в «стаде» «пастыря» в собственной вере и искуплении греховности, которые приумножают веру «стада» и помогают «пастырю» вести его в правильном направлении.
В свою очередь, задачи и действия дьявола подобны поведению хищного зверя, атакующего стадо овец.
– Он может съесть «заблудшую овцу» «оторвавшуюся от стада», то есть пошатнуть адепта в вере, искусить его и сгубить его душу.
– Дьявол-хищник может в процессе движения (развития религиозной общины) пошатнуть веру стада, испугать, дезориентировать его, сбить с дороги, разделить и перегрызть частями.
– Если спасительные загоны, поддерживаемые верой, оказываются хлипкими, то дьявол-хищник врывается в само стадо.
Задачи и функции «пастыря»/церкви во многом подобны функциям пастуха овец: 1) сформировать отару; 2) организовывать выпас, кормление и содержание овец; 3) наладить управление отарой и охрану стада.
В промежуточном состоянии от дикой охоты на опасное животное до его приручения, находится убийство зверя в ходе ритуального поединка и на играх, которые происходят от оного. Ритуализированный поединок выступает как одна из форм древнего жертвоприношения, трансформировавшегося в зрелище, апеллирующее не только к милости богов, но и к расположению толпы. Римский император Марк Опеллий Макрин, происходивший из Северной Африки и называемый современниками «мавром»: «… часто устраивал звериные травли, вступая в бой, как правило, с большим количеством животных, так что на нем были шрамы от их укусов, и однажды он в одиночку сражался с медведем, леопардом, львицей и львом одновременно».34

Богиня Иштар в крылатом одеянии с прирученным львом
и ее суккал Ниншубур. Точное фотографическое изображение древней аккадской цилиндрической печати. 2334—2154 гг. до н.э.
Институт востоковедения Чикагского университета.
Поединок один на один с опасным зверем в истории человечества проходит путь, ведущий к возникающей в раннеземледельческих цивилизациях коллективной царской охоте с сонмом ловчих и далее – к массовой травле животных на арене римских амфитеатров. Власть манифестирует и легитимирует себя сначала в поединке один на один с опасными животными, позднее – в ходе организованной коллективной охоты, а еще позднее – отделяет самое себя от акта охоты и поединка, демонстрируя свои возможности в количественном и эмоционально-зрелищном измерении зрелищ травли. Таким образом, в процессе развития способов зооморфной легитимации власти нарастает абстрагирование этого процесса и происходит отделение легитимируемого властного субъекта от функции нанесения рокового удара. Власть визуализирует свои возможности, свою силу и сакральный характер, отправляя на гибель опасных врагов-животных и врагов-людей.
Уже не сам акт убийства врага рождает право на власть, а волюнтаристская (и/или в определенной степени институционализированная и регулярная) возможность организации сцены для убийства, набора определенных актеров, их количества и способов их взаимодействия. Светоний писал об «африканских травлях», которые устраивал император Клавдий, а римский хронист Кассий Дион следующим образом описывает зрелища в амфитеатре, устроенные по поручению и в честь императора Луция Семптимия Севера:
«В это же время имели место и всевозможные игры по случаю возвращения и десятилетия власти Севера, а также его побед. На этих играх шестьдесят диких кабанов, выставленных Плавцианом, вступили друг с другом в бой по сигналу и среди большого числа прочих убитых на арене животных были слон и корокотта. Этот последний – индийский зверь, и, насколько я знаю, тогда он был впервые привезен в Рим; окрасом шкуры он напоминает одновременно и льва, и тигра, а обликом представляет своеобразное смешение этих зверей с собакой и лисицей. В амфитеатре был сооружен огромный загон в виде корабля, способный одновременно вместить и выпустить четыре сотни зверей; и когда он внезапно распался, из него выбежали медведи, львицы, пантеры, львы, дикие ослы, бизоны (это некая разновидность диких быков необычного вида), так что можно было в одно и то же время видеть, как в общей сложности семьсот диких и домашних животных бегают туда и сюда и подвергаются избиению. Ведь в соответствии с семидневной продолжительностью празднества и число животных составляло семь раз по сто».35
Механизмы легализации и легитимации Власти посредством убийства Врага проходят определенную эволюцию, в ходе которой демонстрируют постепенное отделение субъекта убийства от его объекта, абстрагирование акта убийства, замену живого врага его постановочным образом – своеобразным вотивным заменителем. В конечном итоге, эволюционное абстрагирование убийства Врага как манифестации и легитимации Власти отделяется и от настоящего акта убийства, заменяется его театрализованной постановкой. В этом проявляется действие разнонаправленных, но параллельных процессов, в которых отчуждение и реификация противостоят, но сопутствуют гуманизации.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе