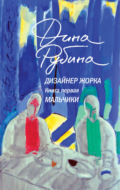Читать книгу: «Дизайнер Жорка. Книга вторая. Серебряный рудник», страница 2
Так вот, мотоцикл с коляской. То был настоящий армейский «Урал-4», с КПП с задним ходом, который включался отдельным рычажком, с отдельным приводом колеса коляски. Правда, с него было снято «оборудование» – возможно, приспособление для пулемёта, там даже остатки припаянной рамы для треноги остались. Папа покрасил боевого коня в небесно-голубой цвет, этим слегка усмиряя его военное предназначение. «Мы ж мирные люди, Лидусь? И наш бронепоезд давно уж сменил свой маршрут».
До бани рукой подать, но пешком в жару – утомительно. К тому же сначала заезжали за бабушкой Эльвирой.
Та выходила из калитки полностью экипированная, с китайским эмалированным тазом под мышкой, с сетчатой кошёлкой, распузаченной полотенцами и бельём, садилась в коляску (Лида перебиралась за спину отца, обнимая его обеими руками и упираясь острым подбородком в широкую спину) и накрывалась тазом. Никак иначе этот роскошный малиновый таз невозможно было пристроить. (Лида воображала, как бабушка, с тазиком на голове, лупит по врагам из давным-давно свинченного пулемёта, в запале крича что-то боевое из старого фильма «Чапаев».)
Так они и мчались: сначала по улицам махалли, затем по аллеям центра: втроём на древнем голубом мотоцикле, врезаясь в узорчатую тень акаций и карагачей, вырываясь из неё на солнце… «Гена, не гони, как безумный!!!» – кричала бабушка. Мотоцикл заметно пованивал и оглушительно гремел, мир колыхался и вращался, как большая люлька, подвешенная к небесам на невидимых тросах. Эта дорога напоминала кадры из «Большого вальса», где Штраус, кудрявый весёлый красавец, просыпается на рассвете в пролётке рядом с певицей (белоснежное платье, голые плечи, ажурный вихрь солнечных бликов). И дудочка пастуха, и губная гармошка в руках у кучера, и даже чириканье птиц подсказывают композитору мелодию вальса «Сказки Венского леса»: «трьям… трьям… трьям-пам-пам… тара-ри-ра-ра-ра-а-а…», – лесная дорога, шикарная женщина, пролётка мчится сквозь лиственный каскад солнца и теней. Ещё минута, и мир закрутится упоительным штопором: «Трьям, трьям, трьям-пам-па-а-ам… тара-ри-ра-ра-ра!»
Стоп! Приехали. Глуши мотор…
Баня была обычная, ужасная, хоть и в новом районе. Приземистое кирпичное строение типа «без окон, без дверей – полна горница голых людей». Папа сразу исчезал за дверью мужского отделения, а Лида с бабушкой Эльвирой шли на женскую половину, где внутри скользко, грязно, где витают, вернее, стоят стеной тошнотворные банные запахи: плотная смесь кислого молока, чёрного хозяйственного мыла, хлорки, пота и разных-несуразных чужих мокрых тел… О, этот тяжёлый жирный запах чакки2 от длинных чёрных кос узбечек! Даже от шайки с горячей чистой водой воняло. Лиду начинало тошнить.
И потому, деловито застелив простынёй отвоёванный участок лавки, бабушка первым делом занималась внучкой. Набирала воду в цинковую шайку, намыливала девочку, долго тёрла рёбра, лопатки, коленки «и прочий инвентарь кошмарной худо́бы», затем намыливала драгоценным спекулянтским-польским мылом Лидину голову и всеми десятью пальцами принималась терзать её гриву, массажируя затылок, виски, макушку, смывая пену, вновь намыливая голову… Так в каком-то фильме госпожа таскала за волосы растяпу-служанку, разбившую фарфоровый чайник. Наконец туго, до боли, до натяжения к вискам уголков глаз, закручивала на затылке жгут мокрых волос («А-а-а-ай, ты мне голову оторвала!!!»), закалывала шпильками, крепко растирала девочку зелёным китайским полотенцем и шлепком по попе отправляла к двери в раздевалку. Сама оставалась на обстоятельные стирку, полоскание и собственное мытьё.
Зато как славно чистенькой – аж кожа поскрипывает! – в крахмальном и подсинённом свежем белье, в чистом платьице выскочить к папе на улицу, где, стоя в компании краснолицых распаренных мужчин, он готовится сдувать с кружки белоснежную шапочку пивной пены.
Его – тоже красное – веснушчатое носатое лицо при виде Лиды озаряется такой горделивой, почему-то изумлённой радостью, словно дочу свою ненаглядную он полгода не видел. «Рано рождённая вышла из тьмы розоперстая Эос! – восклицает, протягивая к ней обе руки, в правой – полная кружка. – Яркое солнце, покинув прекрасный залив, поднялося На многомедное небо…»
И всегда давал ей схлёбывать пену: почему-то именно запах пивной пены приводил Лиду в чувство.
А как здорово потом катить по знакомым улицам на небесном нашем мотоцикле к бабушке на обед, то вылетая из узорной тени в слепящее солнце, то снова в неё ныряя: «трьям-трьям-трьям-пам-па-а-а-а! Тара-ри-ра-ра-ра-а-а…». Бабушка сидит под малиновым тазиком («Видите, большая польза от него!»), Лида впечатана в спину отца, то лежит на ней щекой, то упирается острым подбородком. Едем обедать! Уже с утра всё готово, только разогреть: фирменный бабушкин токмач, куриный суп-лапша, долма или азу, а ещё бак-беляши с начинкой из картофеля и мяса. А на сладкое непременно чак-чак. И когда?! – уже под самую завязку, уже через «не могу ни кусочка… ну, положи ещё малю-ю-у-сенький», ибо невозможно оторваться от этой хрусткой ажурной горки спаянных мёдом золотых колбасок, не приторных, но таких благоуханных.
А потом засыпать на ходу, утопая в облаке сытных домашних запахов, что мешаются с запахами глаженой скатерти, бабушкиного бежевого «плечистого» воскресного платья, её томных сладковатых духов, вымытых накануне досок пола. «Ты что-то совсем осовела, красавица!» – «Я тут полежу, ба, пять минуточек…»
Нет, харо-о-о-шая была банька!
* * *
Если сесть и основательно подсчитать, то у Лиды в Бухаре несколько своих домов имеется. Целых три: папин, бабушкин и тётки Анжелы. И в каждом своё место есть – свои кровать или диванчик, свой стул с непременной подушкой, свои чашка-тарелка-вилка-ножик, своё полотенце для рук, свои домашние тапки. Особа она обстоятельная, всюду требует «своё», терпеть не может одалживаться и навязываться; наоборот, как-то так всегда выходит, что родня её зазывает-ждёт-угощает, а засидись она допоздна, уговаривает остаться на ночь, потому как незачем девочке одной шнырять по тёмным переулкам бухарских махаллей.
«Моя странница-сирота», – говорит Диоген, вздыхая. Слегка лицемерит: знает, что доча не пропадёт, и часто цитирует особо любимое из «Одиссеи»: «Странник, конечно, твой род знаменит: ты, я вижу, разумен…» «Весьма разумен», – вставляет бабушка Эльвира, когда бывает в хорошем настроении.
У бабушки Эльвиры Лидуся живала неделями, а порой месяцами, особенно в раннем детстве, особенно когда папа уезжал «на заказы».
Папа Гена, он же Диоген Аполлонович, он же Геннадий Павлович (это смотря кто и с какого боку к нему подобрался), был художником-монументалистом. Лиде нравилось произносить весомое гранитное слово «монументалист». Это вам не кисточкой перед холстиком махать, не бумажку акварелью закрашивать! Это совсем другой масштаб! Вообще-то, государственный. Например, к недавнему празднику 7 Ноября папа с бригадой подновлял на площади Ленина гигантский портрет Брежнева, а девятилетней Лиде поручил красить потускневшие под дождями и пылью знаменитые на всю страну медвежьи брови.
Она стояла рядом с отцом на лесах, на высоте пятого этажа, дважды подстрахованная – пристёгнутая к папе его же подтяжками, да ещё бельевой верёвкой привязанная за талию к поперечной балке лесов, – и кистью, шириной с папину ладонь, зачерпывала из ведёрка чёрную краску, осторожно перенося её на циклопическое лицо без конца и края, как сам Советский Союз на карте мира. «Не заглаживай! – командовал папа, искоса бросая взгляд на её работу. – Разлохмачивай… Эт тебе не восточная красавица. Это генсек».
Папа – заведующий художественной мастерской, пост официальный, солидный. Именно его ребята готовят площадь Ленина к демонстрации на 1 Мая и на 7 Ноября. А в мастерской художники-монументалисты выполняют важные госзаказы: кумачовые транспаранты, на которых мелом выбиваются, а затем белилами закрашиваются все эти «Слава КПСС» и «Партия – наш рулевой», или стеклянные таблички для учреждений – чёрный фон, золотые буквы: «Второй секретарь горкома тов. М. И. Худойбергамов».
Папина мастерская обосновалась в огромном ангаре на задворках ЦПКО им. Кирова, главного парка Бухары, центральный вход в который напоминает Триумфальную арку с открытки, присланной бабушке Эльвире одним из вылеченных ею солдат.
За аркой тянется широкая аллея карагачей, по краям обрамлённая весёлыми клумбами. Вокруг – аттракционы на любой вкус и дурость и необъятные зелёные поляны, где летом, огороженная флажками на верёвках, кипит под лёгким ветерком и густыми раскидистыми кронами визгучая жизнь выездных детсадов. Внутри там всё обустроено для малышни – кроватки, затянутые марлей, цветные вертушки на палках. И вечно в траве копошится стрекозино-жукастое племя в трусиках и панамках, разыскивая якобы съедобные «лепёшечки», они же – «барашки», «арбузики», «бублички», «калачики», – в общем, плоды просвирника: кисловатые, с мятным привкусом, объедение летнего дворового детства.
В глубине справа от центральной аллеи – знаменитый мавзолей Саманидов, жуть какой древний, весь выложен из обожжённых кирпичей: и колонны, и купол, и всё-всё, что внутри. Говорят, если написать записочку Богу и вложить её в укромную щель между кирпичами, Бог прочитает и исполнит просьбу: надо только сосредоточиться и решить – о чём стоит просить, а Лида никак сосредоточиться не может. Кажется, вот уж это правда достойная просьба: чтоб бабушка Эльвира целый год в школьный дневник не заглядывала. Но как подумаешь: а вдруг и сам Бог ради проверки туда заглянет? Вот этого не надо. Нет, не стоит овчинка выделки… И дальше думает, думает… Тут ведь просьба должна быть увесистой и уважительной, без суеты: у Бога не станешь каждый день всякую чепуху клянчить.
По соседству с гробницей Саманидов – громадный хауз, настоящее озеро, побольше, пожалуй, центрального Ляби-хауза. Летом, в жару, здесь полно ребятни ныряет и плещется, руки-ноги мелькают, визг стоит над зелёной водой. Однажды Лида нахлебалась тут по уши, чуть не утонула. Спасибо пацаны вытащили и откачали. Они бывалые: сами и притопить могут, так, ради хохмы, сами и откачают.
А вот слева и дальше разбросано множество построек, вроде папиной мастерской. Парковая публика сюда не добредает; кому интересна сарайная, хозяйственная часть великолепного, аттракционно-морожено-пирожного парка?!
Это только папа так говорит: «мастерская». На деле – целая ферма: прежде всего огромный, метров в шесть высотой ангар с вечно замызганными окнами. И всё же внутри он очень светлый – из-за стен белёного кирпича.
Снаружи перед ангаром – подсобки, сараи для хранения разного инвентаря, большая асфальтированная поляна для монументальных заказов, а за ней – огородик, да и много чего ещё всякого. Например, сортир за огородом – такой солидный, многодырчатый, гулко-прохладный. Тоже – из белёного кирпича.
Работает в ангаре человек десять-двенадцать, и все под руководством папы. А папа – он и художник, и скульптор, и столяр, и слесарь, чертёжник, вдохновитель идей, и вообще, на все руки создатель, как тот Бог из мавзолея Саманидов: ему тоже пишут разные просьбы и заявления и тоже морочат голову по пустякам.
Внутри ангара кипит постоянная деятельность и всё время меняется композиция того, что конкретно сейчас находится в работе: мольберты, подставки для отливок, стеллажи любых размеров и видов – металлические и деревянные, сколоченные на скорую руку для срочной работы. Произвольно расставлены всюду бюсты и статуи в полный рост; на полу, на расстеленных газетах сушатся гипсовые отливки. У дальней стены – длинный стол с резаком, на нём толстая пачка стёкол для табличек на партийные начальственные двери.
Вообще, внутри всё очень просто и удобно: у входа слева – заляпанный краской умывальник, справа в углу – папин стол, горбатый от вечной горы наваленных на него папок и бумаг. Гора живая, движется и скользит, папа размашисто подпихивает её то с одной, то с другой стороны (оплеуха справа, оплеуха слева), и тогда бумаги и папки обрушиваются на пол мощным водопадом. Все присутствующие бросаются их подбирать и вновь выстраивать на папином столе бумажный зиккурат. Словом, порядок здесь и не ночевал.
А на полу, в центре ангара, обычно расстелен кумачовый транспарант, натянутый на гвоздики. И кто-то из ребят, согнувшись в три погибели, нитью отбивает две параллельные линии, мелом чертит буквы и закрашивает их белой краской.
А за-а-а-пах!
Внутри в постоянном движении пребывает любимый Лидин букет благородных рабочих запахов: свежая стружка, ацетон, масло, олифа, извёстка, растворитель… Это даже не смесь, а целая симфония запахов, в которой – если двигаться от объекта к объекту – в разных местах просторного зала прорастают и доминируют отдельные ноты или даже мелодии, как в музыке прорезаются разные темы: где-то сильнее пахнет олифой, а вот справа свежую ноту добавляет стружка, которую Рустам по прозвищу Бухенвальд («Уж очень тощ и остроуголен», говорит папа) ладонью смахивает с верстака.
Лида здесь растёт-вырастает, хватает-учится-подмечает, и всё ущучивает, и постепенно умнеет… – в общем, постигает законы существования вещей. Она не дурака валяет, а набирается кропотливости, глазастости, умения смять и выбросить неудавшееся, заново начать работу на пустом месте; довести до конца, подчистить, оправить, обрамить, завершить «для впечатления». «Всегда учитывай впечатление человека неподготовленного, – говорит отец мимоходом. – Рядовой гражданин не умеет видеть картину без рамы, скульптуру без пьедестала… Надо его убедить, растолковать смысл, понимаешь? Обаять, увлечь, заставить поверить. И превратить в своего глашатая! Ты же художник, Лидуся! Художник всегда – хоть чуть-чуть, но аферист».
* * *
Но Диогеновой страстью, его призванием и внушительным приработком были не транспаранты-таблички, не ведомственная советская шелупонь, а фрески в интерьерах домов и предприятий. Стенные росписи Диогена Позидиса славились не только в «частном секторе», среди состоятельных владельцев домов и загородных поместий, но и в разных организациях и домах культуры по всей Бухарской области. Просто в клубах он должен был учитывать социальный заказ: пионеры-комсомольцы, горны-тачанки, колхозники в чапанах и тюбетейках, музыканты с дойрами и рубабами в руках; лепёшки с колесо величиной, гроздья винограда, как связка футбольных мячей; снопы пшеницы, похожие на кривобокую бочку, ну и прочие циклопические знаки необоримой мощи великой Советской державы.
Частный же сектор… о, этот полузадушенный полуподпольный сегмент общества, прораставший глубокими корнями в саму природу человеческой натуры, – он из года в год приносил урожайную прибыль, творческое удовлетворение и народный авторитет.
Это была его, Диогенова, вечная мечтательная Греция…
Бесполезно было просить художника Диогена Позидиса «изобразить любимую кубанскую степь» или «церквушку на горке, как у бабушки под Рязанью». Диоген всё равно воспевал одну только Элладу. Запирался в зале, на кухне или в хозяйской спальне, – короче, у той стены, которую заказывали покрыть росписью, – и никого из обитателей дома к себе не пускал. А когда, завершив работу, выходил из затвора, потрясённые хозяева, стоя на пороге собственного дома, созерцали всё ту же Грецию: Акрополь, розовеющий на заре, или Парфенон, лиловеющий в свете уходящего дня; обломки ионических колонн, поросший травой портик храма. На щербатых ступенях – упавшая ваза лежит, выплёскивая из горла бордовую пену неизвестных ботанике цветов. А на фоне колонн полуразрушенного храма – красавица гречанка с кувшином на белом плече. Тёмно-синий хитон, отороченный волнистой каймой, скреплён на плече «фибулой» – резной деревянной пряжкой – и свободно спадает складками, облегая стройную фигурку. Точёная ножка в кожаной сандалии выглядывает из-под края одежды.
И всё так здорово прорисовано! Всё выписано и обцеловано до мельчайшей складки, до последнего штришка! Невозможно было не влюбиться в его доскональное искусство!
– Ещё бы, – с мастеровым удовлетворением говорил папа, складывая мольберт. – Я рисунку учился у Ильи Давыдыча, у Рубина. Так, как Рубин, никто в Узбекистане не рисует!
– А кто эта красавица гречанка? – спрашивала Лида, часто помогавшая отцу «на подхвате».
Между прочим, ответственное дело, вернее, тысяча дел, совершаемых по его приказу ежеминутно. Он называл дочь «техническим ассистентом» и гонял её в хвост и в гриву. Не щадил ни капельки: дело есть дело.
– Кто?! Ты, конечно! – удивлялся отец её непонятливости.
– Но я… я разве такая?
– Будешь такой, – отвечал уверенно.
В нижнем правом углу фрески, где художник пишет имя и дату сотворения, он выводил тонкой кисточкой: «Диоген Позидис. 520 год до н. э.».
– Пап, а зачем ты себе возраст добавляешь? – спрашивала дочь.
– Для придания подлинности, – отвечал он. – Для чувства. Для восторга воображения. Вот представь: проходят столетия, и в каком-нибудь двадцать втором веке краски тускнеют, штукатурка идёт пузырями. Хозяин думает: «Ну её к чёрту, эту мазню, покрашу-ка я заново стенку своей кухни… эм-м… суперновейшим космическим ультрамарином!» Наклоняется чувак, разбирает едва видимую мою подпись и… год создания! «Твою ж мать, – думает он, – вот так сюрприз: 520-й год до новой эры в моей собственной кухне! Нет, – думает, – позову-ка я реставраторов, восстановлю-ка я этот древний шедевр!..»
Лида уже тогда подозревала, что краски на папиных фресках потускнеют гораздо раньше, чем он предполагает и надеется. Что домики глинобитной махалли, обитатели которой чаще всего и были клиентами её отца, к тому времени сровняют с землёй, а на месте их возведут безликие пятиэтажки. Она о многом догадывалась, не позволяя себе формулировать эти догадки. Например, уже в детстве поняла, что её горячо любимый отец, нежный романтик, надёжный друг и благородный рыцарь… не очень, как бы сказать это мягче, …не очень умный человек. И что она гораздо, гораздо умнее своего отца. Она очень рано догадалась, что ум не подрастает за человеком, а рождается вместе с ним, уж какой достался, с годами только немного шлифуется работой мысли и к образованию уж точно не имеет никакого отношения. Она рано обнаружила, что внутренняя интеллигентность не имеет связи с количеством прочитанных книг. Это убеждение окрепло с годами, когда ей приходилось встречать очень образованных, утончённых, изощрённых в говорении болванов. У отца хотя бы чутьё работало, чутьё на правильные поступки и правильных людей. Вот это чутьё Лида унаследовала сполна и приумножила в жизни, поднакопив кое-что ещё: абсолютное равнодушие к суждениям и намерениям людей относительно собственной персоны, абсолютное чувство свободы действий, чего бы эти действия ни касались, и главное – суровое эмбарго на слова, которые с трудом достаёшь из сердца, омывая собственной кровью. Отцовское лёгкое многословие она заменила изобретательно придуманными байками, сквозь которые трудно было пробиться к её личности.
А личность эта была незаурядной.
3
Поначалу бабушка Эльвира снимала комнату в той же махалле, в которой Диоген с «Ирочкой-покойницей» после свадьбы сняли нечто вроде квартиры. Сюда же на такси была привезена из роддома Лидуся. И то, как бухарские таксисты умудрялись проползать по тесному переулку к нужной калитке, всегда вызывало шок у людей, не знакомых с местной топографией. Ибо для того, чтобы не быть раздавленным о дувал боками какого-нибудь «Москвича» или «жигулёнка», пешеходу требовалось срочно искать нишу с чьей-то калиткой, вжаться в неё спиной и, подобрав живот и поставив ступни в первой балетной позиции, задержать дыхание и закрыть от ужаса глаза.
Называлось их забавное жильё «полдома», потому как имело с общего двора отдельный вход с сенцами, где стояли только две необходимые вещи: своенравная калека-вешалка и ненадёжная табуретка. Вешалка заваливалась на гостя, повесившего пальто на неудачную сторону, на табуретку лучше было не садиться, а так только, опереться слегка рукой или коленом, надевая босоножки. Зато висела тут большая, в раме, репродукция картины Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа», на которой мужчина в шляпе, знаменитый хирург, окружённый целой компанией вполне приличных господ, кромсал ножницами руку казённого мёртвого дядьки, простёртого на столе. «Мрачноватенько, но шедеврально!» – бодро возражал папа Гена бабушке Эльвире, озабоченной «атмосферой страха, в которой растёт ребёнок».
Вот это совершенная чепуха. Лиде плевать на мёртвого дядьку, тем более что папа всё-всё рассказал ей про картину. Мертвяк на столе был бандит и вор по кличке Малыш, он убил человека, и его повесили, так ему и надо. А врачам разрешили учить на нём студентов, чтобы те потом грамотно и «шедеврально» лечили приличных людей. Вот и всё. Полнейшая чепуха… Надо только не поднимать глаз, когда проходишь из прихожей в кухню: иди себе ровненько, смотри на ноги; а ещё перед контрольной в школе или перед экзаменом в музыкалке надо молча попросить грозного доктора Тульпа с ужасными ножницами в руке не зарезать Лиду в пассаже…
Нет, жильё их было прекрасным и, папа говорил, высокохудожественным. Хотя и непоследовательным: например, входная дверь со двора была ветхой и запиралась на какой-то кривоватый ключ, дубликат к которому не мог повторить ни один слесарь. Зато дверь, ведущая внутрь дома из оккупированных доктором Тульпом сенцов, была дубовой, торжественно-высокой, с мощной притолокой, с резной бронзовой ручкой. И вела она в такую же прекрасную торжественную залу с красивыми островерхими нишами в стенах и с арочным потолком, с которого на длинной цепи свисала старинная бронзовая люстра.
Живём посреди музея, уверял папа.
Вот только окон в музейном зале не было.
Просторное, даже изысканное помещение обходилось без единого лучика естественного света. Так что на пороге рука сразу тянулась к выключателю слева: щёлк! – и ты уже в покоях какого-то вельможи.
Тем не менее то была кухня…
Далее за несерьёзной фанерной дверцей открывалась папина спальня по прозвищу «кабинетка»: тесноватая, но вот тут всем назло – с широким окном, безжалостно, впрочем, обезображенным тюремного вида решёткой – глупейшей, ибо окно практически упиралось в дувал, перелезть через который с улицы было весьма затруднительно. В узком пространстве между дувалом и окном прозябала всеми забытая мёртвая яблоня, давно не приносящая плодов; полезна была только тем, что к её стволу папа цепью приковывал их небесно-голубой «Урал-4». Так что из окна «кабинетки» открывался поистине странный пейзаж в стиле картин художника Сальвадора Дали: голубой мотоцикл, прикованный цепью к чёрному корявому стволу.
Впервые попавшему сюда гостю казалось, что застройщик данного «полудома» перепутал помещения, по пьяни поставив в прекрасной зале газовую плиту. Ничуть, возражал папа, это всё – следы стихийной планировки и перестройки человечьего жилья разных эпох.
Ну, так или иначе, прекрасная зала была именно кухней: в нишах стояла посуда, кастрюли и сковородки, два-три медных и бронзовых кумгана, купленные отцом на базаре в медной лавке, а кроме обеденного стола был ещё «рабочий стол», за которым отец иногда готовил какие-то наброски к будущим фрескам, а Лида делала «тяп-ляп-уроки». Позже за этим столом она увлечённо и очень серьёзно корпела над росписью альчошек. Здесь же она и спала на придвинутой к стене раскладушке. А что такого? Нормальное жильё, почему – «идиотское»?
Так вот, поначалу бабушка Эльвира снимала комнату неподалёку «от детей», чтобы «курировать девчонку и заставлять её хоть немного направить мозги в разумное русло».
Куда там! Какое там «разумное русло», особенно летом, особенно в каникулы?!
* * *
В соседнем с бабушкиным дворе жила подружка, Элька Майсурадзе. Двор её был куда уютнее бабушкиного – квадратного, утоптанного, уныло-коммунального, без хауза и почти без зелени. Элькин двор – совсем другое дело: не такой густонаселённый, всего на четыре семьи, и празднично-цветастый – ну, просто райская поляна!
И всё благодаря Цветочному Вахибу. Он – садовник обкомовских розовых плантаций, что раскинулись на площади Ленина между зданием обкома и гостиницей «Интурист». У Вахиба там служебная землянка, сырое и душно-душистое подземелье. От боковой дверцы в приземистом ангаре куда-то в тёмную глубь земли уходит крутая лестница. Спускаться по ней не стоит. Ты просто стоишь «на пороге снисхождения в цветочный ад» (это папины, конечно, слова, надо запомнить!) и громко зовёшь Вахиба-акя, – как джинна из пещеры вызываешь. Он возникает-ворочается внизу в мареве жёлтого света от лампочки и начинает карабкаться по крутой лесенке наружу (сначала лысина, затем клочковатая борода, сутулые плечи, барабан-живот, толстые колени в чёрных, всегда запачканных землёй бриджах).
Розы он нарезает на почём есть денег: на 50 копеек, например. А если целый рубль бумажный покажешь, это уже серьёзно. Он тебе на рубль нарежет букет «во цвете лет»: каждый цветок, как из райского сада – на длинном стебле, со слезинками росы на лепестках; каждый – с упругой, но уже раскрывшейся чашей (бутоны не уважал, роза, говорил, должна быть взрослой). Но нарезал всегда по настроению и всегда те, какие сам выберет.
А вот в своём махаллинском дворе Цветочный Вахиб высаживал не розы, а «ночную красавицу», и тому была серьёзная причина: мелкие густые цветки «красавицы» послушнее укладывались в буквы. О, это искусство особое: цветами высаживать слова. Каждый вечер, вернувшись из обкомовской землянки и обстоятельно поужинав, Цветочный Вахиб – в голубой майке, неся перед собой тугое, как резиновый мяч, брюхо, – выходил во двор, волоча голубой резиновый шланг. Становился в центр двора и направлял по кругу острую струю воды, дотягиваясь голубым её жалом до фиолетовых и жёлтых кустиков, и в эти минуты – неподвижный, лишь пальцы рук, сведённые в щепоть, шевелили устьем резиновой змеи, – напоминал гранитный памятник.
Цветочный Вахиб был мастер своего дела: кустики «ночной красавицы» составляли слова. Входишь в калитку, выныриваешь из тёмного долона во двор – перед тобой цветочный плакат: СЛАВА КПСС, каждая буква чередуется по цвету – жёлтая, фиолетовая, жёлтая… Соседи очень гордились: такую красотень где ещё найдёте, в Париже? И не всякого пускали во двор полюбоваться на это художество.
* * *
Впрочем, во дворе был представлен ещё один вид искусства. В глинобитном, глубоком, как пещера, доме (слева от долона и отдельно от других домов) жил и мастерил инструменты Василь Васильич, скрипичный мастер.
Был он высокий, широкоплечий, сильный и злобный человек. Вся его нежность изливалась исключительно на инструменты. Скрипочки в его руках летали, как голу́бки. Он в молодости учился на скрипача, но, повредив мизинец на левой, рабочей для струнника руке, поменял судьбу. Только не область жизни. Играть перестал, в том смысле, что пьесы не исполнял, но когда скрипка – новая или починенная – бывала готова, Василь Васильич приникал подбородком, плечом, щекой к своей красавице, брал смычок и широко, вольно, страстно проводил по струнам… Тогда над двором сильным и протяжным голосом звучал чей-то тревожный оклик, и ещё один, и ещё… Что-то насильственное, что-то девственно древнее было в этом извлечении первого звука из юного тела скрипки. Что-то от казни…
Резкий первородный крик вылетал из приоткрытой двери мастерской, бередил душу, требовал отмщения, реял над плоскими крышами домишек и уходил ввысь, одинокий и горький. Это было как провозвестье беды…
Сын его Сашка жил с ним – мальчик был, соседи говорили, «неудалый»: учиться совсем не мог, но отцу в мастерской помогал. А отец его с детства поколачивал, а то и бил от всего сердца. Бил, словно Сашка был виноват в калечности отца, в невозможности разговорить скрипку «по-настоящему». Сашка рос униженным забитым подростком. Любой сосед, да просто случайный свидетель очередного избиения, сказал бы: сматывайся, Санёк, подальше отсюда, беги от душегуба куда глаза глядят! Но Сашке и идти было некуда, и характером он не вышел, какой-то блаженный был: одержим стремлением «жить с отцом по-родственному, по-людски». Всё прощал, вечно улыбался искательной такой улыбкой, вечно синяки в рукавах прятал. А отец – уж такая сволочь отпетая! – издевался, как мог: топтал само сердце сына, не гнушался и кулаком по лицу врезать. И не то чтоб по пьяни – трезвенник был. Говорил: скрипка алкоголь не переносит.
А вот Сашка, когда подрос, потихоньку стал выпивать…
В этот их дом никого не приглашали, но однажды дверь оказалась приоткрытой, и Лида, заметив, что Василь Васильич удаляется в сторону дворовой уборной, собралась с духом и шмыгнула внутрь.
Она давно была заинтригована воплями то ли Сашки, то ли скрипки. Далеко за порог не прошла: боялась гнева Василь Васильича, да оно и не требовалось – весь дом открывался как на ладони: одно большое помещение с верстаком, длинным прямоугольным столом и тремя стульями. В углу ещё стоял покалеченный контрабас с пугающе огромной дырой, выпиленной в теле.
Мебели, кроме подсобной для производства, не было; разве что за ширмами угадывалось нечто вроде кровати или топчана. Да и не в том дело, ибо с порога взгляд начинал метаться по стенам, на которых висели инструменты – и целые, и по частям, и почти готовые, сохнущие скрипки. Это был скрипичный и альтовый родильный дом: имелись там и зародыши на столах – светлые некрашеные тонюсенькие дощечки, такие хрупкие на вид, что невозможно было поверить, как, сложенные вместе с другой жалкой дощечкой, они могут издавать такие зовущие сильные звуки. Здесь находились и «малыши» для учеников младших классов, и скрипки-подростки, и два-три богатырских инструмента (альты, пояснил отец, когда она рассказала ему о своём набеге на скрипичную мастерскую).
На небольшом столике у стены мерцала маслянистыми бликами толпа разновеликих бутылок, и на маленькой спиртовой горелке булькала кастрюлька, изливая в комнату странный и терпкий, но приятный запах костного клея.
Оба окна выходили в плотные кусты «сентябринок», а за ними угадывались яблони и тутовник; казалось, что окна зашторены зеленью. Комната плыла в зеленоватом древесном свете, как на картине Вермеера в одном из папиных альбомов. Один только солнечный луч, пробив крону яблони, проник в дом. Он стекал по стене, обнажая две скрипки: тёмно-красную и золотисто-медовую, – и нырял в кучу тряпья на полу, над которой дымно клубился фонтан пылинок.
Какая старинная комната, подумала Лида, ещё не совсем понимая, что её здесь удерживает. В школе они уже учили историю Средневековья. В этой комнате, поняла она, живёт Средневековье: сумрачное, прекрасное, возвышенное и пыльное…
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе