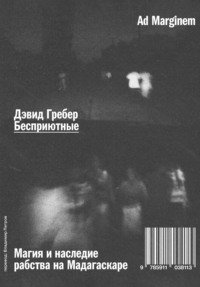Читать книгу: «Бесприютные. Магия и наследие рабства на Мадагаскаре», страница 2
Аривонимамо – столица одноименного административного округа. Имеются несколько государственных учреждений и три средние школы: государственная (CEG), протестантская и католический лицей. Есть клиника и небольшая тюрьма, стоящая на высоком обрыве к западу от города. Вместе с жандармскими казармами в районе старого аэропорта, почтовым отделением и банком они являются зримым воплощением власти. Когда-то поблизости была еще и фабрика, но я увидел ее уже заброшенной; ни один из моих знакомых понятия не имел, что там выпускалось (если выпускалось вообще). Почти вся городская экономика была неформальной, то есть существовала вне мира, где есть налоги и государственная регуляция, – не считая аптеки и двух больших универсальных магазинов. Дело обстояло так же, как и в других мадагаскарских городах: почти все выращивают съедобные растения, все что-то продают. Вдоль улиц тянулись десятки киосков и магазинчиков, где продавался один и тот же ограниченный набор товаров: мыло, ром, свечи, растительное масло, печенье, газировка, хлеб. Каждый владелец машины был таксистом, каждый владелец видеомагнитофона – кинопрокатчиком, каждый владелец швейной машинки – пошивщиком одежды.
Провинция Имерина всегда располагалась на огромных орошаемых равнинах вокруг столицы, Антананариву: плотно заселенные с давних времен, они были ядром могущественных королевств. В XIX веке королевство Мерина завоевало большую часть Мадагаскара; после французского завоевания (1895) Антананариву остался столицей, а прилегающие к нему земли дали большую часть чиновников и представителей образованной элиты. Территория нынешнего округа Аривонимамо всегда была окраинной, малозначащей. Частью королевства она стала довольно поздно и так и не присоединилась полностью к неформальным столичным сетям, дающим деньги и покровительство. Сегодня, как и тогда, Аривонимамо играет второстепенную роль в политике и экономике, здесь почти ничего не происходит.
К северу от Аривонимамо начинаются бесконечные красные холмы: одни покрыты травой, другие поросли эвкалиптами, деревьями тапиа, похожими на карликовые дубы, и порой – соснами. Холмы изрезаны узкими извилистыми долинами, на каждой из них устроены аккуратные террасы для выращивания орошаемого риса. Там и сям возвышаются гранитные скалы: считается, что они были резиденциями древних королей.
В этой глуши нет асфальтированных дорог. Люди ходят пешком – очень немногие могут позволить себе велосипед. Товары перевозятся на телегах, запряженных волами, по грязным дорогам, таким разъезженным, что даже зимой там пройдет лишь самый прочный автомобиль. С началом летних дождей они становятся непроходимыми. Трудности с сообщением во многом обуславливают отсутствие коммерческого сельского хозяйства в сколь-нибудь крупных масштабах, несмотря на близость столицы. Конечно, крестьяне доставляют изрядную часть урожая на городские рынки, и эти продукты во многом служат для пропитания жителей Антананариву. Но всё это очень раздроблено: селяне заключают бесчисленное множество крошечных сделок с очень мелкими торговцами. Кажется, будто все стараются, чтобы мизерная прибыль от покупки и продажи местных продуктов делилась на возможно большее число частей.
Бетафо находится к югу от длинного горного хребта Амбохидрайдимби, и большая часть его располагается всего в тридцати-сорока минутах ходьбы от центра Аривонимамо. Поэтому можно жить в городе и возделывать свои поля в Бетафо, как делают многие, или иметь дома и там, и там, перемещаясь между ними. Семья Армана выбрала последнее: примерно половину ее членов всегда можно было застать в Бетафо, остальных – в городе или других местах. Так или иначе, Бетафо не отрезан от соседних территорий.
Говоря «Бетафо», я подразумеваю не только деревню как таковую. Да, в самом узком смысле это название относится только к центру старинной деревни, где стоят дом Миаданы и еще два дома. В широком смысле он охватывает поселения, раскинутые по двум фоконтани, жителей которого объединяет общее прошлое. В 1990 году, когда я был там, «большой Бетафо» состоял примерно из пятнадцати поселений, в которых насчитывалось восемьдесят домов и проживало от трехсот до пятисот человек. Точнее сказать трудно. Поселения очень неодинаковы по размерам: любое место, где компактно проживают люди, именуется танана – «город», даже если речь идет об одном доме, стоящем на отшибе. К тому же люди постоянно находятся в движении, и нелегко сказать, кого можно называть жителем деревни, а кого нет; семья Армана – хороший пример этому. Зимой, когда нет сельскохозяйственных работ, многие уезжают в города или другие места, чтобы вести там торговлю.
Большинство сельских общин в Имерине имеют определенную экономическую специализацию, которая яснее всего выражена зимой. В одной деревне все мужчины – мясники, в другой женщины плетут корзины или выделывают веревки; места на рынке в Аривонимамо зависят как от местожительства продавцов, так и от их товара. Жители Бетафо традиционно занимались кузнечным делом, и в наши дни примерно треть их по-прежнему имеет кузницу на заднем дворе своего дома. Из тех, кто не работает с молотом и наковальней, очень многие поставляют железные слитки кузнецам и продают изготовленные последними плуги и лопаты на рынках и ярмарках в других частях Имерины. Когда-то всё это ограничивалось одним Бетафо, но ко времени моего приезда кузнечное дело уже было распространено во все области, лежащие западнее столицы. Обитатели Бетафо были известны как продавцы плугов, хотя не изготовляли их у себя, а лишь поставляли железо для мастеров, работавших в других деревнях близ Аривонимамо.
Активизация торговли стала одним из откликов на экономический кризис, который привел к резкому падению уровня жизни на Мадагаскаре начиная с 1970-х годов. Стали популярны всяческие приработки: одна женщина в семье могла проводить большую часть времени, продавая кофе с лотка в городе или занимаясь ткачеством, другая – изготовлять ферментированную маниоку для продажи торговцам на рынке; один мужчина имел тележку с волами и несколько месяцев в году торговал ананасами в другой части Имерины, а другой лишь изредка заезжал в деревню, заправляя одноразовые зажигалки у таксопарка в городе. По этой причине сложно сказать, является ли тот или иной человек членом бетафской общины. Правда, я не очень-то старался выяснить это.
Как уже говорилось, моим главным занятием было собирание устных рассказов: я объезжал деревни вроде Бетафо, обычно с одним-двумя мадагаскарскими приятелями из Аривонимамо. У меня не было официального помощника, но всегда находились люди, готовые посодействовать мне в работе. Я уже называл двоих: Парсона, учителя биологии, который сильно помог мне сразу после приезда (в школе тогда не было занятий), и Шанталь, которая теоретически отбывала свой обязательный год на «национальной службе». На практике это означало, что она дважды в неделю надевала зелено-коричневую форму и давала урок географии в CEG; в остальном у нее было немного дел. Прибавлю к ним тех, в чьих семьях я жил: я проводил много времени в Бетафо, но так и не обосновался там.
На мое восприятие этих мест, несомненно, повлияло то обстоятельство, что я жил в Аривонимамо и лишь время от времени ночевал в Бетафо. Помимо всего прочего, это означало, что я гораздо ближе знаком с особенностями повседневной жизни в городе. Проживание в Бетафо создало бы для меня множество проблем: так, например, я почти наверняка был бы вынужден примкнуть к одной из группировок. В конце концов, вышло так, что я проводил гораздо больше времени с семьей Миаданы, но, если приходилось ночевать, я шел к Арману. Мне показалось, что таким образом я соблюдаю равновесие, и, если бы я оставался всё время в одном месте, оно нарушилось бы.
Кроме того, в городе было гораздо легче исследовать такие феномены, как общение с духами и лечение при помощи магии. Нет, конечно, в Бетафо были медиумы, и они играли немалую роль в местной политике, но те, которые жили в Аривонимамо, гораздо охотнее шли на контакт со мной10. И если я и здесь буду вынужден дополнить свое описание и анализ Бетафо информацией, почерпнутой из других источников, это во многом объясняется тем, что я всегда предпочитал иметь дело с людьми, которые относились ко мне наиболее гостеприимно.
Несколько слов о последнем обстоятельстве. Как и большинство антропологов, я немало размышлял о политических аспектах полевых исследований. Трудно не чувствовать себя настороженно там, где городские жители, казалось, находили особое удовольствие в том, чтобы рассказывать мне, как деревенские боятся вазаха (людей европейской внешности вроде меня), как их боятся дети. Для большинства мадагаскарцев одно слово вазаха звучит угрожающе. К счастью для меня, его изначальное значение – «француз», а я (мне бесчисленное множество раз приходилось объяснять это) не говорю по-французски. Общение только на малагасийском языке во многом снимало напряжение. Но само проведение исследований вызывало определенные ассоциации. Прежде всего, в Имерине много образованных людей. Слыша от меня, что я – американский студент, занимающийся исследованиями для получения докторской степени по антропологии, все прекрасно понимали, о чем речь. Никто не сомневался также, что это – полезное, даже замечательное занятие. Но познание во многом ассоциировалось у них с управлением людьми, и вскоре у меня сложилось впечатление, что одни виды исследований устраивают их больше, другие – меньше. Возможно, я отличаюсь излишней чувствительностью, но, когда мне казалось, что я вступаю на территорию, нахождение на которой не приветствуется, я делал шаг назад. Я хотел, чтобы люди разговаривали со мной охотно.
Поэтому я, видимо, лучше знаю, как распределялось имущество между жителями Бетафо в 1925 году или даже в 1880-м, чем в то время, когда я жил там. Власти обследовали имущество под угрозой применения силы; это означало, что в архивах хранятся обширные записи; это также означало, что я сам не хотел заниматься этим. Даже хождение от двери к двери с целью оценить размеры домовладений оказалось… скажем так, нелегким делом. Платой за нежелание вторгаться в чужую жизнь стало отсутствие точных цифр.
Качество и внутреннее построение этой работы напрямую связаны с моим стилем исследования. Я редко брал формальные интервью – вместо этого я доставал диктофон и включал его при любом удобном случае; обычно я задавал вопросы или ставил какую-нибудь проблему, но стоило собеседникам понять, что за темы меня интересуют, как всё происходило само собой – особенно если в комнате была Миадана или кто-нибудь вроде нее11. Мне помогло то, что на Мадагаскаре любят разговаривать. При виде магнитофона люди не застывали на месте, а, наоборот, начинали шутливо соревноваться между собой: кто лучше умеет говорить, кто остроумнее отвечает, кто больше знает. Конечно, в таком месте, как Бетафо, вопрос о том, кто и что сказал, а также в чьем присутствии это было, являлся сугубо политическим. Политические аспекты разговора – один из главных теоретических вопросов, которые я ставлю в этой книге.
Как видно из случая с Миаданой, отказ от разговоров на темы, неприятные для людей, не означал, что мне доставалась только «официальная версия» событий. Честно говоря, авторитетные отчеты часто казались мне довольно скучными и интересовали меня лишь благодаря своей неполноте. Я всегда считал, что нерешительность, замешательство, напряженность, двусмысленность, когда люди будто бы хотят и в то же время не хотят говорить о чем-либо, – вернейший признак того, что дело важное. Как правило, о таких делах лучше беседовать с женщинами. Нередко женщины уступали мужчинам право говорить от имени общины – но не менее часто давали им высказаться лишь затем, чтобы немедленно опровергнуть их слова. Даже пожилая женщина, которая отвела меня к сыну, чтобы тот поведал об истории деревни, начала перебивать его, когда под конец он принялся рассказывать о печально известной ведьме: картина деревенской солидарности, которую он попытался нарисовать, была полностью смазана, а собравшиеся мужчины пришли в замешательство. И такое случалось неоднократно. Порой мне даже казалось, что это некий ритуал. В конце концов, я пришел к выводу, что любые рассказы о прошлом и рассуждения о нравственности выглядят именно так: мужчины сооружают идиллическую историю, женщины не оставляют от нее камня на камне. Любой предмет существует лишь для того, чтобы подвергнуться разрушению.
Само существование государства
Незадолго до моего отбытия на Мадагаскар один американец, долго работавший там, посоветовал мне проявлять крайнюю осторожность при поездках по сельской местности. Государственная власть, по его словам, распадалась. Во многих частях острова она фактически перестала существовать. Даже из Имерины поступали сообщения о том, что фокон’олона – деревенские собрания – начали приводить в исполнение смертные приговоры.
Это была одна из моих главных забот, когда я оказался на Мадагаскаре. В столице власть, само собой, функционировала, и чуть ли не каждый образованный человек работал на нее. Почти то же самое я встретил в Аривонимамо. Конечно, о правительстве говорили постоянно, каждый вел себя так, словно оно есть. Существовала административная структура, имелись офисы, где люди распечатывали документы, регистрировали имущество, вели учет рождений и смертей, фиксировали количество скота. Даже для проведения важнейших ритуалов требовалось официальное разрешение. Правительство держало школы, проводило национальные экзамены; были жандармы, тюрьма, аэродром с военными самолетами.
И лишь потом, когда я уехал, я начал задумываться о том: не было ли то, что сказал мне тот американец, правдой? Возможно, я проявил предвзятость, поскольку всегда жил при эффективном и вездесущем правительстве, а потому неправильно понял его слова. Возможно, в Бетафо действительно не было государства; возможно, его не было даже в Аривонимамо – или, во всяком случае, оно не напоминало то, что я и другие приезжие из западных стран привыкли считать государством.
На западе основным свойством государства считают способность к принуждению. Государство использует насилие, чтобы обеспечить соблюдение закона. Есть классическое определение Макса Вебера: «Государство есть то человеческое сообщество, которое внутри определенной области… претендует (с успехом) на монополию легитимного физического насилия» (1968 I: 54)12. Подобное определение дает возможность собраться с мыслями, но не позволяет установить, является ли та или иная организация государством, поскольку ключевые слова здесь – «с успехом». Но, как часто бывает с Вебером, он разглядел здравый смысл, лежащий в основе современных западных институтов, совсем не чуждых Мадагаскару, где власть устроена преимущественно по западному образцу. Большинство жителей страны, думаю, согласились бы с тем, что способность применять насилие таким образом – это, по сути, то, что делает государство государством, даже несмотря на то, что в большинстве малагасийских деревень государство почти не желает этого делать.
В столице имелась полиция. В окрестностях Аривонимамо ближе всего к этому понятию стоял отряд жандармов, размещавшийся в казармах западнее от города. Жандармы большей частью патрулировали шоссе. Иногда, как мне говорили, они сражались с бандитами еще дальше к западу, но не любили углубляться в сельскую местность. За городом или вне шоссе жандармы появлялись только в случае убийства.
Даже в городе они не очень-то походили на полицейских. В Аривонимамо я много слышал о хулигане по имени Анри, могучем мужчине, возможно, умственно нездоровым (некоторые утверждали, что он просто притворялся), который годами запугивал жителей, угрожая изнасилованием или избиением. Анри брал товары в местных магазинах и никогда не платил за них. После долгих споров молодые горожане наконец решили сообща его убить. Но у них не вышло: тяжело раненный Анри укрылся в католической церкви и потребовал убежища, заявив, что его преследуют из-за психического расстройства. Священник-итальянец посадил его в грузовое отделение фургона и отвез в психиатрическую клинику. Вскоре его выгнали оттуда за избиение пациентов, но он много лет не совал носа в Аривонимамо. «Но почему жандармы не делали ничего?» – спрашивал я. «Вы не видели Анри, – отвечали мне. – Это такой детина!» – «Но у жандармов есть оружие». – «Ну, всё равно».
Иногда между различными силами охраны порядка происходили столкновения. Так, непосредственной причиной ордалии, устроенной в Бетафо (1987), стала кража запасов риса у знатного старейшины. Предполагаемого вора забили до смерти жители соседней деревни. Некоторые говорили, что это сделала фокон’олона, стремясь придать поступку законный вид: по умолчанию считается, что, если даже родственники неспособны защитить кого-либо, фокон’олона берет дело в свои руки13. В данном случае отец жертвы отказался защищать сына перед бетафской фокон’олоной, прекрасно зная, к чему это может привести. Те, кто напал на него, вероятно, считали, что вправе поступить так. Тем не менее жандармы арестовали двоих – правда, некоторые свидетели были не согласны с этим и отправились к жандармам требовать справедливости. Так или иначе, факт остается фактом: жандармы выезжают на грязные дороги, ведущие в сельскую местность, лишь в редчайших случаях – например, когда у них на пороге появляется очевидец убийства.
Всё это, однако, исключительные события, которые почти не случаются в Аривонимамо. Убийство – это нечто поразительное, событие, о котором говорят долго; людей вроде Анри очень мало. И всё же общинные собрания выработали разнообразные методы приведения законов в исполнение, учитывая, что силы охраны порядка занимаются этим неохотно. Один из них – ордалии, в которых участвуют все члены общины14. Другой – обычай предварительного признания: например, при нападении на кого-либо фокон’олона заставляет преступника подписать заявление с признанием своей ответственности за любой вред, который может быть причинен жертве в будущем. Это заявление потом хранится у жандармов в городе. Государство, таким образом, наделяется призрачной властью, становится принципом, а не угрозой, ведь если виновный игнорирует предупреждение, то – исключая случай убийства жертвы – члены фокон’олоны сами задерживают его и доставляют к жандармам. Бумаги лишь повышают вероятность того, что он окажется в тюрьме.
Теории, исходящие из факта существования общественных классов, почти всегда гласят, что важная, если не важнейшая, роль государства заключается в поддержании отношений собственности. Договорные, рыночные отношения могут существовать только потому, что их основа – базовые правила игры – закреплена в законах. Эти законы, в свою очередь, эффективны лишь постольку, поскольку все знают, что они будут проводиться в жизнь – в конечном счете – при помощи дубинок, огнестрельного оружия и тюремных сроков. И, конечно, если самой надежной гарантией отношений собственности является государственное насилие, это верно и применительно к социальным классам.
Но в Бетафо государство попросту не играло этой роли. Я не могу представить себе ситуацию, в которой оно направило бы вооруженных людей для защиты права человека не пускать других на свою землю – не говоря уже о принудительном исполнении контракта или расследовании ограбления. Значение этого обстоятельства я также осознал позднее, поскольку все вели себя так, будто признавали роль государства во всём вышеназванном. Государство следило за всеми владельцами земли: если кто-нибудь умирал, раздел его полей и прочего имущества тщательно фиксировался соответствующими учреждениями: одной из их главных задач была регистрация права собственности, а также рождений и смертей. Существовало множество законов, касавшихся земли, и никто не оспаривал их в открытую. Казалось, все по умолчанию полагали, что регистрационная запись дает точное представление об окончательных правах на землю. На практике же закон имел второстепенное значение. При возникновении спора приходилось считаться с «традиционными» принципами (обычно дававшими более одного решения для каждой проблемы), намерениями бывших владельцев и, что немаловажно, с чувством справедливости в широком смысле, подразумевавшим, скажем, что ни один полноправный член общины не должен оставаться без средств к существованию. Никто не обращался в суд, разве что в редких случаях, когда в тяжбе участвовал чужак. Но и тогда суд выступал скорее в качестве нейтрального посредника; всем было известно, что его решение никто не станет проводить в жизнь насильственным способом15.
Чтобы попробовать понять значение всего этого, можно применить различные подходы – например, предположить, что в культуре мерина содержится иное представление о государстве, чем в западной. Что если от государства просто не ожидают защиты собственности? (Тот, кто утверждает обратное, возможно, придерживается чуждых этой культуре принципов, навязанных французским колониальным режимом.) Но нет – доколониальное государство мерина строго относилось к собственности и всячески защищало ее. Король Андрианампойнимерина, его основатель, постоянно подчеркивал роль собственности в своих речах. Своды законов, начиная с принятого при Андрианампойнимерине, содержали положения о наследовании, покупке, аренде имущества и тому подобных вещах: это была одна из главных забот правителей. Даже регистрация земельных угодий началась в доколониальный период – а именно в 1878 году, за семнадцать лет до французского вторжения.
Одновременно имеющиеся у нас свидетельства говорят о том, что в ту эпоху сложной системе законов придавали гораздо больше значения, чем сейчас, хотя, похоже, никто ни разу не выступил против нее открыто. Как правило, люди не оспаривают законодательства, но применяют его очень избирательно. В большинстве случаев все продолжают делать свои дела привычным способом. Думаю, именно это обстоятельство дает наилучшую подсказку.
Позвольте сделать кое-какие обобщения. Столкнувшись с тем, кто олицетворяет нежелательную для него власть, малагасиец, скорее всего, охотно согласится с любыми его требованиями, а когда тот удалится, он будет жить дальше, точно этого случая не было. Пожалуй, можно сказать, что малагасийцы ведут себя так при встрече с любыми представителями власти. И, вероятно, такой образ действий характерен не только для Мадагаскара. Обычно это считается типично «крестьянской» стратегией, поведением экономически независимого человека, выслушивающего указания о том, как ему быть. Но есть и множество других путей: конфронтация, переговоры, подрывная деятельность, попустительство – во всевозможных сочетаниях. На Мадагаскаре испокон веков стремились избегать открытых конфликтов, поэтому излюбленный подход здешних жителей выглядит следующим образом: «Сделаем так, чтобы они были довольны, а потом не будем обращать на них внимания». Это отразилось даже в космологии: малагасийский миф о происхождении смерти гласит, что жизнь была получена от Бога в обмен на обязательство, которое люди не собирались исполнять. (Потому-то, говорят они, Бог убивает нас.)
Я считаю этот мифологический эпизод очень показательным. Можно утверждать, что всё это в конечном счете соответствует логике жертвоприношения. На Мадагаскаре (а может, и в других местах?) суть его нередко формулируется следующим образом: отдадим божественным силам часть принадлежащего им по праву, чтобы отдать остальное живым людям. Часто говорят, что Бог забирает жизнь животного, подразумевая, что тем самым мы сохраняем свою собственную. Теперь посмотрим на любопытное обстоятельство: по всему Мадагаскару для жертвоприношений – или их функциональных эквивалентов, таких как имеринский ритуал фамадихана16,– всегда требуется разрешение властей. О том, что разрешение получено и все бумаги оформлены должным образом, часто сообщают во время самой церемонии. Вот отрывок из речи одного представителя этнической группы бецимисарака (восточная часть острова), произнесенной над телом жертвенного быка:
Этот бык – не из тех, кто ленится, пребывая в своем загоне, или гадит, вступая в деревню. Его тело здесь, с нами, но его жизнь – с вами, с властями. Вы, власти, подобны большому зверю, лежащему на спине: тот, кто переворачивает его, видит его огромные челюсти. Так и мы, друзья, не можем перевернуть этого зверя! Это официальное разрешение – пусть нож разрежет его шкуру, пусть топор сокрушит его кости, – исходит от вас, обладателей политической власти (Aly 1984: 59–60).
Государство выступает в роли насильника и его жертвы одновременно, но, кроме того, получение разрешения приравнивается к самому обряду жертвоприношения. Я хочу сделать акцент на автономии. Заполнение бланков, регистрация земли, даже уплата налогов – всё это можно считать эквивалентами жертвоприношения: мелкие ритуалы задабривания власти, благодаря которым человек получает автономию и продолжает жить как жил.
Тема автономии поднимается в ряде исследований, посвященных Мадагаскару колониального и постколониального периодов – например, в работах Жерара Альтаба (1969, 1978) о тех же бецимисарака и Джиллиан Фили-Харник (1982, 1984, 1992) о сакалава17, проживающих на северо-западном побережье. Но у этих авторов она приобретает дополнительное измерение: оба полагают, что на Мадагаскаре наиболее распространенный способ достижения автономии – создание ложного ощущения господства. Логика здесь следующая: сообщество равных может быть создано только путем подчинения некоей всеобъемлющей силе. Обычно этой силе приписывают произвол и жестокость, примерно так же, как малагасийскому Богу. Но она в той же мере может быть далека от повседневных людских забот. Одной из самых драматичных реакций на колониальное господство среди обоих народов стало массовое распространение одержимости. В обитательниц всех общин вселялись духи древних королей, и считалось (по крайней мере, теоретически), что они обладают такой же властью, как при жизни. Одержимые женщины, говорившие от имени королей, наделялись властью, которой французские чиновники и полицейские не решались противостоять открыто. Образ действий всегда был одним и тем же: кому-нибудь удавалось учредить пространство свободы, позволяющее существовать вне досягаемости властей, создать иллюзию полного могущества – но именно что иллюзию, призрак, управляемый теми, кто якобы подчинялся ему.
Грубо говоря, можно сказать, что люди, которых я знал, занимались своего рода мошенничеством. Власти – по крайней мере, начиная с колониальной эпохи, – казались им чем-то чужим по самой своей сути, связанным с хищничеством и принуждением. Основным чувством, испытываемым при встрече с ними, был страх. При французах государственный аппарат был в первую очередь механизмом для извлечения денег и принуждения подданных к труду на благо властей; он давал мало социальных благ сельским жителям (а с их точки зрения, вовсе не давал благ). В той мере, в какой правительство заботилось о повседневных нуждах обитателей страны, оно сознательно старалось порождать новые потребности и видоизменять желания людей, чтобы усилить их зависимость от себя. После провозглашения независимости (1960) почти ничего не изменилось – установившийся тогда режим не стал менять практически ничего в этой политике и методах ее осуществления. Большинство населения думало, что государство надо задобрить и затем держаться от него подальше, насколько это возможно.
Положение начало меняться лишь после революции 1972 года, являвшейся по своей сути антиколониальным восстанием. После нее у власти находились военные правительства, поощрявшие государственный капитализм; с 1975 по 1991 год в политике доминировал президент Дидье Рацирака. Он вдохновлялся тем, что делал Ким Ир Сен в Северной Корее; в теории его режим был социалистическим, с упором на крайнюю централизацию и мобилизационную экономику. Однако Рацираку с самого начала не интересовал традиционный крестьянский сектор – стагнирующий, с небольшим революционным потенциалом. В сельском хозяйстве, как и в промышленности, правительство сосредоточило усилия на выполнении грандиозных (иногда даже рискованных) планов экономического развития, предусматривавших привлечение займов из-за рубежа. В 1970-е годы займы текли рекой. К 1981 году государство оказалось неплатежеспособным. С тех пор история мадагаскарской экономики сводится по преимуществу к переговорам с Международным валютным фондом (МВФ).
Я не хочу вдаваться здесь в подробности планов жесткой экономии, навязанных МВФ. Достаточно сказать, что ближайшим их результатом стало катастрофическое падение уровня жизни во всех смыслах. Тяжелее всего пришлось чиновникам и другим государственным служащим (составлявшим основу среднего класса), но – если не говорить об узком круге приближенных президента, предававшихся бесконтрольному воровству, – обнищание было всеобщим. Сегодня Мадагаскар – одна из беднейших стран мира.
Для «крестьянского сектора», которым пренебрегал Рацирака – в сельскохозяйственных областях не производят базовых товаров, – это время ознаменовалось постепенным уходом государства. Самые обременительные налоги, введенные французами – подушная подать, налог на скот, налог на дом – с целью заставить крестьян продавать свою продукцию и тем обеспечить переход к денежной экономике, – были отменены сразу после революции. Режим Рацираки сначала игнорировал местную сельскую власть, а после 1981 года всё чаще перетряхивал ее. Государство, ресурсы которого постоянно уменьшались по мере урезания бюджетов, отныне управляло – предоставляя там минимальный набор социальных услуг – городами и территориями, которые правительство считало важными с экономической точки зрения, по большей части теми, что давали хоть какие-нибудь валютные поступления. Такие места, как Аривонимамо, где производство и сбыт почти целиком осуществлялись за пределами формального сектора, не представляли для него интереса. И действительно, трудно вообразить, что здесь произойдут события – если только эта территория не станет базой для вооруженных партизан, что очень маловероятно, – способные всерьез затронуть интересы истинных правителей страны18.
Сельским районам перестали выделять деньги. К тому времени, как я оказался в Аривонимамо, сколь-нибудь существенные средства поступали только в образовательную систему. Но и они, по сути, были скудными: государство в основном занималось тем, что назначало учителей (жалованье им частично платили родительские ассоциации), присылало учебные программы и устраивало экзамены. Последние, особенно бакалаврские, очень заботили столичных чиновников, так как были пропуском в формальный, государственный сектор: те, кто успешно сдавал их, уезжали на военные сборы, длившиеся несколько недель, а затем в течение года находились на «национальной службе», то есть – как я уже отмечал – назначались на бессмысленные подсобные работы и большей частью бездельничали. И всё же мне кажется, что «национальная служба» играла важную роль. Она обозначала переход в ту сферу, где существовала реальная государственная власть, где исполнялись распоряжения. Тем, кто не был занят в образовательном секторе, государство не давало ничего19 – но зато оно в целом не имело власти над ними.
Этот случай подчеркивает, что правоохранители почти не обращали внимания на экономические дела; обычно мало что раздражает их больше, чем человек, выдающий себя за полицейского. Такой поступок наносит удар по самой сути их власти. Но этот самозванец действовал внутри области, которая не интересовала жандармов. В конце концов, жандармы никогда не делали ничего, чтобы защитить лавочников от Анри, и это происходило в городе. Лжеофицер, похоже, промышлял почти исключительно на селе.
Начислим
+18
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе