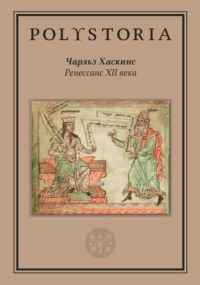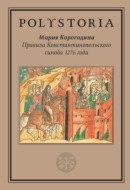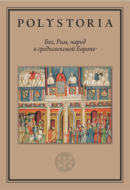Читать книгу: «Ренессанс XII века», страница 3
Упадок монашеской жизни настиг и Германию. Старые имперские аббатства Фульда, Корвей и Лорш почти разорились, число монахов сократилось, а все их интеллектуальное лидерство сошло на нет. Германия стала благодатной почвой для новых реформаторских движений – цистерцианского, августинского и премонстратского – как в старых регионах, где произошел упадок, так и в новых землях миссионерской деятельности, но ни один из этих новых орденов не возник в Германии – все они возникли в романских землях. Их расширение во многом способствовало распространению на Восток французской агрокультуры и архитектуры и – в меньшей степени – книг и образованности. Более поздние библиотеки XII века почти полностью состояли из одних только трудов Отцов Церкви, хотя библиотека Тегернзее все еще хранила сочинения классических авторов. Новые идейные течения зарождались в другом месте. В праве и медицине, что очевидно, и даже в теологии «во второй половине века Германия, несомненно, отстает от романских стран»21.
В Испании естественное развитие монашеской жизни было прервано мавританским нашествием и последовавшими за ним религиозными войнами, и в возрождении XI века ведущую роль взяли на себя клюнийцы, а не бенедиктинцы. Это древнее движение уже пережило свой расцвет к XII веку: в сохранившихся рукописях библиотеки аббатства Силос едва ли можно обнаружить французское влияние, характерное для того века. Санта-Мария-де-Риполь достиг своего расцвета при аббате Олибе (1008–1046), к этому же времени относится каталог его знаменитой библиотеки из 246 наименований. Однако к рассматриваемому нами периоду монастырь стал зависимым от марсельского аббатства Сен-Виктор. Сан-Педро-де-Карденья был известен главным образом гробницей Сида. Новым знаниям, которые Испания распространяла по Европе в тот период, не нашлось места в ее собственных монастырских библиотеках. Общее количество известных рукописей XII века из Испании, в самом деле, на сегодняшний день разочаровывает.
Упадок в XII веке коснулся и Клюнийского ордена. Основанный в 910 году в знак протеста против секуляризации монашеской жизни, Клюни стал центром великого движения – церковной реформы, достигшей своего апогея во времена Григория VII. Помимо стремления освободиться от мирского и епископского контроля, она упростила ручной труд бенедиктинцев удлинением службы с хоровым пением и сменила их децентрализованную систему автономных аббатств монархическим режимом, при котором один верховный аббат назначал приоров всех подчиненных монастырей и посещал их лично или отправлял туда своих заместителей. Наряду с этим представители всего ордена позже вызывались на ежегодный капитул под руководством верховного аббата. Такая организация была хороша для введения и поддержания дисциплины в старых монастырях, пришедших в упадок. Она также подходила для колонизации, так что клюнийские приораты стремительно поднимались вдоль паломнических путей, ведущих в Испанию, и распространялись на самом полуострове в ходе Реконкисты до тех пор, пока орден не стал насчитывать 26 монастырей за Пиренеями, некоторые из которых серьезно поспособствовали восстановлению там христианской культуры. Саагун даже называли «испанским Клюни». Кроме того, в Испании XI века Клюни проделал заметную для Рима работу, поддерживая литургию по римскому образцу вместо мосарабского обряда и добиваясь епископства для своих «способных и образованных юношей» (juvenes dociles et litterari), прибывавших из Франции. Клюнийская централизация также была очень важна для стимулирования путешествий и налаживания связей, а вместе с тем, несомненно, и для обмена книгами, идеями и формами искусств. Обычаи Клюни допускали копирование рукописей, но классическое обучение не одобряли. Если в часы тишины монаху требовалась книга, то он подавал знак, имитируя перелистывание страниц; если ему нужна была книга классического автора, то по-собачьи чесал ухо. Тем не менее в Клюни читали классиков, особенно Вергилия, Горация и даже Овидия с Марциалом. Среди 570 томов каталога Клюни XII века, удивительно крупного и полного собрания для своего времени, встречается много подобных авторов. Клюнийский орден располагал малым количеством известных школ, их авторы посвящали свои труды в основном вопросам благочестия и биографиям священнослужителей. Историей, например, пренебрегали в особенности. Из семи великих аббатов, под руководством которых процветал Клюни, последний умер в 1156 году. Этот знаменитый человек – Петр Достопочтенный. В его переписке сохранились описания путешествий в Испанию и Италию, заметки о собственных трудах против ересей, об усилиях по борьбе с мусульманами посредством перевода Корана и написания антимусульманских трактатов. Также до нас дошла его переписка о медицине с салернским учителем Бартоломео, не говоря уже о проповедях, богословских трактатах и поэмах, свидетельствующих о его знакомстве с древними. Однако Клюни уже соперничает с «новыми воинами Христовыми» (novi milites Christi) из Сито – и теряет свое лидерство перед лицом нового аскетизма святого Бернарда.
XII век и предшествующие ему годы были плодотворны для новых орденов: картезианцев, премонстрантов, августинских каноников, гранмонтенсов, камальдулов, ордена Фонтевро и – особенно – для ордена Сито, цистерцианцев. Однако они ставили перед собой скорее духовные, чем интеллектуальные задачи; их влияние сказывалось в распространении миссионерства или более строгом соблюдении аскетических принципов, но не в развитии образования. Конкретные обязательства, подобные картезианскому правилу молчания и созерцания, действительно, работали в противоположном от образования направлении, несмотря на прямое упоминание о копировании рукописей в кельях. Лучшей иллюстрацией этих аскетических тенденций служат цистерцианцы и их великий наставник святой Бернард. Доказательство популярности этого ордена – его разрастание в течение сорока лет: ко времени смерти Бернарда в 1153 году он охватывал сорок три общины.
Цистерцианцы, сторонники простой жизни, стремились восстановить устав святого Бенедикта в его самой суровой форме. Работа в поле считалась обязательной, пение в хоре теперь стало занимать шесть часов, включая службу посреди ночи. Не было ни одного свободного часа. Все должно было быть максимально простым, и в особенности – сами церкви. Рукописи копировали и переписывали, однако запрещалось украшать их иллюстрациями и орнаментом, поскольку основная цель копирования заключалась в том, чтобы предоставить хору правильный текст. Все цистерцианские монастыри должны были пользоваться идентичным текстом «миссала, Посланий апостолов, Библии, коллектариума, градуала, антифонария, устава ордена, сборника церковных гимнов, псалтири, лекционария и календаря». Библиотека Клерво воссоздана на основании того, что сохранилось до наших дней; рукописи XII века в ней почти полностью содержат библейские, святоотеческие и литургические тексты, немного истории, несколько учебников и несколько классических произведений. Право, медицина, философия, схоластическое богословие практически полностью отсутствуют. «Сито не был центром образования, даже теологического»22. Величайший лидер цистерцианцев, Бернард, был мистиком, а не ученым. В лучшем случае цистерцианские библиотеки были богословскими, светской же литературы в них, как мы можем судить по каталогам Риво и австрийских монастырей, было очень мало. Для вступления в орден умения читать не требовалось.
Новые ордена имели еще одно значение для интеллектуальной истории – их европейские организации противодействовали крайнему локализму отдельных монастырей и требовали регулярных сообщений между различными и часто очень удаленными учреждениями, в отличие от редких и случайных связей более ранних времен. Путешествовать в Рим и из Рима монахов также побуждали тенденции внутрицерковной централизации в вопросах апелляций и подтверждения владений, а также рост папской защиты отдельных монастырей. С другой стороны, индивидуальные привилегии и папское покровительство новым орденам ослабляли местные связи, которые соединяли монастырь с епархией, и таким образом усиливался контраст между черным и белым духовенством. Тем не менее нам не следует предполагать полное интеллектуальное разделение черного и белого духовенства даже в период их расхождения, особенно в отношении других групп клириков. Например, в случае Парижа, в силу множества причин, мы можем мысленно объединить соборное духовенство, секулярных каноников аббатства Сент-Женевьев, регулярных каноников Сен-Виктора и монахов Сен-Жермен-де-Пре вкупе с представителями других окрестных монастырей. Не следует также забывать, что во многих соборах были монашеские капитулы, особенно в Англии, где Кентербери, Рочестер, Винчестер, Вустер и Дарем стали яркими тому примерами.
В то же время нельзя упускать из виду интеллектуальные связи монастырей с мирянами, особенно после убедительных примеров, приведенных Жозефом Бедье в его исследованиях генезиса французского эпоса23. Если распространение культуры из монастыря в окружающее его пространство полей или лесов происходило медленно, то в городах и вдоль больших дорог, особенно вдоль паломнических путей в Рим и Компостелу, дело обстояло совсем иначе. Пристанища для путников, места исцеления и утешения, источники святости и даже чудес – все эти религиозные учреждения фиксировали в своих анналах далекие свидетельства и слухи, рассказывали о чудесах, творимых местными святыми и реликвиями, и становились источником всевозможных сюжетов для народных эпосов, которые слагались вдоль этих дорог и об этих святынях. Такие места были естественными точками соприкосновения мира монаха и ризничего с миром паломника, торговца и жонглера, местом встречи священного и мирского, латыни и просторечия, пока все это не стало неразличимым для нашего глаза. Сен-Дени, Мо и Фекан, Везле и Новалеза, Желлон и Сен-Жиль, клюнийские приораты на пути в Испанию – эти и многие другие монастыри теперь известны как центры создания и распространения эпоса XI–XII веков.
С закатом монастырей как интеллектуальных центров соборы на некоторое время занимают то положение, к которому они давно готовились. В результате реформы, которая стала всеобщей в IX веке, духовенство, прикрепленное к собору, было подчинено режиму общей, квазимонашеской жизни, регулируемой уставом или каноном, от которого и получило свое название. Со временем эти каноники обрели возможность выбирать епископа, претендуя на часть доходов его кафедры: постепенно они превращались в личные пребенды. Каноники образовывали капитул, который вместе с различными младшими служащими – регентом хора, схоластиком и канцлером – находился под руководством настоятеля. Иногда распадающийся капитул преобразовывался в обычную монашескую общину. В любом случае капитул также нуждался в своих книгах, своей школе и своей документации, так что нам следует помнить и о тех, кто непосредственно помогал епископу в управлении епархией и составлял епископский двор, в котором в то время роль каноников и секретарей была весьма значительной. Для наших целей капитул и епископа в XII веке можно рассматривать как единый интеллектуальный центр, богатый, могущественный, часто высокообразованный и всегда находящийся в городской общине, а не в сельской изоляции, как большинство монастырей. Соборная библиотека, соборная школа, соборные архивы, деяния епископов, писания каноников, епископское правосудие, покровительство епископа в образовании – все это играло большую роль в тот период, занимая промежуточное положение между монастырем с одной стороны и дворами правителей – с другой.
Наиболее активными в интеллектуальном отношении центрами в XII веке были соборы Северной Франции. Значения их школ мы коснемся тогда, когда речь пойдет о происхождении французских университетов; их связь с литературой и философией эпохи мы будем обсуждать в другом месте. Остановимся на значении Шартра и Орлеана как центров классического Возрождения, Реймса и Лана как центров схоластического обучения, Парижа как родины первого северного университета. Все они привлекали учеников из Германии, Англии и даже из-за Альп. Список великих писателей того времени включает в себя епископов, таких как Хильдеберт в Ле-Мане (и Туре), Жильбер Порретанский в Пуатье, Петр Ломбардский в Париже и Иоанн Солсберийский в Шартре; секретарей епархий, таких как Ансельм Ланский, Бернард Шартрский, Петр Коместор и Петр из Пуатье в Париже; каноников, таких как вагант Гуго Орлеанский и автор стихотворной Библии Петр Рига из Реймса24; соборных учителей, таких как Роберт Меленский, Гильом Коншский, Бернард Сильвестр и Абеляр. Большинство великих имен в поэзии, теологии и образовании связано с соборами. Даже прелаты, которые сами не писали, поощряли образование; например, Гильому Белорукому, епископу Шартра, затем архиепископу Санса и Реймса (1176–1202), кардиналу и регенту Франции во время Третьего крестового похода, посвящены «Александреида» Вальтера Шатильонского, «Микрокосмография» некоего Гильома, «Сентенции» Петра из Пуатье и «Схоластическая история» Петра Коместора. Примечателен и двор его жившего по соседству брата, Генриха Щедрого, графа Шампани.
Английский Кентербери – лучший пример такого мощного соборного сообщества. Уильям Стаббс даже сравнивает его в качестве литературного центра с современными Оксфордом и Кембриджем. Архиепископ Теобальд (1138–1161), обучавшийся в Ле-Беке, собрал вокруг себя в Кентербери ученых. Его секретарем был Иоанн Солсберийский, «в течение тридцати лет являвшийся центральной фигурой английской учености», чьи письма затрагивали как литературные, так и управленческие темы, отражали отношения с континентальными учеными и его многочисленные поездки во Францию и Италию. Его советником по вопросам права был магистр Вакарий, итальянский юрист, писавший о богословии, каноническом и гражданском праве. Кентербери уже тогда был тесно связан с великими школами континента. Его следующим архиепископом был Фома Бекет, учившийся как под руководством Теобальда, так и в Королевской курии. И в Кентербери, и в изгнании он опирался на группу своих приближенных, «ученых святого Фомы» (eruditi Sancti Thome), которые своими письмами и биографиями сделали очень многое для сохранения памяти о нем. Один из них, Петр Блуаский, оставил нам следующее описание архиепископского двора.
Этот двор, в котором я живу, уверяю вас, есть стан Божий, не что иное, как дом Господа нашего и врата небесные. В доме моего господина архиепископа живут самые ученые люди, справедливые в правосудии, осторожные в предусмотрительности, эрудированные во всяком знании. После молитвы и перед едой, в чтении, в споре, в решении дел они постоянно упражняются. Все запутанные вопросы королевства передаются нам, и, когда они обсуждаются на общем слушании, каждый из нас без распри и обвинений оттачивает свой ум, дабы хорошо говорить о них, и, исходя из более тонких соображений, предлагает то, что он считает самым здравым и рассудительным советом25.
Кентербери был монашеской общиной, и среди монахов мы найдем историка Гервасия Кентерберийского, поэта Нигелла Вирекера, автора знаменитой сатиры на студентов Парижа, и многих участников переписки «Кентерберийских писем» (Epistolae Cantuarienses) конца XII века, один из которых с удовольствием цитировал «Искусство любви» Овидия. В соборе также была знаменитая библиотека, разрушенная к настоящему времени, но ее содержимое было искусно восстановлено упорным трудом доктора Монтегю Джеймса.
Ни один другой английский собор не мог соперничать с Кентерберийским, многие архидьяконы и каноники которого отличились в литературе того времени: каноники – чаще всего в исторической, архидьяконы – в области права. И то и другое они изучали в Болонье, наслаждаясь плодами своих английских пребенд и, вероятно, прислушиваясь к дискуссии на злободневную тему: «Может ли архидьякон спастись?» (An archidiaconus possit salvus esse)26. И хотя епископ Винчестера Генрих Блуаский, брат короля Стефана, был знаменитым покровителем искусства и литературы, с течением времени самым важным интеллектуальным центром Англии стал, пожалуй, собор Святого Павла. Если какой-либо гость посещал город, «то декан собора, почтенный Радульф де Дисето, показывал ему прекрасную рукопись “Исторических записок” (Ymagines historiarum). От каноника Ричарда, главного казначея, гость мог узнать историю Палаты шахматной доски или даже позаимствовать драгоценную “Трехколонную книгу” (Liber Tricolumnis), которая впоследствии была утрачена. Петр Блуаский жаловался на маленький доход от занимаемого им места архидьякона, но мудро полагался на успех своего пера. Роджер Нигер, по-видимому, спасался от гнева короля, которого довел до бешенства своими дикими оскорблениями, а сам великий Гилберт Фолиот, талантливый государственный деятель, использовавший все свое мастерство, опыт и ученость в борьбе с Фомой Бекетом, проиграл, по крайней мере по мнению современников»27. Как ни странно, мы сравнительно мало слышим о школах этих соборов, и ни одна из английских соборных школ, собственно говоря, так и не превратилась в университет.
В Испании самым значимым был Толедский собор, хотя следует упомянуть и о библиотеке Барселоны, переводах арабской астрологии под руководством епископа Михаила Тарасонского (1119–1151) и «Кодексе Каликста» (Codex Calixtinus), хранящемся в великом паломническом центре Сантьяго-де-Компостела и важном для истории каролингского эпического цикла. С возвращением былого первенства в 1085 году в результате христианской Реконкисты Толедо стал местом естественного обмена знаниями между христианами и мусульманами. В этом древнем центре научного знания «можно было найти богатейшие собрания арабских книг и множество людей, владевших обоими языками. Стараниями мосарабов и местных евреев здесь расцвели школа перевода арабско-латинской литературы и наука, притягивающая жаждущих знаний со всей земли… и поставившая подпись Толедо на многих наиболее известных переводах арабских учений»28. Во всем этом самое деятельное участие, по всей видимости, принимал архиепископ Раймунд (1125–1151). За философскими переводами последовали труды по медицине, математике, логике и астрономии; и если связь архиепископа с величайшим из этих переводчиков, Герардом Кремонским, прямо не устанавливается, то уже медицинские переводы его современника Марка, каноника Толедского собора, демонстрируют серьезный уровень учености в соборе конца столетия. Фигура Герарда примечательна еще и тем обстоятельством, что большинство переводчиков, работавших в Испании, были иностранцами; интересно и то, что они отправлялись на поиски «мудрейших философов мира» в Толедо, независимо от того, работала ли там формально соборная школа.
В Германии и Италии дела обстояли иначе. Борьба за инвеституру нанесла серьезный ущерб более ранним культурным центрам, таким как Льеж. XII век стал периодом интеллектуального упадка в Германии, как среди мирян, так и среди клира. Великие прелаты занимались политикой, причем, как в случае с рейнскими архиепископами, были погружены в нее с головой. Кристиан Майнцский был послом Фридриха Барбароссы в Италии, куда Райнальд Кельнский сопровождал императора, взяв с собой Архипииту и вернувшись с обогатившими соборную сокровищницу мощами трех волхвов. Возвышение Фрейзинга при епископе Оттоне происходило скорее благодаря его личности, нежели вследствие институционального развития. Оттон и в самом деле был совершенно исключительной фигурой. Во Франции он познакомился с новой диалектикой и стал первым, кто ввел ее в Германии. Он был монахом и епископом, братом Конрада III и дядей Фридриха Барбароссы, почти придворным историком, повествующим о событиях, которые он наблюдал дома, в Италии и на Востоке29.
В Италии высшее духовенство также занималось политикой – как на местном, так и на имперском уровне. Вовлечение в нее возрастало по мере того, как все более ожесточенной становилась борьба гвельфов и гибеллинов, что в итоге привело к тому, что Италия утратила интеллектуальное лидерство, характерное для нее в предшествующую эпоху. Редко можно было встретить такого епископа-историка, как Ромуальд II Салернский (1153–1181), автор ценнейшей всеобъемлющей «Хроники», которая устами очевидца рассказывает о важнейших событиях истории Сицилийского королевства. Не менее примечательна внушительная «Книга братии» (Liber confratrum) кафедрального собора Салерно, которая к концу XII столетия насчитывала порядка 12 000 имен. Но это памятник скорее местной номенклатуры и палеографии, чем интеллектуальной деятельности, и те иностранцы, которые фигурируют в этой «книге жизни», несомненно, были привлечены в Салерно его врачами, а не соборным духовенством. Архиепископ миланский Петр Хрисолан, дискутировавший о богословии с греками в Константинополе в 1112 году, был и вовсе исключительной фигурой; его преемники уделяли больше внимания вопросам управления и сложностям миланской и ломбардской политики, чем амвросианскому обряду.
Что касается двора как интеллектуального центра, феодального или королевского, то здесь представления могут разниться. Около 1155 года поэт Низами из Самарканда провозгласил, что правильно организованный двор должен иметь четыре категории образованных людей – секретарей, поэтов, астрологов и врачей: «Дела королей не могут вестись без компетентных секретарей; их триумфы и победы не будут увековечены без красноречивых поэтов; деяния монархов не увенчаются успехом, если они не будут осуществляться в периоды, признанные проницательными астрологами благоприятными; здоровье же, основа всякого счастья и деятельности, может быть обеспечено только услугами способных и заслуживающих доверия врачей»30. Все это звучит немного по-восточному и замысловато, хотя даже на Западе в XIII веке большинство дворов имело своих астрологов – граф Честер уже в XII веке, – а остальные три категории существовали и раньше, но в менее бюрократической форме. Двор мелкого сеньора, не умевшего ни читать, ни писать, в интеллектуальном плане оставался примитивной средой. Тем не менее при нем всегда был по крайней мере капеллан, способный и мессу отслужить в часовне, и написать необходимые письма, а со временем этим начал заниматься канцлер или секретарь, поскольку делопроизводство разрасталось, а архивы требовали внимания. В самом деле, канцелярия на регулярной основе стала верным показателем управленческого развития. Наставник, как, например, у молодого Генриха II при дворе его отца или дяди, был такой же редкостью, как и изучение книг принцами. Поэта или жонглера, как правило, легко можно было найти, но только если мы готовы расширить значение этого слова, понимая под ним кого угодно, начиная от придворного шута или дурака и заканчивая профессиональным трувером или трубадуром, и при этом принимать его в небольших домохозяйствах не за постоянного, а за случайного гостя. «Путь долгим был, и ветер ярым, а менестрель – бессильным, старым»31. Этого в любом случае было достаточно, чтобы двор стал потенциальным источником как народной, так и латинской литературы. Сакральные и мирские элементы, однако, не всегда идеально сочетались. Какого бы мнения касательно будущего архидьякона ни придерживались писатели-клирики, в отношении жонглеров они соглашались, что те «ни полезны, ни добродетельны» и «лишены надежды на спасение». Так, как всегда, верный своей древности Иоанн Солсберийский замечает, что актеры и шуты его времени скорее подражают непристойностям Нерона, чем благородству Августа и античному театру. Великие праздники, такие как коронация, свадьба, посвящение в рыцари или даже три ежегодных заседания Большого королевского совета, собирали то, что хронисты назвали бы «бесчисленным множеством жонглеров и актеров». Провансальский роман «Фламенка» (Flamenca) 1234 года подробно перечисляет истории, которые они могли рассказать, – от Трои, Фив и Александра до Голиафа и Артура, Карла Великого и Горного Старца32. Двор всегда оставался центром литературного меценатства, постоянного или периодического, и не в меньшей степени центром историописания, как это будет показано в следующей главе. Что касается литературы, то в отсутствие книжного рынка придворное покровительство было первостепенной необходимостью для тех, кто не имел стабильного церковного дохода. Зачастую это было и лучшим способом достичь определенного положения в церкви.
Процесс феодальной консолидации в этот период поднял многие из таких дворов в качестве административных и интеллектуальных центров до более высокого уровня. На юге примерами могут служить различные центры провансальской поэзии. При этом не следует забывать о таких государях-поэтах, как Гильом IX Аквитанский, и тех, кто поэтам покровительствовал, как его внучка Элеонора. У графов Шампанских был свой ученый двор, для которого в 1167 году переписали произведения Валерия Максима, а многие из них, например Тибо IV, были выдающимися поэтами. Даже такой мелкий сеньор, как граф Гин, мог позволить себе содержать собственного историка, священника из Ардра (с которым мы встретимся позже), переводившего на французский Гая Юлия Солина и других античных классиков. В Саксонии же культуру поддерживал Генрих Лев, правда, лишь до тех пор, пока не покидал пределы своей страны. В Англии видным почитателем литературы был граф Роберт Глостерский. Ему были посвящены исторические труды Уильяма Мальмсберийского и эпохальная «История бриттов» капеллана Гальфрида Монмутского, открывшего восхищенному графу кельтский эпос. Немногим позже «каждый английский барон держал свой штат клерков», хотя «совершенно очевидно, что немногие из баронов, не являвшихся при этом придворными чиновниками, знали какой-либо язык, кроме нормандского французского»33.
Своего апогея англо-нормандская бюрократия, восходящая к Вильгельму Завоевателю, запомнившемуся «Книгой Страшного суда», а также своим менестрелем Тайлефером, тем, «что песен много знал»34, достигает при Генрихе II (1154–1189), хозяине империи, простиравшейся от шотландской границы до Пиренеев, и, вероятно, самом могущественном монархе своего времени в латинском христианском мире. Хотя его владения не имели единой столицы в современном смысле слова, финансы и правосудие располагались в фиксированных центрах, таких как Вестминстер и Кан, которые король часто посещал. В них производили конкретные финансовые, судебные и канцелярские процедуры, которые требовали настолько большого числа должностных лиц, что один современник уподобляет их армии саранчи. Когда король устраивал большой придворный праздник, как, например, на Рождество 1182 года в Кане, он мог потребовать от своих вассалов, чтобы те, покинув собственные дворы, присутствовали у него. Кроме того, Генрих был человеком образованным, воспитанным в доме своего дяди Роберта Глостерского и знакомым со многими языками Европы – от Ла-Манша до Иордана. Он располагал широкими международными связями, его дочери были замужем за правителями Саксонии, Сицилии и Кастилии, и объединение этих различных земель в одних руках способствовало взаимопроникновению германских, кельтских, французских и провансальских культурных элементов. Будучи покровителем литературы и менестрелей, он имел собственного официального хрониста. Кроме того, многое из того, что, видимо, обсуждалось за королевским столом, затем оказалось на страницах сочинений Вальтера Мапа. А еще есть масса документальных записей, полнота и точность которых вызывают справедливое восхищение. Из множества книг, написанных при его дворе, десятка два было посвящено ему самому: немного богословских, немного научных трудов, народная поэзия, возможно, что-то из медицины, большое количество исторических книг на латыни и французском, а также две работы, описывающие его систему правосудия и финансов, – уникальные памятники высокому уровню развития организации управления при Генрихе. Бессистемная дележка имущества достигала в те времена больших масштабов, но даже такие случаи были систематизированы Генрихом I в «Устройстве королевского двора» (Constitutio domus regis), самом раннем из многочисленных постановлений в отношении домохозяйства европейской королевской семьи, где указывалось, что каждый из большого числа чиновников имел свою ежедневную порцию хлеба, вина и огарков свечей – и так на всех уровнях, начиная с канцлера и заканчивая начальником скриптория и капелланом. Таким образом, Палата шахматной доски совмещала тщательный учет своих чиновников с полугодовыми публичными отчетами, которые должны были быть понятны и присутствующим при этом неграмотным шерифам.
Сицилийский двор был, несомненно, более бюрократичен. Его отличал ярко выраженный восточный колорит, настолько же византийский, насколько и арабский, а многочисленные придворные астрологи и поэты, арабские врачи и говорящие на разных языках секретари способствовали воспроизведению того антуража, описанного поэтом из Самарканда, с которого мы начали. Делопроизводство при дворе, как на латыни, так и на греческом и арабском, требовало большого штата опытных секретарей и постоянного хранилища в Палермо. Дворцы поражали красотой мусульманского Востока, а быт напоминал об интимности гарема. Интеллектуальное влияние Сицилии соответствовало ее географическому положению и возможностям. Место встречи Севера и Юга, Востока и Запада, Сицилия была благодатным источником переводов с греческого и арабского и даже местом создания произведений на этих языках. Ее первый король, Рожер II, увлекался географией и руководил подготовкой большой карты аль-Идриси с сопроводительным текстом на арабском языке. При его преемнике Вильгельме I главные переводчики, Аристипп и Евгений из Палермо, служили в королевской администрации. Правление Фридриха II (1198–1250) переносит нас в более поздний период, но он в значительной степени стал кульминацией предшествующего. Колыбель итальянской поэзии, двор Фридриха продолжил арабские традиции своих предшественников, причем космополитические научные и философские вкусы самого Фридриха были сицилийскими настолько же, насколько и личными. Все эти вопросы нам необходимо будет рассмотреть в следующих главах35.
Менее бюрократические дворы не так для нас сейчас важны, поскольку их кочевой характер воспрепятствовал формированию центра ведения документации, историописания и придворной литературы в целом. Среди таких центров империя в лице Фридриха Барбароссы и его сына Генриха VI занимает первое место. Оба были людьми с интеллектуальными потребностями, оба особенно поощряли официальную латинскую поэтическую историографию, о чем мы поговорим позже. В самом деле, таких текстов за их время сохранилось больше, чем за время правления их более даровитого преемника – Фридриха II. Французская монархия едва ли могла похвастать ролью покровителя учености, в то время как в Испании для этого придется ждать появления Альфонсо X Мудрого в конце XIII века.
Начислим
+30
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе