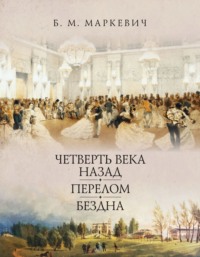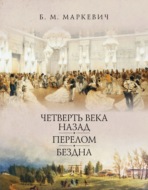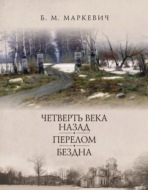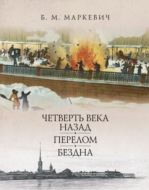Читать книгу: «Четверть века назад. Книга 1», страница 12
– И я знаю, – прервал ее страстным взрывом Ашанин, – знаю, что вы меня с ума сведете!..
– Перестаньте, пожалуйста, вы мною увлечены, – верю… все мною увлекаются. – Ольга засмеялась вдруг, – но вы сейчас сами, на балконе, говорили мне…
– Я говорил вздор! – горячо воскликнул он. – Я не слыхал, как вы поете… я не знал вас!.. А теперь, – голос у него прервался, – теперь скажите слово, и я вас… завтра же… поведу к венцу!..
Она вскинула на него свои блестящие глаза и опустила их опять под огнем его взгляда… Самодовольная, почти счастливая улыбка заиграла на ее губах. Ашанин видел, как под прозрачною кисеею заходила волной ее молодая грудь… Он ждал…
– Нет, – сказала она наконец, – вы мне не муж!..
Он чуть не вскрикнул…
– Нет, – повторила она и, еще раз подняв на него глаза, окутала его таким взглядом, что у него сердце запрыгало, – я бы вас слишком любила… а вы бы меня измучили! Ваша любовь на один час!..
– И час целый рай! – вскликнул Ашанин.
Она закачала головой и, полувздохнув, полуулыбнувшись:
– Нет, и я для вас не подходящая… слишком дорогая была бы для вас жена… Вы, кажется, не богаты?..
Он, забывшись, схватил ее за руку:
– Но это невозможно! Так между нами не может кончиться!
Ольга тихо отдернула из руки его свою…
– Я и не говорю… чтоб это кончилось, – проговорила она как бы бессознательно, и горячею краскою покрылось все ее лицо, – но об этом после… после!.. Она нас увидит! – кивнула она по направлению двери, откуда выходила Надежда Федоровна с пачкою писем и газет, только что привезенных из города…
В этот вечер Софья Ивановна уехала из Сицкого в таком состоянии духа, в каком себя еще никогда не помнила. Она не знала, чего хотела, чего в данном положении вещей следовало ей желать, что должна была она теперь делать или не делать… Нрав у нее был не менее пылок, чем у ее племянника. Одаренная силою для сопротивления, она была бессильна против обольщения чувства. Она была бессильна – и сознавала это – против обаяния Лины… «Она его любит или близка к тому! – говорила она себе и с ужасом спрашивала себя. – А потом что же – что ждет их?..» Но оторвать его от нее она была не в состоянии… Нервы были у нее возбуждены до крайности; прощаясь в передней с Сергеем, при всех, она призвала на помощь всю власть свою над собою, чтобы не разразиться слезами, и только шепнула ему на ухо: «Да храни тебя Царица Небесная!»… Но едва отъехали от крыльца ее лошади, она прижалась к углу приподнятого фаэтона и зарыдала… С Ашанина перед отъездом взято было ею слово внимательно наблюдать за приятелем и «в случае малейшей важности» тотчас же известить ее в Сашино или, еще лучше, «урваться и приехать самому, хотя бы ночью»… Себе она обещала, «если Бог благословит их на добрый конец», сходить пешком из Сашина к Троице – полтораста верст…
XXIII
1-Die Engel, die nennen es Himmelsfreud,
Die Teufel, die nennen es Höllenleid,
Die Menschen, die nennen es Liebe!
Heine-1.
Мучительные дни настали для князя Лариона. Он угадывал, он чуял встревоженным чутьем, что племянница его, Лина, уходит от него. Между им и ею что-то внезапно стало невидимою, но неодолимою стеною, – и в то же время, говорило ему это чутье, между ею и тем молодым человеком, которого он, ввиду грядущих случайностей, удалял из Сицкого, что-то уже спелось и пело на душе каждого из них несомненным и, может быть, – он содрогался при этой мысли – уже неразрывным созвучием… И тем сильнее сказывалось ему это что-то, чем неуловимее, неосязательнее были его признаки… Лина казалась еще холоднее, еще сдержаннее, чем прежде. С Гундуровым она говорила не более – менее, быть может, чем с другими; спокойные глаза ее так же безмятежно, казалось, останавливались на нем, как на Ольге, на Ашанине… на Шигареве… Но князь Ларион с глубокой тоскою замечал, что она избегала его глаз… избегала разговоров с ним. Давно уже, с самого возвращения в Россию, перестали они быть неразлучными; давно должен он был отказаться от тех долгих, дружных, блаженных для него бесед, что вели они в Ницце, сидя вдвоем на камне у морского берега… Но до сих пор все же урывались на дню хотя несколько мгновений, когда они оставались наедине, когда светлая душа ее раскрывалась перед ним с прежним доверием и нежностью… Теперь она закрывалась для него – она уходила, уходила… И он уже не смел спросить, не смел более допытываться. Он знал ее, эту чуткую и гордую душу; он тогда, тем намеком на выразительность ее пения – а тогда он не в силах был сдержаться, – нанес себе сам неисцелимый удар: в ответе ее он прочел надолго, навсегда, быть может, конец всему прежнему. Теперь она укутывалась в свою холодность и безмолвие, как то растение, что боязливо сжимает лепестки свои при отдаленном шуме идущей непогоды. Ему не было уже там места, и другой… другой… Кто он, зачем, какими обольщениями, в силу какого права завладеет он ею? Беспощадные змеи немощной старческой ревности сосали сердце князя Лариона… И он должен был молчать, таиться, не замечать… А он все видел, все угадывал!.. Он видел, когда на сцене Гундуров читал свои монологи, как каждый раз поникала взором Лина, чтобы никто не мог прочесть того, что сказали бы, может быть, ее глаза, – как одному его неотступному взору заметным трепетом вздрагивали ее плечи от горячего взрыва, от иного, вырывавшегося у Гамлета слова… Он бледнел каждый раз от выражения их голосов, когда в первой сцене своей с Офелией Гундуров говорил ей: «я любил тебя когда-то», а она ему отвечала: «я верила этому, принц!» – Неправда! – готов он был бешено крикнуть им, – твой голос говорит ей: я люблю тебя, а ее: я тебе верю; вы по-своему передаете Шекспира… А он улыбался, и ободрял, и искал случая к поправке, к замечанию, чтобы хотя на мгновение остановились на нем эти теперь немые для него глаза…
Он страдал невыносимо – а все сидел тут, на репетициях, глотая капля за каплею из этого отравленного кубка… «Он уедет, – инде прорывались у него лучи надежды, – через две недели отойдет это проклятое представление… а затем ему дадут понять… И сама Лина, – она знает, что мать ее никогда не согласится, – она поймет»… Но разве он, князь Ларион Шастунов, то же, что ее мать! – подымалась у него на душе прежняя буря, – разве у него с нею те же побуждения, те же чувства к ней, к Лине. Он уедет, этот молодой человек, все равно, – нет, еще хуже – он унесет с собою ее душу… Князь Ларион знал ее: она не забудет его, как не забыла отца, и, подчиняясь материнской воле, с памятью о князе Михаиле будет хранить память о нем до самого гроба!.. Легче ли от того будет ему, князю Лариону?..
«Театрик» между тем шел вперед и вперед. То, что на языке сцены называется ансамблем, уже достаточно обрисовывалось – и обрисовывалось удачно: исполнению драмы можно было заранее предсказать несомненный успех. Роли уже все были разучены, участвовавшие относились к делу своему с добросовестностью и прилежанием, редко встречаемыми между любителями… Но ведь к чему они и приступали, за что брались, сказывалось невольно в сознании каждого из них. Шекспир, «Гамлет», – «каждый торговец в городе», как справедливо говорил Вальковский, знал эти имена тогда и валил за толпою в театр, прочтя их на афише, – это были в те дни такие веские, обаятельные, царственные имена!.. Сам храбрый капитан Ранцов, в продолжение всей своей жизни, кроме устава о пехотной службе и «Таинственного монаха» Рафаила Зотова2, ничего не читавший, бредил теперь с утра до ночи своею ролью Тени и обещал режиссеру золотую цепочку к часам, если он его «на настоящую актерскую точку поставит». По счастливой случайности роли приходились по вкусу и по способности почти каждого из актеров. Княжна была идеальная Офелия. В игре Гундурова с каждым днем все шире и глубже выяснялся изображавшийся им характер, с каждой пробой становился он все сдержаннее, нервнее, – инсистивнее3, как выражался князь Ларион… Полоний-Акулин был превосходен. Чижевский был сам Лаэрт, пылкий, ловкий, блестящий, и каждый раз вызывал рукоплескания товарищей, когда в сцене возмущения вбегал, требуя «кровавой мести за смерть отца», и звенящим, как натянутая струна, голосом восклицал:
…Оба мира
Зову на бой, – и будь со мной что будет!..
Надежда Федоровна, Гертруда, не портила, хотя несколько мямлила и с непривычки не знала, куда девать руки. В знаменитой сцене с сыном она была холодна и холодила Гундурова, что приводило его в отчаянье. «Погоди, – утешал его Ашанин, – я вот ее в самый день представления самым жестоким образом разогорчу, и она будет тебе ныть от начала и до конца роли»… Он и не предчувствовал, как пророчески должно сбыться его обещание!..
Зяблин в роли Клавдио был почти хорош. Его печоринские взгляды из-под низу, сдобный голос и изнеженные приемы при разбойничьем лице довольно близко подходили под тип того лицемерного сластолюбца, игрока и бражника, «благочестивым видом сумевшего обсахарить скрытого в нем дьявола», каким Шекспир изобразил Гамлетова отчима. Но этого сахара перепускал он подчас уже столько, что «фанатик» Вальковский не выдержал однажды и крикнул ему из кулисы: «Да что вы, батюшка, злодея играете или патоку сосете?» – на что Зяблин только уныло плечами повел и глянул на бывшую тут княгиню, а она, в свою очередь, обиженно вздохнула, глянула на князя Лариона и проговорила, раздув ноздри: «Ne remarquez vous pas, Larion, que ce monsieur est très mal élevé4?»… Сам «фанатик» в «молодой роли» Розенкранца был невыразимо смешон и потешал Ашанина до истерики: он сжимал губы сердечком, щурил глаза, подбоченивался фертом и напускал удали и молодечества там, где ни по характеру лица, которое он играл, ни по смыслу положения и тени не требовалось чего-либо подобного. «Эко чучело, эка безобразина!» – хохотал Ашанин после каждого выхода его на сцену. Вальковский не смущался. «Погоди, брат, – отвечал он ему с торжествующей улыбкой, – приедет Василий Тимофеев, он меня не хуже тебя красавцем распишет!» Василий Тимофеев был театральный парикмахер, большой искусник своего ремесла и закадычный друг Вальковского, возлагавшего на него на время своих отсутствий по театрикам все свои дела, – а в том числе и надзор за «Маргоренькой», ужасно рябою и столь же легковерною швеей, которую «фанатик» готовил на сцену, на роли светских кокоток…
Известно, что ничто так скоро и коротко не сближает молодежь, как любительские спектакли. Короткости между нашими актерами содействовало еще и это их совместное житье в Сицком, в богатом, привольном доме, где каждому предоставлялось брать на свою долю настолько удовольствия, насколько хватало у него на это сил и желания. Княгиня Аглая, в подражание своим английским образцам, предоставляла гостям своим полную свободу: они целым обществом, дамы и мужчины, катались верхами, удили рыбу, ездили по вечерам в дальние прогулки, в которых не всегда принимал участие князь Ларион, а сама хозяйка никогда. Ленивая и отяжелевшая, она почти не выходила из своего будуара, где с утра до вечера пила чай в компании неизбежного Зяблина и куда, разумеется, никому не приходила охота идти ее тревожить. Только по утрам Лина являлась с «bonjour, maman», целовала ей ручку – и почти тотчас же уходила. Мать почти никогда не говорила с ней, не потому, чтобы имела какие-нибудь причины недовольства ею, а просто потому, что не находила предметов разговора с дочерью. 5-«Elle est trop sérieuse, – поверила она «бриганту», вздыхая и томно улыбаясь, – elle n’a pas d’enjouement dans le caractère, comme moi-5!» Потом приходил князек, сын ее, разодетый как на картинке, с mister Knocks’ом, который ни на каком, кроме английского, языке не говорил и которого она, и с воспитанником его, отпускала так же очень скоро, потому что никак не могла сказать ему того, что хотела, – да Ольга Елпидифоровна по нескольку раз в день забегала к ней под разными предлогами, теша ее своими жантильесами6. Смышленая барышня, отчаявшись вернуть расположение князя Лариона, – он вовсе перестал даже говорить с нею, – заискивала и юлила теперь перед княгиней более, чем когда-нибудь… В то же время она всячески набивалась в наперсницы к «другу своему, Лине», и хотя это ей очень мало удавалось, – княжна, как она ни билась, не делала ей никаких конфидансов1, — она сама от себя, из злости к «противному старикашке», употребляла всякие усилия и средства, чтобы «сближать» Лину с Гундуровым: старалась находить случаи, когда б они могли быть подолее вместе; искусно отводила тех, которые могли бы помешать их беседе, когда представлялись такие случаи; распоряжалась так, чтоб нашему герою непременно досталось место подле княжны на линейке, которая везла их в лес или на тоню8, на Оку… Княжна, по-видимому, не замечала этих услуг и даже большею частью не пользовалась теми «удобными» случаями, которые ловкая особа доставляла ей в возможном изобилии, – но не всегда же она от них уходила, не всегда же находила силу избегать их… Иногда, налету, глаза ее встречались с глазами Сергея, – с глазами, полными бесконечной мольбы, – и безвластно шла она занять подле него место в экипаже, и долго потом ехали они, молча и не смея уже более поднять глаз друг на друга. И что бы в эти минуты могли они друг другу сказать? За них говорила вся эта молодая природа, что цвела и пела вокруг них, окрапленная живительною влагой, озаренная солнцем весны: широкая даль речного разлива, сладкий шелест молодых дубов, соловей, урчавший в кусте дикой малины, мимо которого, когда на померкавшем небе загоралась первая звездочка, проезжали они на возвратном пути в усадьбу…
XXIV
Они ехали таким образом однажды рядом в большом обществе. Сидевший спиною к ним по другой стороне линейки Духонин, вдохновленный красотою вечера, читал немецкие стихи соседке своей, Надежде Федоровне:
– 1-Ich hatte einst ein shönes Vaterland.
Das Eichenbaum
Wuchs dort so hoch, die Veilhen nickten sanft, —
Das war ein Traum-1. —
донеслось до слуха их.
– Это из Гейне… И прелестно! – молвил Гундуров. Духонин продолжал:
– Es küsste mich auf deutsch, und sprach auf deutsch:
(Man glaubt es kaum
Wie schön es Klang) «ich liebe dich…»
Das war ein Traum!..
– Здесь… в отечестве, лучше! – проговорила вдруг Лина как бы про себя, как бы отвечая на какой-то свой собственный, не выговоренный вопрос.
У Гундурова забилось сердце – он вспомнил тот первый их разговор, – это был теперь для него ответ на то, до чего еще бессознательно допытывался он тогда…
– Лучше, Елена Михайловна? – повторил он, стараясь заглянуть ей в лицо. – Лучше?..
Но она не отвечала его взгляду. Ее синие, задумчивые глаза глядели вперед на бедное селение, на которое они держали путь; хилые очертания его почерневших соломенных крыш вырисовывались уже отчетливо из-за пригорка в багровых лучах заката…
– Да, – сказала она, не оборачиваясь и откидывая вуаль, которую ветер прижимал к ее лицу, – там, в Германии, в Европе, – все так узко… Покойный папа говорил: там перегородки везде поставлены… А здесь… Здесь каким-то безбрежьем пахнет…
– У вас удивительные свои выражения, княжна! – воскликнул Гундуров.
Она опять улыбнулась, все так же продолжая не глядеть на него.
– Я знаю, я очень нехорошо говорю по-русски; я совсем еще по-писанному говорю… Но с вами – голос ее чуточку дрогнул, – я не могу говорить не по-русски…
– Вы удивительное существо, Елена Михайловна! – с юношеским восторгом заговорил Сергей. – Вы, воспитанная на Западе, в чужеземных обычаях и понятиях, вы каким-то чудным внутренним чутьем проникаете в самую глубь, в самую суть предмета… Да, в Россию надо верить2! Там все сказано, все отмерено, везде столбы и «перегородки» поставлены, и народы доживают, задыхаясь, в путах бездушной, тесной, материальной, переживающей себя цивилизации… Наше будущее «безбрежно» – как это вы прекрасно сказали! – как и наша природа. Нам, славянскому миру, суждено сказать то последнее слово вечной правды и любви, на какое уже неспособен дух гордыни и себялюбия западного человечества…
– А пока, – засмеялся вдруг Духонин, прислушивавшийся со своего места к их разговору, – а пока, любезный друг, соберемся мы сказать это слово, мы, как оказывается, и самовара-то нашего выдумать не умели, и «народы» наши (он повел при этом рукою на жалкую деревушку, мимо которой проезжали они) живут чуть ли не беспомощнее и плачевнее, чем это «западное человечество» в пору каменного века.
Гондуров досадливо обернулся к нему:
– Не среди мраморных палат царственного Рима, – молвил он с сияющими глазами, – не мудрецами, веровавшими в его вечность, найдена была та божественная истина3, что должна была спасти и обновить погибающий мир: возглашена была устами нищих рыбаков далекой страны, которую точно так же за бедность ее и невежество презирали кичившиеся богатством своим и культурою избранные счастливцы того века!
Духонин несколько опешил перед этим неожиданным, горячим доводом.
– «Блажен, кто верует, тепло ему на свете»4, – молвил он с натянутою усмешкою.
Лина, в свою очередь, обернулась к нему.
– В этом, кажется, все и есть, – промолвила она застенчиво.
– В чем это, княжна?
– В том… чтоб верить.
Он засмеялся и развел руками.
– Действительно, нам только это и остается, потому что иначе я бы мог, в pendant5 к не очень смиренному, сказать кстати, пророчествованию друга моего Гундурова о нашем великом будущем привести то, что говорят про нас на этом «погибающем и изживающем», по его мнению, Западе: «fruit pourri avant d’etre mur»6.
– Да, я это слышала, – тихо сказала Лина, между тем как Сергей опускал глаза, чтоб не выдать того чувства восторга и счастия, которыми исполняло его ее видимое единомыслие с ним, – но те, которые это про нас говорят теперь, ведь у них было тоже свое прошлое, и не всегда хорошо было в этом прошлом: были войны, и разорение, и невежество, и рабство, как у нас. Но, сколько я знаю, ни один из этих народов не отчаивался в своем будущем, а шел вперед, надеясь и веря, что со временем станет все лучше и лучше…
– Конечно, – быстро возразил Духонин, – потому что каждый из них чувствовал в себе серьезные жизненные задатки для такого будущего.
Она как бы с невольным упреком покачала головой.
– А у нас их нет? И мы в самом деле «fruit pourri», прежде чем еще созрели? Но тогда нам остается только отказаться от самих себя и отдаться в руки первому, кто захочет взять нас и переделать на свой лад…
– Отлично, Елена Михайловна, отлично! – воскликнул Гундуров. – Ну-ка, Духонин, кому будет вам угодно поднести нас: немцам, шведам, католической Польше или всем уж им разом, на дележ?
– Вывод ваш, однако, княжна; я прошу вывода! – сказал на это, засмеявшись, московский западник.
Лина заалела, заметив, что все на линейке примолкли, прислушиваясь к ее словам.
– Все то же, что я уже сказала, – промолвила она, опуская глаза, – Россия, мне кажется, может ждать великого будущего только от тех, кто будет твердо верить в нее, а не отчаиваться в ней.
– Кладу пред вами оружие, княжна, – сказал Духонин полусерьезно, полушутя, – против этого аргумента возражения сейчас не придумаешь.
Сергей ничего не сказал, но он едва удержался, чтобы не соскочить с линейки и тут же на ходу припасть к ее ногам…
Долго еще потом звенело волшебным звуком в его ухе каждое из сказанных ею слов в этом разговоре, и повторил он их с сладостным замиранием сердца.
«Она чувствует по-русски, а мыслит по-европейски», – определял он себе Лину в те редкие часы, когда сам он был в состоянии думать о ней, а не чувствовать ее, – таких еще у нас долго не будет женщин… да и не одних женщин»… Он был прав: тщательное, под руководством просвещенного отца, воспитание за границей, серьезное чтение, постоянное общение с высокообразованными умами, находившимися в близких сношениях с князем Михайлой, – все это сказывалось в ней чем-то не легко выражающимся словами, но проникавшим ее всю, как запах иных, отборных духов, чем-то невыразимо тонким, нежным, идеальным в помыслах ее, в речи, в каждом из ее движений. В ней угадывалось – именно угадывалось — присутствие той высшей культуры ума и сердца, что так мало походит на казовую русскую образованность, на русское воспитание спустя рукава, скользящие по поверхности предметов и явлений и не умеющие сладить ни с каким делом и ни с каким чувством. И именно потому, может быть, что в ней так мало было русского воспитания, чувствовала себя так русскою Лина; потому именно, что не скользила она по поверхности вещей, а привыкла смолоду вдумываться в них, ей было так «узко в Германии…», и полюбить могла она только сына этой ее бедной, темной – и с юных лет неотразимо манившей ее к себе своим «безбрежьем» – родины…
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+29
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе